Добавлено в закладки: 0
Глава 7
Как незаметно, как быстро пролетает месяц! Снова пора ехать к маме в Находку. Когда мы возвращаемся оттуда домой после очередного посещения, я чувствую огромное облегчение, и мне кажется, что, ну вот, теперь целый месяц впереди. Конечно, я думаю о маме, регулярно спрашиваю управляющую о ней, её самочувствии, настроении, и мама постоянно мне снится. Но всё-таки это совсем другое, всё-таки это целый месяц спокойствия. А когда эти тридцать дней проходят, и снова пора ехать к ней, я начинаю нервничать.
Нервничаю я потому, что знаю, что она снова будет спрашивать, когда мы поедем домой. Нервничаю потому, что снова увижу беспорядок в её комнатке: она не позволяет нянечкам трогать её вещи, а сама рассовывает их по всем углам, прячет, чтобы «не стащили». Нервничаю, потому что мне больно видеть её такую: совсем уже старенькую, сгорбленную, совершенно седую (дома я красила ей волосы, теперь, конечно, никто этого не будет делать), с потухшим и потерянным взглядом. Если бы можно было не ездить туда совсем! Но так нельзя. Я это понимаю умом и чувствую сердцем. И если бы у меня была возможность, наверное, я навещала бы её чаще. Но возможности пока нет. Находка далеко. Я сама не вожу машину. И главное – я не могу это себе позволить по той простой причине, что это обходится дорого.
Мне очень неприятно об этом говорить, да даже думать об этом тяжело, но сейчас в моей жизни именно тот период, который называют «быть на мели» или «сводить концы с концами». Я предпочитаю называть это именно так. Потому что фразу «нет денег» ненавижу всей душой. Мои родители её тоже ненавидели, и никогда, никогда в нашей семье она не звучала.
Зато у маминой сестры, моей тёти Тани слова «Нет денег!» просто не сходили с уст и были чем-то вроде заклинания. Когда бы мы ни приходили к ней в гости, это было самым первым её сообщением, и в течение всего разговора она ещё как минимум два-три раза непременно возвращалась к этой фразе. Причём, произносила её с каким-то даже наслаждением, со вкусом, с драматической и в то же время торжественной интонацией. Тот факт, что она жила на широкую ногу и покупала исключительно дорогие продукты, вещи, и летала два раза в год к своему любовнику в Абхазию, видимо, ничего не менял в её восприятии собственного финансового положения. Мама высказывала догадку, что всё-таки эта фраза была не констатацией реального положения дел, а действительно «заклятием», «оберегом» от завистливого и дурного глаза. А может быть, тётя боялась, что мы станем просить взаймы, хотя, насколько я помню, мои родители никогда этого не делали. Мама, надо отдать ей должное, была гениальным семейным финансистом, потому что двух довольно небольших родительских зарплат всегда хватало. Более того, мама умудрялась ещё что-то откладывать, так что летом было на что полететь в отпуск, да и любые непредвиденные расходы тоже можно было с лёгкостью покрыть. Хотя, конечно, в советское время этих непредвиденных расходов как-то почти и не было. Не то, что теперь. Теперь они случаются регулярно. И если раньше мы с Владом тоже особо не парились насчёт непредусмотренных месячным бюджетом трат, то сейчас настали другие времена.
Две наши главные статьи расхода, которые не отменить, не отсрочить и не сократить даже на чуточку — ипотека и плата за мамин пансионат. Они заставляют постоянно думать о деньгах и бесконечно, уже на автопилоте, производить мысленные подсчёты, соображая, в чём же на этот раз придётся себе отказать, чтобы уложиться и избежать самого страшного – влезания в долги. Просить кого-то дать взаймы для нас обоих равносильно катастрофе, поэтому каждый раз, когда со счёта снимаются две неизбежные фатальные суммы и после этого остаётся ещё чуточку «на жизнь», мы «выдыхаем», словно атлет после спринта, и снова становимся на «низкий старт» перед следующим забегом.
У меня лично такое положение дел впервые в жизни. Никогда раньше не приходилось мне день и ночь думать о том, как свести концы с концами, никогда не испытывала я страха, что денег не хватит. Это очень похоже на то чувство в детстве, когда в магазине мама отправляет в соседний отдел купить сливочного масла, пока сама стоит в очереди за курами, и даёт денег ровненько на триста грамм, а продавщица отрезает кусок побольше. И ты смотришь с ужасом на длинную красную стрелку весов, которая дерзко качнулась на отметку 350 грамм, и срываешься с места, к маме, сказать, что не хватило, не хватило! А продавщица, эта грудастая хранительница огромного ножа и гири, грозно смотрит тебе вслед. Только сейчас не побежишь ни к маме, ни к кому-то ещё, чтобы добавили денежку и спасли.
«Люди всю жизнь так живут» — говорит Влад. Я знаю, только меня это не утешает. Утешает лишь надежда на то, что все наши трудности временные. Что всё изменится. Хотя, конечно, я понимаю, что изменится не так скоро. Возможно, нам придётся опуститься на самое дно, дойти до той самой точки, когда уже не спасёшь положение дел, полностью отказавшись от маникюра в салоне и заменив наполнитель для кошачьего туалета на самый дешёвый. Может быть, придётся донашивать чужую одежду (хотя, в этом моменте мне не привыкать – сколько я донашивала маминых вещей). Может быть, придётся «есть одну гречку», по любимому выражению моей двоюродной сестры, у которой тоже постоянно «нет денег».
Но только бы не начать самим произносить эту мерзкую фразу, потому что, мне кажется, если уж сядет она на язык, то это навсегда. Я каюсь, что не верила этим словам и с презрением смотрела на тех, кто так говорил. Может быть, за это и наказана, — за свою гордыню, которая, как известно, самый тяжкий грех. И всё равно, себе я не разрешу произносить такие слова. За последние годы я отказалась от многих своих, так называемых, «принципов», которые строились на предрассудках, усвоенных с детства, но всё же что-то должно оставаться, особенно если ты сам в этом по-прежнему искренне убеждён.
***
Дорогу на Находку ремонтировали всё лето и осень, и вот теперь, в декабре по ней уже можно проехать без многочасового стояния в пробках. И всё равно мы едем долго: двигатель в нашем Паждеро Мини слабенький, да и не любит Влад гонять: «Тише едешь, дальше будешь», особенно учитывая, что на серпантинах под Шкотово и самой Находкой довольно-таки опасно. Ползём как черепашки. Недалеко от Тихаса (так раньше в народе называли поселок Тихоокеанский) останавливаемся около пляжа, пьём из термоса чай и смотрим на неторопливо скользящие к берегу длинные узкие волны, обрамлённые белоснежной пеной. Здесь очень красивые места. Впрочем, по всему Приморью бесконечно много красивых мест, таких пейзажей, от которых дух захватывает, и каждый раз, когда я созерцаю эту красоту, мою радость и восторг омрачает одна мысль: «Как жаль, что мама и папа этого не смогут увидеть!» Мы много где побывали вместе, но вот по нашему краю почему-то совсем не ездили, наверное, потому, что у нас не было своей машины. Мама называла это: «мы – безлошадные». Теперь с Владом мы часто путешествуем по Приморью, особенно в последние два года: сначала дальние поездки прервались из-за пандемии, а потом стало просто не на что.
Зимняя Находка, конечно, не так очаровательна, и уже не напоминает мне уютные крымские города с их замысловатым рельефом и утопающими в зелени белоснежными, старой постройки домами. И рельеф, и дома, разумеется, на месте. И море тоже – такое пронзительно синее даже под выцветшим зимним небом. Но без пышной листвы и цветов город всё-таки кажется сереньким и унылым. Его украсил бы белый-белый искрящийся снег, да только снег на юге Приморья – редкость, особенно в последнее время. Выпадет один-два раза за всю зиму, вывалит сразу всё, что выписано в небесной канцелярии, парализует движение транспорта на пару дней, а потом – что-то выдует ветром, что-то растает под ярким солнышком, и всё – снова серо, пыльно, уныло.
Влад паркует машину около пятиэтажек, уютно примостившихся на спине высокого утёса. Ворота пансионата – чуть поодаль, и от них – буквально несколько шагов до края скалы, у подножья которой гулко шумит прибой. Сторож выходит из своего фургончика, подозрительно щурит на меня светло-голубые глаза, а губы подрагивают, готовые расплыться в улыбке, изо всех сил сдерживаемой должностными обязанностями и правилами внутреннего распорядка.
В маминой комнатке, как всегда, немного сумрачно. Окно выходит на восток, и утром, наверное, комната залита светом, а после обеда, когда я обычно приезжаю, тут тень. Две аккуратно застеленные кровати, две тумбочки, шкаф, маленький холодильник. Всё полностью в мамином распоряжении: ни одну соседку она не захотела терпеть, и администрация пошла навстречу пожеланиям своей постоялицы. Да и как не пойти? Не каждая старушка станет выбегать в коридор с криками: «Уберите ЕЁ отсюда! Уберите немедленно! Я не буду с НЕЙ жить!» За последние десять лет она привыкла быть одна: сама себе хозяйка в двухкомнатной квартире. Её можно понять.
Мама сидит на краешке своей кровати у окна и внимательно смотрит, как я достаю из пакета привезённые вещи. На голове её неизменная белая косынка, — она и дома постоянно покрывала волосы ситцевым платочком, завязывая его по-украински, — и из-под неё выбиваются серебристые прядки. Волосы ей, кстати, очень сильно укоротили: остался совсем маленький хвостик, стянутый резинкой. Незадолго до того, как привезти маму сюда, я тоже подстригала ей волосы: пришлось, потому что она много дней их не расчесывала под своей косынкой, и в конце концов образовался колтун. Я целый час пыталась его распутать, а потом то, что распутать не удалось, осторожно состригла.
Я вытаскиваю и складываю на кровати новое нижнее белье, носочки, выкладываю на тумбочку упаковку косметических салфеток, мыло, тюбик крема для рук. Мама наблюдает тревожно.
— Убирай, убирай всё это сразу! Прячь! – шепчет заговорщически. – Всё стащат. Ничего не останется. Тут, знаешь, какое ворьё кругом! Вот загляни в шкаф – пусто, вещей нет. Всё стащили.
Я открываю дверцы шкафа: там действительно почти ничего нет. Может быть, забрали в стирку? Но не всё же сразу. Я оглядываю комнату. На соседней кровати под покрывалом что-то возвышается. Откидываю покрывало и извлекаю свёрнутые юбку, колготки, рубашку… Ночная сорочка запихана за матрас у изголовья. Осенние замшевые ботинки обнаруживаю в холодильнике, который не включён и, по-видимому, служит сейфом для особо ценных вещей. Зимних сапог нигде не вижу.
— А в чём ты выходишь на улицу сейчас? Может быть, нянечки просто их забирают?
Она разводит руками, качает головой:
— Тут ворьё, ворьё кругом. Сапог нет, стащили. И всё, что ты принесла, стащат, ничего не будет!
Зимние сапоги я нахожу в углу около балконной двери, за шторой. Мыло, которое я привозила в прошлый раз, упаковка салфеток, флакончик с туалетной водой, — всё запрятано в самую глубь тумбочки, на нижней полке, закрыто сверху какими-то тряпками. Тут же — раскрытая и недоеденная, забытая шоколадка. Тут же – стеклянная кружка с остатками сока или компота на дне. Скомканные обрывки туалетной бумаги. Чистые, слава богу: мама теперь использует туалетную бумагу вместо носовых платков. Я извлекаю всё это из тумбочки, выбрасываю мусор. Нужное расставляю и раскладываю на виду, отмываю кружку и ставлю её рядом с графином на широком подоконнике. Аккуратно развешиваю всю одежду на плечиках, брызгаю в шкаф туалетной водой. Мама безучастно наблюдает за моими действиями. Ей всё равно. Когда, почему так случилось, что ей стало всё равно?
Я никогда в жизни не встречала человека, столь помешанного на порядке, как мама. Всё у неё всегда было по полочкам, всё по струночке, ничего лишнего, никакого хлама. Она всегда чётко знала, где и что у неё лежит, с точностью до миллиметра. И тщательно следила, чтоб все было чистое и хорошо пахло. В шкафах – ароматные саше, пластинки от моли в специальных марлевых мешочках, вся верхняя одежда накрыта чистыми, отутюженными тканевыми чехлами. Обувь хранилась в коробках, вымытая, начищенная и смазанная специальным кремом. Меховые шапки, шляпы – на двухлитровых банках для сохранения формы, и накрыты отутюженной марлей. Все пояса и ремни – в рядок на перекладине на внутренней стороне дверцы шкафа. Белье на полках переложено лавандой. Колготки, скрученные в «бутоны», — в отдельной картонной коробке. И ещё она всегда заботилась о том, чтоб в квартире было просторно, светло, свежо. В интерьере – ничего лишнего, предельный минимализм. Крашеный деревянный пол, выбеленные извёсткой стены. На окнах – всегда открытых, в любую погоду и любое время года – светлые шторы и прозрачный лёгкий тюль. На открытых полочках шкафов стояли безделушки: фарфоровая собака-пепельница (в ней хранились запасные крючки для тюля), деревянная матрёшка-игольница. Но их было совсем мало, чтоб было удобно вытирать пыль. И всегда, во всём – идеальный порядок.
Мне эта мамина черта не передалась с генами, так, чтобы проявиться сразу и в полной мере. Но после того как моя одежда, сваленная в кучу на стуле, была пару раз сброшена на пол — «Разбирай!», а книжно-бумажный бардак в секретере также безжалостно вывален с его полок – «Если не приберёшь, все выкину в мусоропровод!», — любовь к порядку начала формироваться и во мне. И сформировалась весьма быстро. Однажды знакомая, которая впервые шла ко мне в гости, сказала со смехом: «А знаешь, я сразу узнала твой балкон — бельё по струночке развешено!»
Теперь мамина запредельная педантичность трансформировалась в столь же пламенную страсть всё прятать. Она тщательно и изощрённо скрывала свои ценные вещи от воображаемых воров, но поскольку через короткое время забывала, куда что засунула, и не могла найти, её опасения насчет «ворья» как бы сами собой подтверждались, отчего тревога и страх ещё больше нарастали. Но здесь, в пансионате она всё равно стала спокойнее, чем дома. Здесь тоже было «ворьё» и тоже «пропадали вещи», но это всё было не так опасно, потому что исходило не от меня, а от совсем посторонних людей. Дома она видела лишь во мне источник всех происходящих «странностей». Была уверена, что именно я, или же кто-то из моих знакомых подстраивал всё так, чтобы «свести её с ума».
***
Первый по-настоящему тревожный звоночек прозвенел полтора года назад, летом. Кажется, был август. Вечером мы, как обычно, созвонились и договорились, что я приеду завтра с утра и мы пойдем гулять и обедать в её любимое вегетарианское кафе. Мама была в хорошем настроении, даже шутила, и поэтому на следующий день я тоже собиралась к ней в приподнятом состоянии духа. Обычно я поднималась в квартиру, ждала, пока она закончит одеваться, помогала застегнуть босоножки, два-три раза по её просьбе возвращалась и проверяла, везде ли выключен свет. Но в тот день, едва зайдя через арку в наш просторный, залитый ярким солнечным светом двор, я увидела маму недалеко от подъезда: она беседовала с каким-то незнакомым высоким и полным мужчиной средних лет. Худенькая, чуть сгорбленная, в своей неизменной длинной серо-зелёной юбке, белой блузке и белой кружевной шапочке и с супермаркетовским пакетом руке (она носила его теперь вместо сумки: «Если кто-то полезет за кошельком, пакет зашуршит, и я услышу»). Она стояла и что-то увлечённо рассказывала этому дядьке, а он вроде и внимательно слушал, но даже со спины, по одной позе его было понятно, что он напряжён, растерян, и ему хочется сбежать.
Я подошла к ним, в душе радуясь тому, что вот сегодня мама сама так быстро собралась и даже вышла, но выражение её лица заставило меня насторожиться. Она оживленно говорила, жестикулируя свободной от сумки рукой, и даже улыбалась, но было в её лице что-то немного странное. Она не сразу заметила меня, увлечённая разговором (точнее, своим монологом), а когда заметила, как-то вся подобралась, выпрямилась, поджала губы и слегка прищурилась.
— Привет! – я взяла её под руку.
Она прищурилась ещё сильнее и выдернула свой локоть.
— Привет, привет. Ну, что? – с саркастической и даже чуть угрожающей интонацией.
Я похолодела. Я прекрасно знала эти её интонации, ничего хорошего они не сулили.
Мужик воспользовался моментом и, коротко попрощавшись, почти бегом ретировался.
— Что?… Ты так быстро собралась сегодня, молодец. Пойдём?
— Никуда не пойдём! – Она круто развернулась на месте и пошла обратно к подъезду.
— Почему? Что случилось?
— Это я тебя хочу спросить, что случилось. Что происходит постоянно в квартире? А?
Я постаралась говорить спокойно, несмотря на поднимавшуюся внутреннюю дрожь.
— Что же там происходит?
— Ну, тебе лучше знать! – В её голосе уже открыто звучала агрессия. — А я не знаю, что такое происходит! Все мои бумажки, все бумажки с номерами телефонов, которые лежали на журнальном столике, под салфеткой, они всегда там лежали, а теперь их нет. Кто их все из-нич-то-жил?!
Она произнесла последнее слово именно так: медленно, по слогам, двигая руками и пальцами, словно рвала на мелкие клочки эти бумажки. Я в панике старалась припомнить свою последнюю уборку у мамы, и как я протирала пыль на журнальном столике, и не выбросила ли я всё, что лежало там под телефонным аппаратом. Но нет, не выбросила: я много раз натыкалась на эту маленькую стопку потёртых уже, пожелтевших листочков, исписанных её разборчивым круглым почерком, но оставляла там же, на месте, понимая, что они ей нужны. Своими телефонными книжечками она давно почему-то не пользовалась, только вот этими бумажульками. На каждой из них самым первым был написан крупными цифрами, с таким нажимом на карандаш, что бумага чуть не прорывалась местами, номер моего мобильного, который мама, кстати, знала наизусть, так, что могла где угодно, на улице или в любом учреждении, попросить кого-нибудь мне позвонить. Себе мобильный телефон она принципиально не хотела приобретать.
Я глубоко выдохнула и постаралась говорить мягко и спокойно:
— Я думаю, что они там и лежат. Просто, может быть, далеко под салфеткой. Давай поднимемся и посмотрим, чтобы ты убедилась. И потом пойдем гулять.
— Нет уж. Мне не до прогулок. Ничего я смотреть не буду, нечего там смотреть! Ничего нет. Всё изничтожили. Нарочно. Чтобы меня с ума свести. И никуда я не пойду. Тут буду сидеть. — Она упрямо сжала губы и уселась на скамейку около подъезда.
Я стояла около и лихорадочно соображала, что ещё сказать, чтобы её переубедить, успокоить. Ощущение катастрофы, неуправляемого стихийного бедствия, когда ноги становятся ватными и сосёт под ложечкой, а в голове мысли начинают кружиться бешеным хороводом, так что ни за одну не зацепиться, — как оно было мне знакомо! В детстве я испытывала это каждый раз, когда родители начинали ссориться и кричать друг на друга. В юности — каждый раз, когда мама на меня обижалась и переставала разговаривать. С тех пор, как я ушла от неё, подобное ощущение появлялось пару раз, в самом начале моей самостоятельной жизни. Потом я стала его забывать.
— Мама, пойдём погуляем. Посмотри, какая хорошая погода. Потом покушаем в «Ганге», а вернёмся домой – и поищем твои бумажки. — Я сделала ещё одну попытку, надеясь, что она всё-таки согласится, и пока мы будем гулять, отвлечётся и забудет все свои страхи.
— Нет! Уходи, уходи отсюда! – она приподнялась со скамьи и, скорчив страшную гримасу, замахнулась на меня своим белым пакетом. Эта гримаса и это её движение так меня напугали, что я еле сдержалась, чтобы сразу же не убежать. Взяла себя в руки. В голове теперь стучала молотком одна только мысль: «Это моя мать. Эта сумасшедшая – моя мать».
— Мама, пойдем домой, прошу тебя. Ну, что ты будешь тут сидеть?
Она подняла на меня злые, колючие глаза. Тонкие, сероватые губы (она уже года два как перестала их красить) чуть вздрагивали.
— Да, буду сидеть! Найдутся люди, которые мне помогут.
— Мама, ну кто тебе поможет…какие люди, боже мой!
— Найдутся. Я найду. Я всем буду рассказывать, что со мной делают. А ты уходи, уходи!
И я развернулась и пошла. Было такое тёплое, яркое, наполненное громким птичьим щебетом утро. На клумбах во дворе пылали красные, жёлтые и оранжевые бархатцы. На детской площадке кричали и смеялись малыши. А я уходила, представляя, как мама сидит там, на скамье около подъезда, одна, и ждёт каких-то людей, ждёт чьей-то помощи. Мне было страшно. Хотелось плакать. Я помню, как звонила Владу, звонила Тане, рассказывала им о том, что происходит.
Потом побежала на станцию скорой помощи, которая от нашего, то есть, маминого дома, на расстоянии одной остановки. Пустой светлый вестибюль. Операторы за стеклянной перегородкой принимают вызовы. «Психиатрическая бригада на выезде, причём, не в городе, а в крае. Вернутся только к вечеру. Звоните в психоневрологический диспансер». Я звоню. «Приводите маму завтра на приём, в порядке живой очереди». Снова наш двор. Я уже вся вспотела, ужасно хочется пить. Скамья около подъезда пустая. Я дожидаюсь, пока кто-то выходит из подъезда (своего ключа у меня нет), захожу, поднимаюсь на лифте, звоню в дверь. Конечно, никто не открывает. Снова на улицу. Я замечаю мамину белую блузку и белую шапочку в другом конце нашего длинного двора, — она разговаривает с какой-то женщиной, размахивая своим белым пакетом. Снова звоню Владу. «Поезжай домой. Будем вместе думать, что делать дальше». А я и так уже думаю, думаю, думаю, так усиленно, что, кажется, мозг раздулся, как воздушный шар, и распирает черепную коробку. И именно в тот день мне впервые приходит в голову мысль о пансионате, доме престарелых, потому что я понимаю, что сама всю эту ситуацию я уже не вывезу.
Вечером мы с Владом собираемся ехать к маме. «По крайней мере, если не откроет, посмотрим на окна, – есть свет или нет». (Ох, не в первый раз за все эти годы мы едем вечером смотреть на окна, после того, как я не смогла дозвониться маме на её домашний!) Но за пару минут до нашего выхода из дома звонит мой телефон. Таня. «Оля, я её вот только что набрала, она дома, всё в порядке. Ты тоже звонила? Ну, видимо, она буквально минуту назад зашла. Не представляю, как она бродила целый день, не евши, ни пивши. С ума сойти, я бы загнулась. Здоровая, как лошадь. А над тобой издевается. Всё, не переживай, она дома. Не звони – она сказала, что хочет спать и выключит телефон. Пока!»
Я без сил опускаюсь на кровать. Да, весь день я держалась. А теперь у меня такое чувство, словно из меня разом вытекла вся энергия, вмиг и без остатка; что я словно тряпичная кукла, которую после представления бросили в коробку. В моём ежедневнике уже записаны контакты всех учреждений, которые берут на проживание стариков. Я уже посмотрела в Интернете все фотографии и отзывы. Я уже созвонилась с двумя директрисами пансионатов: один в пригороде Владивостока, другой – в Находке. Обе сказали мне: «Приезжайте, места пока есть». И мне кажется, что я уже готова на этот шаг. Мне кажется. И снова в голове мысль: «Папа, папа, как же ты мне сейчас нужен, как бы ты сейчас помог! Никогда, никогда я не думала, что останусь наедине с маминой старостью. Как же мне тебя не хватает!»
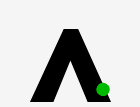
Не дай Бог никому дожить до такой безумной старости…У моей мамы после инсульта тоже начались постепенно проблемы с памятью, но она видно вымолила у Бога возможность не мучиться самой и не мучить детей своей беспомощностью и безумием…Ушла из жизни быстро и не одна…
Это хорошо, что Вы выговариваетесь в своих рассказах…Тяжело держать всё это в себе…
Вдохновения!
С уважением,
Наш мозг удивительно устроен… Что там происходит в нем, одному Богу известно. И я сейчас думаю: как избежать подобного в своей старости, если доведется дожить до преклонных лет?…
Сердечно спасибо, что читаете! ❤️
Пришлось не раз сталкиваться с жизнью пожилых одиноких людей… Очень жаль их: беспомощных , больных, потерянных..
Всегда об этом думаю…
Вы, Ольга замечательно пишите , всё это жизненно …
Огромное Вам спасибо !