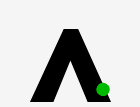Глава 6
Москва 1924.
Тебе не о чем беспокоиться – я никогда от тебя не уйду – I
Глубокой мартовской ночью, когда даже московские сверчки спят в своих глубоких норках, а луна пробирается на цыпочках, Тася прокралась вслед за Булгаковым в коридор и услышала, как никогда, взволнованный голос мужа:
– Ты у себя?..
В обычно гулком и многолюдном коридоре «нехорошей квартиры» было тихо и пустынно, в тусклом свете вечно умирающей лампочки по углам таились мрачные тени, похожие на лунных человеков в засаде. Бог знает, что они ещё там сотворят, вскользь думала Тася, разглядывая взлохмаченный силуэт мужа в жёлто-полосатой пижаме.
– А где я ещё должен быть? – Раздалось сварливое кваканье в трубке.
И Тася по тембру и камушкам, перекатывающихся словно на дне гулкого ведра, с облегчением узнала Юлия Геронимуса. Слава богу, подумала она, помня, что её непутёвый муж был страстно увлечён некой распутной Викой Джалаловой, женщиной чёрной, южной и вседоступной. «Вика то, Вика всё» – все уши прожужжал. Тася готовилась к самому худшему и даже коготки заточила, но боялась раньше времени пустить их в ход, дабы не спровоцировать мужа на резкие действа. Пусть остынет.
– Мне надо, чтобы ты прочитал мой роман! – потребовал Булгаков всё так же воинственно, словно шёл с открытым забралом на приступ крепости Масада.
– Надо, так надо! – всё так же, не меняя сварливого тона, ответил Юлий Геронимус, – тащи!
– У меня водки нет! – повинился Булгаков, и даже со стороны спины было видно, как он недоволен такой собачьей жизнью и готов любой ценой исправить её.
– У меня есть! – сорвался на фальцет Юлий Геронимус. – У меня всё есть, кроме вдохновения! Тащи, говорю, скотина!
Тася испугалась. Она никогда не слышала, чтобы могучий и степенный Юлий Геронимус так нервничал.
Булгаков как был в пижаме, схватил портфель, влез в чей-то облезлый салоп, сунул ноги опять же в чьи-то старые калоши и побежал, словно аист по болоту. Хорошо хоть издательство было в шаговой доступности. Холодный, мерзкий снег летел косо, и ветер раскачивал фонари, но Булгаков ничего не замечал. Ему край надо было разобраться со своим новым романом, дабы не ждать две-три недели, пока это сделает его собственное воображение.
Он вбежал в издательство, даже не захлопнув за собой дверь, подался прямиком в кабинет Юлия Геронимуса, оставляя на полу мокрые следы калош, и сказал, вываливая на стол «кирпич» – толстенную рукопись:
– Мне очень важно твоё мнение!
Юлий Геронимус с неприязнью провёл пальцем по торцу, как по карточной колоде:
– Обязательно сейчас… в три часа ночи?.. – спросил он брезгливо, как импресарио третьеразрядного актёра, мол, чего ты припёрся?
Булгаков сообразил, что его хамски выпроваживают и что после всех халявных кормёжек и возлияний за чужой счёт, великой литературной дружбе конец! Глухая волна ненависти колыхнулась в нём ещё пуще, но он сдержался, помня увещевание одноглазого Лария Похабова ни в коем случае не ссориться с Юлием Геронимусом, а терпеть и ещё раз терпеть, ибо он всё равно умом не просветлеет, плюмбус виниус.
Юлий Геронимус в свою очередь подумал, что выскочка, каковым он считал Булгакова, должен быть наказан, но как, ещё не знал. У него была своя теория о развитии таланта, который должен был развиваться поэтапно, от простого к сложному, кругами, с повторениями и многократным усвоением материала, только так можно было постичь его высочество литературу. Сам Юлий Геронимус полагал, что находился где-то на подступе к великому мастерству, а провинциальный Булгаков упал, как снег на голову, со своим немеркнущим пламенем в очах, и все должны были плясать под его единственно верную дудку, иначе карачун. С тех пор всё пошло шиворот-навыворот, а ещё наперекосяк. Можно было поступить в пику скандальной статьи Корнея Чуковского и затоптать дар негодяя, не дать ему раскрыться обществу. Но тогда Булгаков побежит к другим, например, к тому же самому блудному сыну, Дукаке Трубецкому, врагу и невежде, поэтишке с большущим самомнением. А тот своего не упустит и будет верещать на каждом углу, мол, какой Юлий Геронимус недальновидный, самоуверенный циник, ретроград, одним словом, и племенная солидарность не поможет. Не-е-т, от Булгакова просто так не избавишься, у него талант! Продукт природы – редкостный и гадкий, от которого все непомерно страдают. Зачем природа рождает такие экземпляры? Толку от них для здравого человека, как от козла молока!
Если бы Юлий Геронимус хоть что-то знал о лунных человеках, просто догадывался бы о неведомой силе, стоящей всегда и неизменно за спиной и чуть справа от Булгакова, он бы придержал коней и перекрестился, а потом всю жизнь пил бы только святую воду. Но он был тяжеловесен и прямолинеен, как броненосец «Потёмкин», идущий на заклание.
– А что ты делаешь?! – наигранно удивился Булгаков, нарочно не срезая углов. – Я знаю, что ты сидишь, – нагло добавил он, подвернув под стул мокрые ноги в калошах, – и пялишься в окно, потому что у тебя не идёт роман!
– А у тебя идёт? – затряс Юлий Геронимус носом, похожий на хобот тапира, и набрал в лёгкие воздух, словно собирался чихнуть на весь белый свет.
– У меня всегда идёт, – нагло соврал Булгаков, хотя тотчас вспомнил все свои жалкие потуги относительно романа о чёрте, о лунных человеках и о том, как с топором тщетно носился по чердакам, а потом совсем запутался и уже не знал, кто и зачем дубасит посреди ночи в потолок, то ли московская пьянь, то ли лунные человеки. Но стыда перед самим собой не испытал, потому что об этом романе ему запрещено было говорить с кем-либо ещё, кроме жены, и опять же теми же самыми лунными человеками, однако они пропали, и это было почти что плохо, потому что, как ни странно, они задавали тон в жизни, просто своим присутствием где-то в пространстве. Может быть, контракт разорван? – испугался он. Отверженным не подают руки? Отверженных топят, как котят в ведре? И ему страстно захотелось хоть каких-нибудь результатов, а не просто бессмысленно бдеть по ночам над рукописью, которая никогда не увидит свет. Он вдруг ощутил, что перед ним раскрывая новые горизонты, куда более странные, чем есть в реальной жизни. Это было необычно и удивительно, ведь горизонт был всегда ясен и стабилен, а здесь он поколебался и делался многоплановым и неочевидным. Надо понять, куда я двигаюсь, двигаюсь ли я вообще, лихорадочно думал он, испытывая приступ тоски и печали, что не возбранялось по условиям авторского договора, а считалось всего лишь адскими муками творчества. Ему вдруг так захотелось поговорить с лунными человеками по душам, что он забыл, где находится.
– А почему?! – вскипел Юлий Геронимус, заметив, что Булгаков витает в облаках.
Булгаков очнулся и понял, что если сейчас наговорит ему лишнего, то Юлий Геронимус из принципа читать не будет и за счёт его проехаться не удастся, тогда, действительно, придётся ждать две-три недели, пока в голове не улягутся эмоции; и ты сам не поймёшь, что ты накатал, подумал он; но словно кто-то чужой тянул его за гадский язык.
– Понимаешь… всё дело в абсолютном слухе! – начал он привычную песню гения.
– Опять ты о своём! – взорвался в своей приказной манере Юлий Геронимус и сделал вид, что презирает Булгакова всеми фибрами души. – Ты мне вот как надоел! – похлопал он себя по шее; и видно было, что она у него могучая, как у быка голштинской породы.
И Булгаков понял, что приложение в виде мозгов портит Юлию Геронимусу всю картину, но при всей его уродливой душе он вполне может найти себе место в литературе, где-нибудь в третьем эшелоне извечного щелкопёрства.
– А как ты мне надоел, ё-блин! – не менее зловредно поведал он и прищурился, только не добавил: «Своей графоманией!» Пожалел, как волк кобылу. Не застрелил на выдохе одной убийственной фразой: «Ты писать не умеешь!» Не добил: «Графоман!» Не выпотрошил душу: «Эпигон!» А всего лишь хитро прищурился. Прищур у него всегда выходил волчьим, потому что глаза были светлыми и бешенными, как у полночного духа Бабая.
Юлий Геронимус по-рачьи выпучился сквозь очки, всё понял, и тяжёлая, дореволюционная пепельница из жёлтого литого стекла полетела в голову Булгакова, чтобы сразить его наповал, но Булгаков ловко увернулся и захихикал, как лунь на болоте:
– И не попал! И не попал!
На всякий случай он прикрылся папкой с чьей-то рукописью и, юродствуя, выглядывал из-за неё, как в амбразуру, блестя ехидной ухмылкой, как Кит Бастер в «Помпеях», когда он дразнил клыкастого вепря на болоте!
Юлий Геронимус поискал, чем бы ещё запустить, но кроме карандашей в подстаканнике и чернильницы, ничего не нашёл, карандашей было жалко, он их полдня затачивал и доводил до ума, страдая творческой импотенцией, а чернильница была антиквариатом, украденной из самого Эрмитажа, и стал снимать правый трехкилограммовый ботинок на толстой каучуковой подошве.
Занятые самими собой, они не услышали, как Тася, пробравшаяся вслед за мужем, убрала коготки и неосторожно скрипнула дверью, желая предупредить мужа о грядущей опасности, и уже готова была раскрыть своё присутствие, но Булгаков сам справился с ловкостью фокусника.
– Дело, конечно, хозяйское… – захихикал он так, что не очень уверенный в себе Юлий Геронимус, моментально прогнулся.
Он всегда прогибался, потому что крайне закомплексовано чувствовал себя в литературе и подозревал, что точно так же думают о нём все другие, просто трусят сказать правду, а Булгаков – не трусит. Он, как самая последняя колчаковская сволочь, без комплексов и ахиллесовой пяты, смело говорит в глаза всё, что думает, понимал Юлий Геронимус. Для него нет чинопочитания и низкопоклонничества, потому что за ним стоит такая сила, которая не у каждого есть – талант! И Юлий Геронимус сник. Он привык сникать, словно Булгаков был не маленьким и тщедушным, с узким лицом и носом-бульбой, а как минимум Гераклом воплоти невероятного размера и силы. Такой одним смешком зашибить может!
– Да, у меня нет такого слуха, как у тебя! – набрался духа и взревел он. – Я человек без особого таланта, серость и убогость! Но я поставлен партией и правительством руководить издательством, а ты со своим исключительным чувством ритма в голове и всякими другими трансцендентальными штучками, прозябаешь и будешь прозябать на задворках! Меня напечатают, а тебя – нет! Мне заплатят втройне, а тебе – дулю с маком! – оскалился Юлий Геронимус и стал походить на злобную африканскую маску Вуду. – Меня наградят и дадут дом в Переделкино, а тебе – шиш с маслом! – выпятил он широкую грудь, грозно дыша, как после забега на Воробьевы горы. – Я навечно останусь в истории литературы, а ты – нет!
Будь он трижды постарше, его бы давно хватил удар, но он был молод, наивен, как всякий борзописец, и полон юношеских надежд.
Юлий Геронимус ожидал, что Булгаков кинется на него, и они, наконец, разнесут кабинет к едрене-фене и выплеснут всё, что накопилось между ними, однако Булгаков вдруг благодушно ответил, ерзая тощим задом на стуле:
– Ну и что?.. – тональность его была ироничной, как никогда, словно он знал нечто большее, чем Юлий Геронимус. – Так было всегда! Графоманы всегда администрировали. Больше они ни на что не годятся! Ты прочтёшь, или нет?! – потребовал он, подумав, что литературой управляет не талант, а сволочное литературное начальство типа Юлия Геронимуса.
– Уже… – с ненавистью выдавил из себя Юлий Геронимус и перевернул первый лист.
Дело заключалось в том, что Юлий Геронимус при всей его тугоухости и слоноподобности, мог абсолютно точно диагностировать произведение. Был у него такой упёртый конёк-горбунок. Но кто об этом что-то понимал? И кто это ценил? А, главное, кому это нужно? Вокруг крутились одни посредственности и лизоблюды, никто никого не уважал, потому что в условиях гражданской войны авторитеты пали, всё рухнуло и разнеслось в клочья. То, что происходило в литературе, походило на становление новых правил, координат и ориентиров, и пока что они ещё не состоялись, никто не знал, как и что правильно делать и кому поклоняться. В этой свистопляске рождались новые гении! И кто из них уцелеет, тот и станет путеводной звездой новой власти!
Булгаков, шваркая калошами, подался шарить по углам и звенеть ложками в стаканах с недопитым чаем.
– Водка в шкафчике, за бумагами, – с ненавистью буркнул Юлий Геронимус. – И мне налей! А то у меня от твоего свинства мигрень разыгралась, – и он, совсем как матёрая, истеричная женщина на пятом месяце беременности, вычурно выругался и нервно потёр виски. – Кстати, у меня к тебе тоже контрпредложение! – процедил он через силу, ненавидя Булгакова в качестве литературной иконы.
Булгаков налил себе водки, повернулся, ничуть не стесняясь своего нелепого одеяния, и вопросительно уставился на него, мол, чем ты меня ещё можешь удивить в этой паршивой жизни? Его жёлтые пижамные штаны при этом смотрелись абсолютно без комплексов, как подвёрнутые брюки князя Феликса Юсупова, первого модника бывшей империи.
Юлий Геронимус не без содрогания к своей бедной, измотанной завистью душе и в предвкушении кровавой критики, которую он, как и все, абсолютно не переносил, покопался в ящике стола и тоже выложил «кирпич», правда, чуть меньше, чем у Булгаков, но зато с вульгарными, амурными завитушками по краям титульного листа, явно созданных в минуту творческого томления.
– Вот это дело! – снова стал выделываться и кривляться Булгаков. – Сейчас я тебе козью морду сделаю! – пообещал он, нарочно рассыпав «кирпич» по полу и потоптав его калошами. – Я тебе сейчас всю правду-матку выложу! – посулил он, собирая мокрые листки с пола. – Чтобы ты пепельницами не кидался!
Юлий Геронимус едва не хватил удар. Он в бешенстве вскочил, готовый броситься и растерзать Булгакова, посмотрел, что вытворяет он с его рукописью, и позеленел, как лакмусовая бумажка в щёлочи, но сдержался, лишь выпил свою водку залпом и схватил карандаш, как скальпель, дабы в свою очередь чёркать и кромсать творение Булгакова. Однако по мере того, как он погружался в его текст, он все больше и больше попадал под обаяние автора, и его желание зеркально отомстить кровавой местью сменилось крайне звериным любопытством: «А как он это делает, мерзавец?» Он даже отметил те самые черты текста Булгаков – ритмичность с помощью которой тот выезжал практически в любой ситуации и творил текст единым и неделимым, из него нельзя было ничего вычленить, не разрушив гармоничный свод. Не-е-т, с завистью думал Юлий Геронимус, я тебя просто так не отпущу к пройдохе Дукаке Трубецкому, хоть он мне и сводный брат, ты у меня попляшешь в хорошем смысле этого слова, хихикал он в душе, и благодушие снизошло на него, и он даже частично местами стал великодушным и подумал, что Корней Чуковский, не ошибся, не зря его громят где ни попадя, и в хвост и в гриву, и что надо использовать Булгакова в своих целях, потому что негоже разбрасываться божьим даром. И вся криптоевропейская гордость снизошла на него, ибо душа его требовала восхищения самим собой, умным и дальновидным, просчитывающим на семь с половиной шагов вперед.
Тася стояла ни жива, ни мертва. Она не ожидала, что добродушный, как медведь, Юлий Геронимус может взорваться, и бог знает, что произойдёт этой ночью. Но целых полчаса они мирно паслись в рукописях, как свиньи в корытах, выискивая наиболее лакомые кусочки, дабы пожрать друг друга и переломать друг другу кости.
Первым воскликнул Булгаков:
– А ты знаешь, – подпрыгнул он неожиданно так, что Юлий Геронимус вздрогнул и на всякий случай пригнулся, словно ему дали подзатыльник, – я ведь всё это где-то читал!
Рукопись набухла от влаги и сделалась волнистой. Вот почему рукописи не горят, сообразила Тася, подсматривая в дверную щёлочку, как сквозь занавес в партер.
– Не может быть… – самоуверенно до безрассудства буркнул Юлий Геронимус, уткнувшись носом в творение Булгакова и не желая отвлекаться от наивных речей Лариосика, который страдал тайной влюбленностью и был похож на юного лопушка, каким был Юлий Геронимус каких-нибудь десять лет назад, влюблённый в свою же монументальную аспирантку Софью Модестовну, женщину, как оказалось, крайне экзальтированно-нервную и нескромную в сексе.
– Читал, говорю! – самодовольно высказался Булгаков, расковыривая рукопись Юлия Геронимуса, как осиное гнездо.
Рукопись называлась «Похождение бравого одесского жулика».
– Ну что?.. – мрачно, как бычок-первогодок, спросил Юлий Геронимус, с возмущением наблюдая, как Булгаков брезгует его творением.
– А то, что это содрано из бульварных газетёнок! – безжалостно констатировал Булгаков.
На самом деле, было ещё хуже. «Кирпич» представлял собой обрывки записей без начала и конца, без историй, сюжетов и драматургии. Какие-то романтические вспоминания. Детство, сопли и нюни по бабам. Так обычно подбираются к роману, не зная, с какого бока подступить, без брода, и вообще, даже не представляя, что из всего этого выйдет. Булгаков каким-то чудесным образом этот период миновал без особых потерь и забыл о них, а Юлий Геронимус даже не мог сообразить, куда влез и что дальше делать. Это была демонстрация крайней литературной беспомощности, языковой слабости и без наметок на какое-либо новшество. Хорошо хоть вообще начал, с презрением к чужой немощи, подумал Булгаков.
– Это не твоё, – вынес он смертельный приговор. – По природе ты кто?.. – сморщил он нос с бульбой в ожидании глупого ответа.
– Кто?.. – зачарованно спросил Юлий Геронимус, и сломал карандаш.
Впервые ему ставили диагноз вот так, нахально гладя в глаза.
– По природе ты лирик, – поведал ему Булгаков, не замечая его душевного упадка. – А это что?.. Что?.. Е-моё?..
– Что?.. – икнул от страха Юлий Геронимус.
– Кич! Е-моё! – объяснил Булгаков.
– Че-е-го?.. – не понял Юлий Геронимус, в безумии выкатив на Булгакова свои кофейные, как у негра, глаза с прожилками.
– Понятия не имею, – громко ответил Булгаков. – Но кич точно!
На самом деле, он сразу понял, в чём дело: надо было придумать форму, которой ещё нет в литературе. Поэтому у Юлия Геронимуса, как у него с романом о чёрте, ничего не получалось. Но ничего этого, разумеется, он ему не сказал. Нечего учить бездарей, всё равно не поймёт, подумал он, с презрением взирая на Юлия Геронимуса, который после его слов погрузился в мрачное оцепенение, как в летаргический сон.
Но даже в этой ситуации недомолвок Юлий Геронимус впервые ощутил глобальность стоящей перед ним проблемы, и слегка очумел, глядя в бездонную пропасть, но ничего там не выглядел. Таким вещам никто никого не учит, такие «мелочи» дарятся между делом за бутылкой хорошего коньяка, в тесной компании, тет-а-тет, и стоят они большой славы и больших денег. Происходит это крайне редко и мало с кем. И Юлий Геронимус ещё в большей степени попал в зависимость от Булгакова. Ему хотелось по-дружески взять его под локоток и болтать, заглядывая в глаза, без умолку о литературе, дабы выведать то да всё, то да это, все-все секреты и тайны, в которых абсолютно не разбирался. Но он сдержался, сообразив, что только наивный дурак может вести себя так, для этого и созданы гении, которых доят, как кур. Он как раз и хотел услышать: как и с чего начинать, а не чистую в априори критику; как вдруг Булгаков с криком: «Эврика!» сам едва не потерял рассудок: он понял свою промашку, почему ничего толкового не выходит, а вкривь и вкось, и почему даже начала уловить не мог и начал с Понтия Пилата? Да потому что просто не понимал, какого начала, если такого, как в «Белой гвардии», то это ошибка копировальщика. Повторяться нельзя ни в коем случае, понял он. Аналогия была настолько очевидна, что его бросило в пот: надо быстрее писать «гвардию»; он, как параноик, не слушая Юлия Геронимуса, стал всматриваться в окна и озираться на тёмные углы его кабинета, ища тайные признаки присутствия Лария Похабова и Рудольфа Нахалова, которые были мастаками по части маскировки и которые сподвигли его на такие важные и правильные мысли, но, разумеется, никого не обнаружил, потому что Ларий Похабов и Рудольф Нахалов привели его в издательство и бросил, как котёнка в речку: «Плыви!», а сами именно в этот момент дрыхли в своих тёплых номенклатурных кроватках, в тёплых больших квартирах, со свежим воздухом от Москвы-реки. И у Булгакова уже не было сомнения, что они стоят за сегодняшним глупым посещением издательства и что они им манипулируют с ловкостью картёжников; всей моей жизнью, понял он, и похолодел: чтобы я только строчил гениальные опусы, а они бы сливки снимали, уж не знаю, как! Его пробил холодный озноб, ему преподали урок, наглядно продемонстрировав, чего нельзя делать в тексте, а что можно; в нём тотчас сработал писательский инстинкт, и Булгаков готов был бежать домой, дабы ухватить архаичную тональность за хвост, и работать, работать и работать, как тот самый чёрт, за которого его так настойчиво кляли.
Истинные мысли, сделал он открытие, тихие, ненавязчивые, первичные, в отличие от бурных фантазий, которые ничего не стоят как первопричина.
– Брось… не читай… – заметил его состояние Юлий Геронимус, испугавшись, что Булгаков тихо, но верно сходит с ума.
Но Булгаков фанатично рассмеялся, уставившись куда-то в холодное пространство за Тверскую заставу:
– Теперь я знаю, почему рукописи не горят!
Он вдруг вспомнил сон, который ему давеча приснился. Оказывается, к нему три дня назад приходил сам начальник департамента «Л», во второй должности главный инспектор по делам фигурантов, Герман Курбатов! Высокий, горбоносый, подстриженный, как военный, с голыми висками и затылком, в цилиндре и с дубовой тростью, которую украшала бородатая рукоять из бронзы.
– Чего мучаешься? Чего?! – Голос у него был скрипучий, как столетние петли.
Булгаков точно знал, что это начальник департамента «Л», главный инспектор по делам фигурантов, а не куратор, как лунные человеки, Ларий Похабов и Рудольф Нахалов, а тридцатью тремя рангами выше, однако всё равно непонятно какой силы, и что в нём за власть таится.
Герман Курбатов так на него посмотрел, что Булгаков понял, что он и есть именно то, что не хватало ему в романах.
– У меня не получается… – чуть ли не со слезами на глазах признался он, как на духу.
И чувство глубокой благодарности охватило его до самых глубин и низов души.
– А ну… покажи, – сделал одолжение главный инспектор по делам фигурантов Герман Курбатов и протянул бледную руку, как у затворника, руку.
Булгаков безнадежным движением подтолкнул ему рукопись. Инспектор склонился, перелистнул, ещё раз и ещё.
– Роман, роман… – задумчиво повторил Герман Курбатов и поправил. – И не о чёрте, а о дьяволе.
– Да… да… именно так, – поспешно согласился Булгаков.
– Это очень просто, – сказал Герман Курбатов совершенно нейтральным тоном, чтобы не оскорбить лучших авторских чувств Булгакова.
– Как!!! – подскочил Булгаков. – Я мучаюсь два года! И поседел на этом!
– Обычная история, – посмотрел на него главный инспектор ироническим взглядом привидения, – творческий процесс, кризис. Так бывает. Смотри, как здесь?
И Булгаков понял, что главный инспектор Герман Курбатов делает ему огромнейшее одолжение не по службе, а по велению сердца, почему-то то, что никогда и ни с кем не делал, а здесь подтянул до следующего уровня, расширил взгляд на суть вещей.
– Как?.. – опять преданно воскликнул Булгаков, наполняясь животной благодарностью.
– Здесь «ля», – терпеливо пояснил главный инспектор Герман Курбатов, покосившись на него, как на школяра.
– И что?.. – недоверчиво воскликнул Булгаков.
– И здесь «ля»… – на тон ниже ответил главный инспектор Герман Курбатов.
– Верно… – прозрел Булгаков. – А что должно быть?..
– А должна быть «си».
– Но почему?!
– Для гармоники! – Последовал скромный, но осуждающий ответ: мол, почему ты не видишь, если называешь себя гением?
Главный инспектор схватил карандаш и стал править, бормоча:
– Слух не настроен… Не держишь ноту… Путаешься в звучании… Медведь на ухо… Переставь слова, найди новые, построй предложение по-иному!
– Я этому не придавал значения! – запротестовал Булгаков не очень громко, потому что боялся разбудить Тасю, которая спала за ширмой. – И не понимаю…
– А зачем тебе понимать?
– Не понял?.. – опешил Булгаков.
Он подумал, что всегда опускал благозвучие текста, не придавая этому большого значения.
– Раз не понимаешь, то вот тебе ещё один совет для дворника: сделай текст архаичным.
– Каким?.. – не понял Булгаков, и челюсть у него затряслась, как у параноика.
– Выгляни на улицу!
– Ну?.. – Булгаков посмотрел в окно и увидел серые стены и ноябрьские лужи, в конце которых стлался мутный туман, а ещё там висела очень мистическая луна.
Так было всегда, испокон веков. Такова была жизнь. Русская жизнь.
– Вот оно звучание, – сказал инспектор Герман Курбатов, направляясь к выходу. – И вот она архаика.
– Подождите… и всё?! Я… я… – Булгаков в недоумении снова посмотрел в окно, словно там было объяснение.
– А что ты ещё хотел? – оглянулся главный инспектор Герман Курбатов. – Ты же назвался стилистом, ну вот давай, повышай свою классность.
– Я понял, Мастер, всё понял, – сообразил Булгаков, почтенно склонив голову. – Ваши уроки бесценны!
– Мы ждём от тебя роман века!
– Я всё сделаю, Мастер! – склонил голову Булгаков.
– Я надеюсь, – сказал главный инспектор Герман Курбатов и исчез прямо посреди комнаты, оставив после себя тяжёлый запах окалины, от которой чуткая Тася проснулась, всё поняла и спросила:
– Что случилось?!
Булгаков очнулся от того, что Юлий Геронимус тряс его за подмокшие грудки и кричал:
– Почему?! Почему?!
– Что «почему»? – отодрал его от себя Булгаков. – Потому что сырые! – увидел рукопись Булгаков и вдруг засмеялся весело, как лунь на болоте, решение проблемы лежало у него в кармане, теперь он точно знал, где и как надо искать.
И Тасю в её тайном месте пробрало до костей, потому что они были похожи с Булгаковым, как две капли воды, и думали одинаково, ибо их союз был заключён в лунном мире.
– Ты куда?.. – ожесточился Юлий Геронимус, глядя на засуетившегося Булгакова.
– Срочно домой! Я всё понял! Я – круглый дурак!
– Это да! – поспешно и радостно согласился Юлий Геронимус.
Булгаков затрясло. Страшная догадка о том, что древняя, как вся человеческая жизнь, архаика, единственно верное звучание для романа о дьяволе, крайне удивила его. Новый роман, у Булгакова по коже пробежал мороз, должен быть пропитан тайной верой адамовых веков, где люди сходили с ума не от отсутствия денег и жилья, а от загадок жизни и мироздания! Это был ключевой ход века!
– А рукопись?! – закричал фальцетом и патетически простёр руки Юлий Геронимус, принимая поведение Булгакова на свой счёт и впадая от этого в праведный ужас.
Булгаков деловито оглянулся на стол, где она лежала, и словно увидел её впервые, при этом Юлию Геронимусу ни в коем случае ничего нельзя было объяснять. Не было смысла подтягивать врагов до собственного уровня, мучить их пустопорожними обещаниями, всё равно ничего не поможешь, потому что они не созданы для прозы. Это была тайная месть в его лице всем, всем графоманам планеты вместе взятым!
– Найми литературного раба, – в страшной спешке посоветовал Булгаков. – Он всё сделает, а ты поправишь! – сказал он нервно, влезая в салоп.
Он понял, что свобода выбора – это иллюзия, какая может быть свобода без лунных человеков?
– А ты не хочешь?.. – окончательно сдался Юлий Геронимус, и большое лицо у него сделалось страшно просящим и разочарованным, как у невесты, которую обесчестили и бросили прямо в день свадьбы. – Слава и гонорар пополам… – пробормотал он упавшим голосом без всякой надежды на согласие Булгакова.
– Нет! – категорически отказал Булгаков в предвкушении работы и едва не ляпнул о гениальном инспекторе Германе Курбатове и о лунных человеках, которые обучали его не в пример таким недотёпам, как Юлий Геронимус.
Теперь он понимал, что если сразу не ухватываешь звучания и ритм, то пиши пропало, ни один лекарь не поможет.
– Ладно… – уныло пригрозил Юлий Геронимус, как человек, потерявший ногу, – жалеть будешь…
– Посмотрим, – отстранённо согласился Булгаков; взвалить на себя ещё одну ношу – это уже было сверх силы, так можно два раза шагнуть, а на третий – упасть и ножки протянуть. Оказывается, не зря Ларий Похабов и Рудольф Нахалов терпели наглого Юлия Геронимуса, потому что Юлий Геронимус был оселком, на котором правился талант гения. Находка от обратного, думал Булгаков, цепенея, потому что перед глазами всё ещё стоял инспектор Герман Курбатов, главный знаток человеческих душ и литературы, пахнущий, как и всё неземное, окалиной.
– Ну а если я к тебе-с… – по-старорежимному заговорил вдруг Юлий Геронимус, – обращусь отшлифовать текст?..
– Ещё чего-с? – в тон ему удивился Булгаков.
– По дружбе-с… – остановил его Юлий Геронимус уже в дверях, готовый, если что даже пасть и ползти на коленях. – За оплату, конечно… – с безнадёжностью в голосе добавил он, тоже ощущая мистическую причастность нечто, разумеется, без конкретики и деталей типа лунных человеков.
Такое происходило с ним только в присутствии Булгакова. Только Булгаков имел над ним власть, и трон его был повыше всех других тронов, которые знавал Юлий Геронимус.
– Это можно… – со сверхъестественным выражением в голосе тут же согласился Булгаков, – восемьдесят на двадцать, – и вмиг сделался добреньким людоедом, дабы Юлий Геронимус не заездил своими графоманскими просьбами и не стал унижаться, Булгаков этого не любил.
– Хорошо-с… – вконец обессилев, согласился Юлий Геронимус.
Ничего этого Тася уже не видела. Она на цыпочках выбралась из издательства и со скоростью лани кинулась домой. Разделась, нырнула в постель и притихла. Булгаков тотчас явился, как никогда, взвинченный и, даже не снимая салопа и калош, рухнул за стол.
Она поглядела сквозь ресницы: он вдохновенно принялся строчить в свете трёхлинейной тусклой лампы, стекло которой давно уже надо было чистить.
Когда за окном начало сереть, он начал зевать, потягиваться и рухнул рядом, как бревно, пробормотав:
– Кажется, я гений…
Тася подождала немного, осторожно выбралась из-под его тяжёлой руки, покинула постель и с замиранием сердца прочитала:
«Двадцать шестого апреля, сего года, на Патриарших, когда…»
Двадцать шестого апреля мы как раз поженились, вспомнила Тася, оглянулась на безмятежно спящего мужа, и сердце её наполнилось беспредельной нежностью. Любит, поняла она, любит, но не говорит!
«Итак, когда солнце пало за крыши, а окна на Малой Бронной за минуту до этого пылавшие, как от пожара, провалились в чёрными глазницами, Фёдор Копылов по кличке Пароход, достал из внутреннего кармана пиджака початый шкалик и облегчением приложился.
К нему тотчас подскочил постовой Лев Иголкин и сделал замечание:
– Гражданин, после захода солнца пить возбраняется!
– А когда можно? – нагло спросил Фёдор Копылов по кличке Пароход, и спрятал шкалик в карман, потому что постовой уж очень жадно косился на него, как заяц на морковку, делая глотательные движения, и его огромный кадык, двигался под щетинистой кожей, как шатунно-кривошипный механизм в дизеле.
– Пройдемте, гражданин, не надо спорить!
И привёл Фёдора Копылова по кличке Пароход в двести пятое отделение милиции, что на углу Малой Бронной и Малого Козихинского переулка.
Дежурил Слава Княйкин, ловкий тип с такими узкими глазами-щёлочками, что непонятно было видит он что-нибудь или нет.
– Славик, – по-свойски сказал постовой Лев Иголкин, – прими задержанного.
– А что он сделал? – уставился на них Слава Княйкин своими глазами-щёлочками.
– Пил водку после шести!
– Вот скотина! – обрадовался Слава Княйкин и открыл «дежурный журнал записей». – Фамилиё!
– Чьё?
– Твоё! – грозно посмотрел на него Слава Княйкин так выразительно, что душа у Фёдора Копылова по кличке Пароход похолодела, но он не подал вида.
– Калистратов, – соврал Фёдор Копылов по кличке Пароход.
– Имя!
– Чьё?
– Твоё!!!
– Калистрат Калистратович! – решил глумиться и дальше Фёдор Копылов.
Дело было в том, что Фёдор Копылов по кличке Пароход был мелким каталой и в основном промышлял на рейсовых пароходиках в среде отдыхающих. Один раз ему удалось проплыть между Одессой и Батуми, и он считал себя бывалым моряком.
– Ты его обыскал? – спросил Слава Княйкин.
– Нет, конечно! – хлопнул себя по затылку постовой Лев Иголкин. – А ну, – подступился он. – Где бутылка-то?
– Не было бутылки! – нагло в глаза соврал Фёдор Копылов по кличке Пароход. – Вам, гражданин начальник, почудилось!
Бутылку с остатками водки он потихоньку выбросил, когда незадачливый постовой вёл его в отделение.
– А я уже записал! – возмутился Слава Княйкин. – Бутылка – одна! Водка – пол-литра. Вычеркивать, что ли? – пожалел он.
– Не было, говоришь? – зловеще спросил постовой Лев Иголкин. – Так будет!
С этими словами он зашёл в дежурку, покопался в углу, радостно гремя посудой, и показал:
– Вот твоя бутылка!
– Это не моя! – возмутился Фёдор Копылов по кличке Пароход. – Я такое дерьмо не пью!
Постовой посмотрел на этикетку. На ней было написано: «Хренная».
– Не пил, так будешь! – пообещал постовой Лев Иголкин.
– Гражданин начальник! – апеллировал к дежурному Фёдор Копылов по кличке Пароход. – Это произвол!
– А что ты пьёшь? – полюбопытствовал узкоглазый Слава Княйкин, которого страшно удивили умные речи Фёдора Копылова по кличке Пароход.
– «Столичную»! – гордо выпятил подбородок Фёдор Копылов по кличке Пароход.
– Так и запишем, пил «столичную», а за неуважение к власти десять суток ареста!
– Какие десять, гражданин начальник! – возмутился Фёдор Копылов по кличке Пароход. – Я только что откинулся, что снова на кичу?
– Не-а, – пообещал ему Слава Княйкин, – будешь двор мести! У нас дворника сократили!
– О! Вот это правильно! – радостно согласился постовой Лев Иголкин.
И они оба рассмеялись чрезвычайно обидным смехом.
Библию, то бишь колоду карт, у Фёдора Копылова по кличке Пароход отобрали, и дежурный Слава Княйкин, мурлыкая себе под нос что-то алеутское, отвёл его в камеру, где уже парились двое таких же неудачников, один, доцент, Семён Гайдабуров, старший преподаватель высших литературных курсов, будучи в изрядном подпитии, излил душу, написав на памятнике великому русскому поэту матерное слово из трёх букв, второй, Алексей Вертянкин, слесарь железной дороги украл «одно автомобильное колесо», как было записано в протоколе, из мастерской, что в Ермолаевском переулке. Слесарь буянил «всю дорогу» и грозился предъявить начальству требования. Но неожиданно притих, когда Семён Гайдабуров стал читать ему стихи Дениса Давыдова: «В ужасах войны кровавой я опасности искал, я горел бессмертной славой, разрушением дышал».
Часа через два, когда Слава Княйкин решил проверить, что происходит в камере, он обнаружил что доцент и слесарь с грустным видом сидят в одних подштанниках и даже без носков.
– Руки! – кричал Слава Княйкин и ещё больше сощурился. – Руки, – и ворвался в камеру, угрожая Фёдору Копылову страшной милицейской палкой.
Рядом с Фёдором Копыловым по кличке Пароход громоздилась кучка вещей.
– Где библия?! – продолжал кричать дежурный Слава Княйкин. – Где?!
– Гражданин начальник, – смиренно, но вовсе не угоднически поднял руки Фёдор Копылов по кличке Пароход, мол вот я, чист, как ангец. – Библия у вас в кармане!
– Где?.. – удивился немного наивный, как все алеуты, Слава Княйкин.
Он хорошо помнил, что положил колоду карт в железный ящик для вещдоков и закрыл их на большой висячий замок.
– Вот в этом! – показал Фёдор Копылов по кличке Пароход.
И действительно, в левом нагрудном кармане Слава Княйкин обнаружил библию и совсем растерялся.
– Сыграем? – невинно предложил Фёдор Копылов по кличке Пароход, пользуясь тем, что Слава Княйкин туго соображал.
При этом доцент, Семён Гайдабуров нервно заёрзал на нарах, а слесарь Алексей Вертянкин глупо хихикнул, мол, посмотрим, как у тебя, гражданин начальник, получится.
Гордость за всю московскую милицию взыграла в Славе Княйкине.
– Сыграем! – неожиданно для себя согласился он, и отложил палку в сторону.
Три раза Фёдор Копылов по кличке Пароход дал себя обыграть по всем законам жанра. И на сторону дежурного Славы Княйкина перешёл его дорожный пиджак из красивой заграничной кожи, часы из фальшивого золота и перстень с настоящим изумрудом.
Дежурный Слава Княйкин впал в неистовство, жажда окончательного и безоговорочного выигрыша бурлила в нём. За всю нашу родную милицию, думал он. За всю! Однако в следующие полчаса он лишился всего того, что выиграл, а потом отдал всю свою заначку, которую собрал за день и начал проигрывать вещи. Когда он снимал левый сапог вместе с портянкой, постовой Лев Иголкин привёл следующего задержанного, который справлял малую нужду прямо в Патриарший пруд. Не найдя дежурного на месте и слегка испугавшись, постовой Лев Иголкин догадался заглянуть в камеру. Его поразило следующее: три полуголых человека играли в карты с задержанным Фёдором Копыловым по кличке Пароход.
– Слава! – крикнул он. – Атас!
И дежурный Слава Княйкин очнулся.
Они били Фёдора Копылова по кличке Пароход до тех пор, пока он не превратился в огромного, истошно орущего кота Бегемота, который к их изумлению вывернулся, страшно обоих поцарапал, хорошо хоть до глаз не добрался, прыгнул в Патриарший пруд, который переплыл брасом в сторону Ермолаевского переулка, и была таков.»
Тасе отрывок не понравился. Она подумала, что образ кота – навеян событиями 14-го года, когда их квартиру посетил Ларий Похабов, по вкрадчивым манерам похожий на это самое животное. Однако, всё взвесив, тщательно переписала и спрятала копию на шкафчике, решив, делать архив, раз уж муж-простофиля сжигает все свои творения.
На утро, когда она переживала приступы мигрени, Булгаков сказал ей:
– Тебе не о чем беспокоиться – я никогда от тебя не уйду!
– Я тебе не верю! – заявила она в отчаянии, потому что у неё давно были причины удостовериться в его неверности.
– Ты и не должна верить, – раздражённо возразил Булгаков, как инспектор Герман Курбатов, – главное, творчество, главное, ухватить звучание! Мне надо было срочно его ухватить… – повторил он отрешённо, натягивая штаны. – То, что ты прячешь на шкапчике, – поюродствовал он над своей неразумной женщиной, – всего лишь никуда не годящиеся черновики.
Первый подход был неверным и Булгаков демонстративно, на глазах Таси, сжёг черновик из-за суеверия и ужаса, что ничего лучше не создаст – не только из-за предубеждения, а на всякий случай, чтобы предсказанное ему будущее сбылось не сейчас, а позже с другим ощущением и другим текстом.
***
– Он нас подвёл! – не выдержал и страстно закричал младший куратор, Рудольф Нахалов, в ресторане «Кремль» для высшей партийной номенклатуры.
Теперь они подделывались под управляющее звено служащих конторы с длинным и непонятным названием «Промкомкультурторг», и в их обязанности входило составлять отчеты и отправлять дальше по инстанции. Тридцать дней они ничего не делали, а на тридцать первый – словно из пространства, из ничего, доставали толстенные папки, и единственное, что надо было сделать – пронумеровать и подписать их. Ларий Похабов был начальников, Рудольф Нахалов – подчинённым. Они ходили исключительно в костюмах, галстуках и белых рубашках «Красного швейника», морщась, пили минеральную воду «боржоми», выписывали премии подчинённым и себя, любимых, не забывали. Но закон чтили, и придраться к ним было невозможно, ибо деньги, обычные земные деньги, их интересовали в самую последнюю очередь.
– Чем же он занимается? – крайне удивился, старший инспектор, Ларий Похабов, успев подзабыть мученика Булгакова.
– Самым простым делом в мире… – не удержался Рудольф Нахалов от поклёпа.
– Ну?.. – с раздражением подтолкнул его Ларий Похабов, как самоубийцу к петле.
– Шляется по бабам! – сдал Булгакова Рудольф Нахалов.
– С чего бы это?.. – крайне удивился Ларий Похабов, хотя, конечно, его давно нервировала ситуация с Булгаковым, как нудная зубная боль: у него столько работы, мы и таланта ему подкинули, пиши не хочу, а он… вот гад! – думал Ларий Похабов.
Да за такую ситуацию можно дюже тяжко поплатиться. Такие прецеденты уже были: фиаско прямо в середине пути, думал Ларий Похабов; и оба слегка занервничали, ибо люди были страшно предсказуемы в своей земной гордыни и в своём неведении.
– Он написал два романа! Два! – снова закричал Рудольф Нахалов, всплескивая, как нервная женщина, руками. – А нас побоку!
– Он нам кучу денег должен! – риторически поддакнул Ларий Похабов, и посуровел, как морозная зима.
Зал был полупустым, но не настолько, чтобы на них не обратили внимание. Седой многозначительный дядя, с внешностью председателя Совнаркома, нехорошо нахмурился и задёргал пальцами.
Подскочила официантка Юля в накрахмаленном переднике и в кофточке, в разрезе которой призывно билась жилка:
– Вы хотите что-то заказать?! – её круглые, серые глаза смотрели испуганно.
– Грузинского коньяку! – сказал Ларий Похабов. – А ему бубликов! – Показал на Рудольфа Нахалова. – И нехорошо засмеялся, мол, я тебя непредосудительно понял и осуждаю за доносы и мелкое пакостничество.
– Лимончика! – как ни в чём не бывало поправил Рудольф Нахалов и на всякий случай хихикнул, чтобы начальство, то бишь, Ларий Похабов, не свалило на него все грехи в случае неудачи с Булгаковым.
Ларий Похабов наконец-то заволновался, но не подал вида. Перед ними давно маячил не просто выговор даже в родном бюро или пусть даже в департаменте «Л» с соответствующими последствиями лишения наград и премий, а самый что ни на есть настоящий, стопроцентный отстойник. Конечно, это была крайность, событие для куратора первой категории чрезвычайно редкое. Но всё равно он счёт нужным возразить:
– Ну, во-первых, не два, в полтора! – и покривился, понимая, что оправдывает своенравного и глуповатого человека. – «Дьяволиада» не считается. А во-вторых, его роман о белой гвардии – это всего лишь прелюдия!
– Хороша прелюдия! – не мог успокоиться Рудольф Нахалов. – Мы его и так и эдак натаскиваем, а он и ус не дует.
В инструкциях по выращиванию душ гениев было ясно сказано: «Давать возможность фигуранту самостоятельно прийти к требуемому решению. Подсказывать исключительно раз за разом, по мелочам, незаметно, слово за слово. Только в этом случае гарантируется успех дела». Иначе сядет на шею и свесит ножки, но это была исключительно их интерпретация, как опытных и дельных кураторов.
– Почему «не дует»? – покривился Ларий Похабов, вовсе не собираясь защищать Булгакова. Однако так можно было дойти до абсурда, вроде бы как они вообще с ним не работают. И заподозрил Рудольфа Нахалова в доносительстве в высшие инстанции. – Пусть испытывает все муки творчества, – добавил он нравоучительным тоном. – Пусть учится, а то такого начеркает, что ни в одни ворота не влезет!
– То-то ты его заставляешь черновики жечь! – снова завопил Рудольф Нахалов, не подозревая, что его горячность не так понята. – Он же чокнется!
Монументальный дядя, похожий на председателя Совнаркома, опять нахмурился и начал тихонько метать искры. И официантка Юля чуть ли не бегом и едва не спотыкаясь, подала коньяк и лимон.
– Это как поглядеть! – возразил Ларий Похабов, когда официантка Юля, нервно оглядываясь, шкодливо юркнула в буфет.
Ларий Похабов долго и задумчиво смотрел на её зад Венеры Милосской. Неизбывное человеческое начало брало своё.
– Давай снова Гоголя вызовем?! – сгоряча предложил Рудольф Нахалов, отвлекая Ларий Похабов от сладких мыслей.
– Его и так рвут на части! – напомнил Ларий Похабов о крайней востребованности Гоголя.
– Ну и что?! – с презрением ко всему человечеству фыркнул Рудольф Нахалов, сделавшись на какой-то момент дюже умным: если Булгаков горшки побьёт, то мне, как молодому, конец, подумал он.
– А кто нам позволит? Кто?! – вышел из себя Ларий Похабов. И посмотрел так, что Рудольфа Нахалова в душе сжался. – Начальство и так косится. У тебя есть столько энергии? – хитро прищурился Ларий Похабов и попал в точку.
Можно было занять у кого-нибудь, у приятелей по департаменту, но щекотливой ситуации, в которой они оказались, это не изменит, а во-вторых, непременно и тотчас донесут наверх, и пиши пропало, как минимум тыкнул носом в профнепригодность. После этого они не получат ни одного стоящего дела, а будут перебиваться бездарями типа Юлия Геронимуса, за которых никто не берётся, а отбрыкиваются, как от чумных.
Рудольф Нахалов кое-что сообразил и опустил глаза, нехорошо, по-воровски покривившись:
– Нет… энергии…
– Ну вот видишь, – пристыдил его Ларий Похабов, выпил коньяку по-старокупечески, отставив палец в сторону, и не удержался: – Ах, хорош, зараза!
– Давай тогда ещё что-нибудь сделаем! – снова загорячился Рудольф Нахалов и тоже выпил коньяку, но поспешно, как пьяница под забором.
Ларий Похабов заёрзал в кресле, зыркнув на Рудольфа Нахалова, а ведь того и гляди побежит к начальству и испортит всю малину, куш которой превосходил все воображаемые пределы, может растаять, как дым, и всё из-за горячности Рудольфа Нахалова. Да за реализацию таких проектов, как Булгаков, имя кураторов вписывалось золотыми буквами в историю цивилизации, не говоря уже о повышении и в энергетическом выражении благодарности начальства. Как ему ни хотелось, а приходилось идти на крайние меры, но не те, которые предвкушал Рудольф Нахалов.
– Ладно… – согласился Ларий Похабов, поедая жирный гуляш со степенностью пресыщенного человека и вытирая салфеткой жирный подбородок, а потом сказал. – Подсунем ему блондинку!
– Белозёрскую, что ли?! – радостно догадался Рудольф Нахалов, брезгливо копаясь в своей тарелке. – Но ведь она…
– А чего она?.. – неприязненно перебил его Ларий Похабов. – Чего? – Он был старше и лучше понимал жизнь. – Подумаешь, была замужем за журналистом!
– За белым журналистом! – многозначительно покривил мордой Рудольф Нахалов, словно был моралистом на особом положении самого творца.
«А тебе какое дело?! – хотелось оборвать его Ларию Похабову. – Остынь! Ещё не вечер, а Гоголь может пригодиться в качестве последнего и самого веского аргумента!» В конце концов есть другие методы, подумал он, не конкретизируя мысль. Но Рудольфу Нахалову он, конечно же, ничего не сказал по соображениям мудрости и проницательности.
– Булгакову наплевать! – нервно, как женщина, засмеялся Ларий Похабов; и его правый глаз с растёкшимся зрачком казался уже давным-давно мёртвым, как у совы в фильме «Дракула».
– А зачем нам это? – удивился Рудольф Нахалов, и лицо его, обычно глупое, как у пубертата, стало ещё глупее.
– Ну как «зачем»? – повеселел Ларий Похабов. Он понял, что система отбора личностей дала сбой: Булгаков жил страстями, а не разумом, на этом стоит сыграть. – Для разгону крови! Через пару месяцев он издаст роман, заодно начнёт наш. Деваться-то некуда.
– Ой ли! Он и так уже пишет три года! – возмущенно напомнил Рудольф Нахалов.
– Ничего, ничего… – не слушал его Ларий Похабов, – секс в стране никто не отменял! Секс нас вынесет! – при этом он всего-навсего один раз щёлкнул пальцами.
И седой многозначительный дядя, с внешностью председателя Совнаркома, который уже вовсю метал искры, гневно выпучив старческие глаза, поманил к себе пальцем официантку. И официантка Юля вдруг с дикой страстью пантеры, виляя прекрасным задом Венеры Милосской, подлетела к нему и, плюхнувшись на колени, обвила ласковыми ручками.
– А жена?.. – невольно покривился Рудольф Нахалов, помня Тасю только с хорошей стороны, и какая из жён сунется в логово дьявола? А ведь сунулась! Не побоялась! Значит, было ради чего?!
– Разведётся! – с безразличием в голосе ответил Ларий Похабов, вспомнив свою земную жену, которая пила его кровушку с утра до ночи и с ночи до утра.
Рудольф Нахалов, которому тоже нравились обычные женщины, был ещё романтиком и метил лишь на положение вечного подкаблучника, потому что не понимал ещё сути земной жизни.
– Я не знал, что ты такой жестокий, – среагировал он и снова приложился к коньяку от горя и безысходности к обычной человеческой жизни в её земной воплоти.
Ларий Похабов понял его однозначно:
– В инструкциях нет понятия жалости, – напомнил он между делом.
– А человечности?! – вырвалось у Рудольфа Нахалова, и он тут же пожалел о своей запальчивости, ибо понял, что Ларий Похабов не поддержит его, даже не поймёт, настолько они вошли в роль земных беспринципных функционеров.
– Тем более, – навёл Ларий Похабов на него свои страшные разноцветные глаза, прогневить которые Рудольф Нахалов очень боялся. – Подкинь ему какое-нибудь чудо, только нестрашное, чтобы он просто не забывал о нашем существовании, но и не чокнулся с перепугу!
– Подкину, – радостно засмеялся Рудольф Нахалов, вспомнив все реакции Булгакова на лунные чудеса.
– Ну и молодец! – плеснул себе ещё коньяку Ларий Похабов. – А потом видно будет!
Он ещё раз щёлкнул пальцами. Монументальный дядя, с внешностью председателя Совнаркома, помолодевший лет на двадцать и уже исследующий коленку официантки Юля, вдруг очнулся и сбросил её на пол. Юля подскочила, как лань, одёрнула юбку и, как ни в чём не бывало, однако всё ещё виляя прекрасным задом Венеры Милосской, направилась в буфет. И в это момент она была самой неприступной и гордой советской девушкой на свете.
***
Наконец у них случилось выяснение отношений.
– Ты что хочешь подложить меня под Булгакова?.. – открыла она от удивления пунцовый рот, разглядывая Юлия Геронимуса в огромном, старинном венецианском зеркале, затемнённом по углам паутиной времени.
«Юлик, женись!» – Вспомнил он слова матери в Одессе, – у тебя два высших образования!
«И ординатура, мама!» – уточнил он, явно гордясь собой.
И женился на аспирантке Софье Модестовне, крепенькой и верткой, как пешка, переходящая в ферзи, возненавидев себя с тех пор, впрочем, как и весь женский род априори. Правда, уже в Москве, он не мог устоять перед напором и изяществом Любови Белозёрской с ангельским лицом и самым безвольным образом нарушил данный самому же себе обет: никогда, ни при каких обстоятельствах больше не связываться с женским полом. Связался на свою голову, и долго раскаивался, поняв наконец одну единственно верную мысль: лицемерие семейной жизни никто не отменял, оно существует независимо от суперумного вида жены, как самодостаточная функция. И один из супругов всегда и во всем должен был уступить даже ценой комплекса неполноценности и физиологической немощности: в какой-то момент он заметил, что стал переходить в состояние импотента и стал таскаться по проституткам, дабы сохранить любовь к жизни.
– Не так грубо, конечно… – принялся врать Юлий Геронимус, корчась в душе. – Но в общем-то, да! – смело посмотрел в глаза Белозёрской, однако не выдержал и мгновения её пронзительного, небесного взора.
В бешенстве она разбила с непреклонным выражением на ангельском лице старинное венецианское зеркало, которое давно хотела разбить, швырнув в него одну из пары китайскую вазу девятого века, стоящих на тумбочке для постельного белья.
Осколки ещё забавно прыгали по красному иранскому ковру, а Юлий Геронимус уже ловко спустил волосатые ноги на пол и со спокойствием утопленника стал искать трусы, которые по привычке забрасывал под койку.
– Ну ты и скотина! – закричала Белозёрская, сверкнув своим бриллиантовым взглядом.
Именно этот взгляд долго сводил Юлия Геронимуса с ума, и Юлий Геронимус уже сдался и готов был жениться, но, к счастью, обнаружил, что его невеста – психопатка, обычная, рядовая, даже без намёка на имитацию или игру. Юлий Геронимус сам был скрытым психопатом, а два психопата в семье – это уже явный перебор. Белозёрская в свою очередь, решив, что замужество у неё в кармане, и не могла удержаться раньше времени от удовольствия закатывать скандалы. Это было её хобби с того самого момента, ещё в школе, когда она поняла, что имеет власть над мужчинами, и вторая её половина холодная, как Чёрное море в ноябре, наблюдала, как выкручивается из ситуации очередной поклонник мужского полу.
– Я скотина с деньгами! – напомнил Юлий Геронимус, поддерживая живот, которого ещё не было, но который намечался, и ловко натянул брюки, лихачески щелкнув при этом лиловыми подтяжками.
– Это единственно тебя и спасает! – в тихом бешенстве заметила Белозёрская и тоже сползла с постели, чтобы усесться в пухлое кресло-развалюшку.
Её чудесное голое тело цвета лёгкого крымского загара, естественным образом привлекло внимание Юлия Геронимуса. Она нарочно потянулась, на мгновение приоткрыв правую грудь с большими чёрными сосками, которые так нравились Юлию Геронимусу, и накинула розовый пеньюар. Юлий Геронимус облизнулся, прочистил горло и пошёл на попятную.
– Я же не нарочно…
– А как?.. – сверхтеатрально удивилась она. – Ка-а-к, Юлик?.. – дёрнула она красивой головой с чистым, ясным лбом породистой, умной женщины, знающей себе цену.
– Ты же не хочешь жить со мной?! – ждал он подтверждения от холодной, бешеной фурии.
– Ну да… – согласилась она безжалостно, вспомнив, что ещё давеча, в Париже, ей предлагали колье бриллиантов за ночь любви.
Ей даже сказали, что она единственная женщина на весь Париж, достойная их носить. И у неё от лести закружилась голова.
Но бриллианты могли быть фальшивыми, а то и крадеными, и Белозёрская устояла, хотя, конечно, слышала из надёжных источников, что грузины даже в группе очень ласковые и нежные любовники, и не идут ни в какое сравнение с парижанами, которые оказались похожими на обычных деревенщин, потому что дистанция там от одного до другого, в отличие от России, крайне мала, если вообще существует.
Белозёрской пришлось тайно лечиться с помощью дог-шонг тибетской медицины, чтобы избавиться от излишней страсти. А Юлий Геронимус, сам не зная того, послужил той лакмусовой бумажкой, которая определила её дальнейшую судьбу. Как ни странно, тибетское снадобья оказались действенными, и Белозёрская снова научилась любить одного мужчину. Это было трудно, архисложно, но другого выхода не было. Так был устроен мир. И Белозёрская смирилась, как монахиня на третий год воздержания.
– А чего тебе?.. – по-обыденному принялся уговаривать он, твёрдо решив раз и навсегда избавиться от неё при первой же возможности. – Талантлив? Талантлив! Даже очень! – Для острастки закатил он глаза. – Талантливей меня, между прочим!
– Не может быть, – скептически произнесла Белозёрская абсолютно дрянным голосом мегеры.
Юлий Геронимус решил не делать паузы, которая погубила бы его в мгновение ока.
– Женится без оглядки, – как ни в чём не бывало напророчествовал он. – Лично я жениться не могу. У меня убеждения!
Он тонко намекнул на первый неудачный брак и другие обстоятельства, даже на свой знаменитый нос, который имел привычку соваться во все сомнительные предприятия. Конечно, было жаль расставаться с Белозёрской, но Юлий Геронимус мог смело рассчитывать на её снисхождение, когда ей нужны будут деньги и его, хоть не дюже большое, но заметное влияние в московском обществе любителей говяжьих колбасок.
– Ты меркантилен, как всякая скотина! – отрезала Белозёрская с ангельским выражением на побледневшем лице и занялась макияжем, поглядывая в тот самый угол венецианского зеркала, тронутый временем, который, к счастью, остался цел.
– Кто бы меня упрекал, – усмехнулся Юлий Геронимус, обходя осколки и заправляя рубашку в брюки. – И поставь вазу на место! Она стоит пять миллионов!
Особенно ему было жаль ту из них, где патина времени была больше заметна. Стоила она как минимум в два раза дороже. Но он не знал, какую из них разбила Белозёрская.
– Новыми или старыми? – повела она глазами.
– Старыми, конечно! – напомнил Юлий Геронимус свои возможности.
– Ну ты и сквалыга! – беззлобно сказала она, подводя губы и облизнулась ловко, словно ящерица.
– Если бы я был сквалыгой, – отрезал Юлий Геронимус, – ты бы не выдержала со мной полгода!
– Ага, всё-таки ты подл! – напомнила ему Белозёрская с ловкостью изощрённой кокотки.
– Ладно, пусть я буду подл, но я согласен платить тебе…
– Пять миллионов, – посмотрела на вазу Белозёрская.
– Ладно, чёрт с тобой. Проведем это по статье «не особо ценный реквизит».
Белозёрская поняла, что продешевила.
– Я требую проценты за вредность!
Юлий Геронимус засмеялся довольным тенором.
– Первое слово дороже второго!
– Тогда я разрываю договор!
– Зря! – покачал он большой головой с плоским затылком.
– Почему?
– Потому что через полгода, крайний срок через год, ваш подзащитный станет очень и очень знаменитым, и деньги потекут к тебе рекой, и заметь настоящей валютой, а не марками.
– Откуда ты знаешь, сквалыга? – занялась она длинным ногтём на указательном пальце.
– Я всё знаю! – добродушно хихикнул Юлий Геронимус. – Я собираюсь издать его!
Это уже было не тайной. Об этом уже можно было говорить, потому что роман Булгаков был утверждён наверху.
– Ах… да… ОГПУ… – ядовито догадалась она и победоносно блеснула глазами.
– А вот это слово лучше забыть раз и навсегда, – предупредил он её абсолютно суровым тоном, дабы Белозёрская прониклась страхом и поняла наконец все ужасы гражданской войны и её теоретические последствия для болтливых и наивных бабёнок.
– Почему? – невинно вскинула она прекрасные голубые глаза и заарканила его и повела чуть ли не в постель.
– Потому что не хочется видеть столь прелестную головку на каком-нибудь заборе, – через силу прошипел он, ибо, похоже, это милое, прелестное создание с бархатной кожей намеревалась не в шутку испортить ему жизнь и карьеру.
– Так всё серьёзно? – удивилась она и поёжилась.
Любая подобная перспектива показалась ей неуместной в этом теплом, уютном гнёздышке, где в американском холодильнике лежала севрюга и чёрная икра.
– Ты даже сама не поймёшь, где влезешь в чью-то игру, и фенита ля комедия! – поучил он её тонкостям политического дифферента.
– Ладно… ладно… я поняла, – вскочила она, запахивая пеньюар и ловко маневрируя между креслом-развалюшкой и спинкой кровати. – Тогда мне нужен аванс! У меня машина в ремонте.
Машины свои она никогда не ремонтировала. Легче было купить новую, потому что за ремонт каждый раз заламывали такую цену, что даже Юлий Геронимус приседал.
Она проделывала это не менее трёх раз, и намеревалась проделать ещё раз, потому что при скорости в пятьдесят километров в двигателе появлялись странные шумы, а это нервировало Белозёрскую, которая любила быстро ездить.
– Хорошо, – понял он свою проблему и полез в платяной шкаф, где у него был спрятан большой кожаный портфель. – Сегодня же переедешь!
– Как это?.. – опешила она, с сожалением оглядывая обстановку спальни.
Была ещё гостиная, кабинет, ещё одна спальня, огромная кафельная кухня и приёмная, как у большого правительственного чиновника. Юлий Геронимус использовал её в качестве редакционного склада.
– Пока снимешь номер в гостинице. И не афишируй перед ним, что у тебя есть деньги.
– Ну ты и скотина! – резюмировала она, вырывая у него из рук банковскую пачку.
– Для твоего же благо, – напомнил он её, швыряя ещё одну на постель, чтобы она потянулась, а он бы посмотрел на её грудь. – В банк не суйся. Лучше отдай кому-нибудь под проценты, но так, чтобы я не выбивал их потом!
– Сама решу! – обрезала она. – Не маленькая!
Она с сожалением подумала о том грузине, Якове Парадзе, с бриллиантовым колье, но, где тот грузин и где то колье?
– С чего ты решил, что женится? – оживилась она, и как умная женщина, опуская все нюансы, потому что в данной ситуации они были неважны, раз «может жениться», какие вопросы?
– Ну а кому ты ещё нужна с такой подпорченной биографией? – ввернул он.
– Ты хочешь сказать?.. – она быстро взглянула на него, чтобы проверить реакцию.
– Да! В душе он такой же белый, чистый романтик, наивный, как и ты снаружи, раз, и во-вторых, ты откуда прибыла?
– И талантливей тебя?! – перебила она его, поняв всё, все его намёки.
Она решила отомстить Юлию Геронимусу сразу, зачем далеко ходить?
– В общем-то, да! – подумал он честно и понял, что ещё легко отделался, потому что, если бы она ухватила суть вопроса, то могла выбрать иглу потолще и подлиннее и ударить прямо в сердце.
Юлий Геронимус был оценщиком бриллиантов в литературе, но в технологии огранки не разбирался. Он слыл большим знатоком прозы, хватая всё на лету, присваивал себе все текстуальные изречения и новомодные словечки, поэтому ему и нужен был Булгаков для их огранки. За Юлием Геронимусом стояло государство, ОГПУ и большие деньги. Мало кто об этом знал, а тот, кто знал или хотя бы догадывались, предпочитали помалкивать. Дело это было опасным и неоднозначным, даже в двадцать четвертом. Кто знает, что будет дальше? Женитьба на белоэмигрантке могла поставить огромный, каменный крест на любой карьере, даже такого большего писателя, каким представлял себя Юлий Геронимус. И не беда, что романы не получались, если долго мучиться, что-нибудь да обязательно получится. Однако об этом никто не должен был знать; мегалитические литературные проекты, одобренные наверху, крутились у него в голове; и он старательно, как безногий, альпинист, упёрто, как беспорядочный метроман, лез на свою графоманскую горку всё выше и выше.
– Где же твоё огромное честолюбие? – взяла она его за породистый нос.
– Если бы оно было таким огромным, я бы его давным-давно продал, – в шутку признался Юлий Геронимус, освобождая свой большой, медвежий нос из её цепких, острых коготков. – Но нет честолюбия. Есть некий вариант слабенького тщеславия, а это не одно и то же.
Юлий Геронимус понимал, что тот, кто всерьёз свяжется с Белозёрской, подложит под себя бомбу замедленного действия. Почему бы это не сделать Булгакову, решил он, тем более, что за ним должок, и не один. Первый образовался из-за того, что Юлий Геронимус неожиданно для себя влюбился в младшую сестру Булгакова, Елену. Однако Булгаков по незнанию ситуации и огромному литературному самомнению стилиста и золотого пера России испортил «сватовство майора», и с тех пор Юлий Геронимус имел на него не очень огромный, но качественный зуб, хотя быстро утешился в объятьях Белозёрской. Но это тоже было страшной тайной, и все всё понимали, кроме Булгакова, потому что он был влюбчив, слеп и только входил в московские компашки, всё было впереди.
***
А ведь как хорошо, что я не стал белоэмигрантом, думал довольный Булгаков, вышагивая в марте месяце в районе в Китай-города, и всё складывается как нельзя лучше; когда в правом ухо влетел невыносимый автомобильный гудок и зловредный женский голос произнёс, явно с намерением, чтобы на него среагировали:
– Ну кто так гуляет? Кто?! Сигизмунд!
Булгаков находился на тротуаре и представить себе не мог, что нарушил чью-то экстерриториальность. Потом под ноги выкатился тот самый Сигизмунд, ужасно злобный тойтерьер, исходящий мелкой дрожью, нагло окропил его штанину и залился отчаянным лаем: «Брысь отсюда, голенастый!» Булгаков брезгливо потряс попорченной ногой и поднял руки, всё ещё не видя хозяйку этого забавного существа.
– Я сдался!
Но Сигизмунду было мало, он вывел отчаянную руладу и пометил ещё и ближайший голый куст.
– Ах, бросьте! – всё так же капризно заметил всё тот же женский голос.
– Я не боюсь собак и женщин! – храбро заявил Булгаков и оглянулся.
– Пока не знаю! – с вызовом ответила женщина.
Булгаков потянулся на цыпочках и увидел.
Блондинка, светлые глаза – дно видно. Жёлтая, прибалтийская, тех лет, когда юность ещё не покинула, а только определила намерения. Шамаханская царица с несколько затянутым лицом, с раздвоенной косточкой на кончике вздорного носика, в новомодной шляпке «горшок-милитари», похожей на каску первой мировой, в крапчатом жилете с шарфом на лебединой шее и шикарных плечах. Владелица роскошной жёлтой «торпедо», сама великолепная Любовь Белозёрская, с которой Булгаков уже имел честь быть шапочно знаком, и он почему-то сразу, на уровне бессознательного, которое так любил Зигмунд Фрейд, лично для себя, назвал её странным именем Ракалия, хотя, разумеется, всей душой был против, но назвал, ничуть даже не смущаясь. Много позже он понял, что у неё абсолютно не было мозгов. Он могла только рефлексировать, но хорошо маскировалась. Фрейд был бы в шоке! – решил он, играя не по правилам психоаналитики, то есть наплевательски относясь к своим же решениям не связываться с пустыми женщинами. Ему так хотелось женщины сильнее и умнее его самого, что он не мог удержаться в своих поисках. Но таких, он имел опыт убедиться, в природе не существовало.
А всего лишь: Миш, сказал он сам себе, не принимай харизму за ум, а красоту – за гениальность; но всё равно, как ворона, попался на блестяще и яркое и остановиться уже не мог, слишком всё было живое, трепетное и прелестное, меняющееся ежесекундно и не поддающееся никаким доморощенным оценкам.
Впрочем, он точно знал, что она заигрывает, чтобы безжалостно высмеять, если он клюнет, поэтому был очень сдержан и осторожен, как канатоходец. Я на эти уловки не попадусь, думал Булгаков, все эти женщины с глазами ланей… Но мысли ему не хватило. Мысль была суха и занудна, а Белозёрская-Ракалия – во всех отношениях темпераментна и привлекательна.
– Ах, это вы?! – живо воскликнула она и призывно помахала.
Белозёрская приятельствовала с Юлием Геронимусом непонятно в какой степени – то ли спала, то ли просто любезничала на людях, всегда запанибратски, демонстративно намекая на некие толстые обстоятельства. Но кого сейчас этим удивишь? Разве что ворон на деревьях?
Булгаков со своим носом-бульбой всегда свободно чувствующий себя с любой женщиной, слегка смутился, но не подал вида, а лишь с удивлением посмотрел на неё: в Москве с ним ещё никто так не разговаривал: женщины здесь искали только меркантильный интерес. И он принял эту её манеру за новый стиль холодных, азиатских модниц, а потом, когда узнал, что Белозёрская вообще прибыла из иных Палестины, то бишь из его любимого Парижу, где прятался Толстой, которого сделали великим ещё загодя, то все карты со всеми джокерами вообще оказались у неё на руке. И она принялась сдавать их, вытягивая козыри из рукавов: то у неё шубка, то шляпка, то пелерина, то лайковые перчатки до локтей – да так ловко, что у него голова шла кругом, хотя там были странные метки типа метания молний для кокетства и долгие призывные взгляды. Но это произошло позже, когда Булгаков перешёл в разряд потенциальных любовников, кстати, абсолютно не претендуя на эту роль. Но в болото он уже влез и выбраться просто так, без потерь, не мог, ибо был человеком чести и порядочности, а также хорошо развитых инстинктов продолжения рода.
Он вспомнил их предтечу в ресторане «Альпийская роза», куда его пригласил Юлий Геронимус, и Сигизмунда не забыл.
– И что же вы хотите? – спросил он тогда.
– Я хочу, чтобы ты влюбился и таскался за мной, как бобик! – посмеялась она.
– Ещё чего! – буркнул Булгаков, опешив от такой наглости.
– Конечно, если я захочу… – рассуждала она дальше, играя своими очаровательными глазами света бесподобной бирюзы.
В волнении она часто-часто заморгала ресницами, и наивный Булгаков принял это за чистоту помыслов и глубокую, открытую натуру.
– Не дождёшься! – буркнул он зло, скрестив под столом напряженные чресла. – Мы даже не спали…
Последнее он брякнул с досадой и с тайной надеждой тут же исправить положение хотя бы в общественной туалетной. Но тут явился Юлий Геронимус, и более чем откровенный разговор заглох естественным образом.
В Китай-городе же Белозёрская соизволила быть сдержанной:
– Юлий Геронимус дико извиняется, он сегодня страшно занят (Булгаков усмехнулся: на блядках?) и поручил мне вас развлечь. Надеюсь, вы не против? – подняла она удивлённую тонкую изломанную бровь, столь походя в своём вознесении на Эль Греко, что Булгаков едва не раскаялся в пошлости, но вовремя сообразил, что эта игра в святую не стоит и выеденного яйца, и стал капризным забиякой.
– Нисколечко! – обрадовался он и прыгнул в машину.
Вслед за ним сиганул грозный Сигизмунд и, естественно, испачкал белое кожаное сидение, на что Белозёрская среагировала весьма снисходительно:
– Ах, Сигизмунд, ах, проказник!
Булгаков и не подозревал, что она из числа тех женщин, которые создают проблемы мужчинам. Нет, они не легли в тот день в постель. Для этого она была достаточно умна. Она потащила его на какую-то вечеринку в ресторан «Армагеддон»:
– Ни на кого не обращай внимания!
Однако попробуй! Его затаскали, как заморскую штучку, хотя он всё больше и больше ощущал себя стопроцентным москвичом, акал и даже говорил с акцентом на «г», а слово «булочная» произносил через «ш» – «булошная». Но всё это было всего лишь предвестником славы.
Дукака Трубецкой, с маленькой петушиной головой, сказал на правах аскета:
– Будь с ней поосторожней!
Жорж Петров с хитрым лисьим лицом, добавил, забыв о Купаве Оригинской:
– Она прелестна!
Курносый Илья Ильф поморщился:
– Я бы с такой переспал!
И получил подзатыльник вовсе не от Булгакова, а от хитроватого Жоржа Петрова:
– Не пялься, ослепнешь!
– Я и говорю… – присмирел Илья Ильф, – женщина моей мечты!
Булгаков не стал уточнять, что имел в виду маленькая острозубая скотина, Дукака Трубецкой, а сказал:
– Всё, ребята, опоздали! – сделал шаг и пригласил Белозёрскую на тур вальса.
Он понял, что за Белозёрской нужен глаз да глаз, и увёл прямо из-под носа толпы самцов. Она и казалась такой: легкой, беспечной, готовой на авантюры, вскружить всем головы и ошарашить.
– Ты так стильно изображаешь влюблённую семейную пару, что у меня ёкает сердце, – прекраснодушно призналась Белозёрская с ангельским лицом, когда он коснулся губами её шеи.
Он ей нисколечко не поверил, решив, что при живом Юлии Геронимусе это более чем пошло, однако принял к сведению, что она им заинтересовалась.
Но оказалось, что Юлий Геронимус здесь ни при чём, что они всего лишь друзья по Парижу. Ах, Париж! Ах, Лувр! И этим ещё больше заморочила голову Булгакову. А ещё околдовала его разговорами об небожителях эмиграции, о художнике Поле Гогене и поэте Поле Валерии. Оказывается, она знала Алексея Толстого и бывала у него на вечеринках.
– Не так чтобы близко… – сказал она многозначительно, – но его львиная грива произвела на меня сильнейшее впечатление!
И Булгаков пропал. Он понял, что если не будет обладать этой фееричной, прекраснейшей, воздушной и непосредственной женщиной, дабы бесконечно слушать её рассказы о самом прекрасном городе на земле, то станет последний идиотом в Москве. И выбор был сделан в пользу Парижа и, разумеется, восходящей звёзды русской литературы Алексея Толстого.
Булгаков был так захвачен новой животной жизнью, что моментально отдалился от Таси. Он ещё помнил её образ, но имя и выражение глаз забыл напрочь.
– Не обращай на меня внимания, иногда я говорю сумасшедшие вещи! – призналась Белозёрская, поглядывая на него лучезарно сверху вниз.
И никаких скидок! – решил он. Но когда она его впервые поцеловала, он разрешил ей быть немного сутулой и немного косолапой из-за роста и шикарных, длинных ног, тонких и стройных в лодыжках.
Однако у неё, как у всякой женщины, оказалось семь пятниц на неделе и привычка краситься и кривляться перед зеркалом по три часа краду. В комнате, которую они тайно снимали, поселились необычно стойкие запахи и звуки женских туфель и застежки зиппер.
Булгаков даже не подозревал, что в тот день, когда они поженились, она тотчас наденет маску фурии.
Глава 7
Москва 1924 – 30.
Тебе не о чем беспокоиться – я никогда от тебя не уйду – II
Он то просыпался от неясной тоски и до рассвета пялился в потолок, то вдруг повадился шастать по ночам в издательство к Юлию Геронимусу, по кличке Змей Горыныч, и пить водку.
То ли ему нравилось между делом выкладывать правду-матку о его бумагомарании, то ли просто хотелось поучаствовать в его литературной беспомощности в качестве нравоучителя, но порой он ловил себя на том, что по отношению к Юлию Геронимусу находится точно в таком же положении, как великий и несравненный Гоголь по отношению нему лично. Худо-бедно Юлий Геронимус даже начал писать свой чахоточный роман и делал это ужасно коряво, как курица лапой. Ну да Булгаков, видя его мучения, с барского плеча подарил ему назидательно ёмкую фразу о заштатном городишке, где все только и делали, что рождались, брились и умирали.
Юлий Геронимус плясал вокруг неё, как полоумный, крича; «Цимус!», «Эврика!» и развернул целое полотно. Но Булгаков прочитал и безжалостно порезал:
– Ты же хорошо писал?.. – В его голосе невольно промелькнула брезгливость. – Кратно и чётко, под метроном. Ну?.. – окатил ледяным взглядом. – В чем дело?..
– Да… – покраснел Юлий Геронимус, не понимая, куда он клонит, но догадываясь о своём врождённом кретинизме.
– Оставь первую фразу и забудь о ней, иди дальше, найди что-нибудь новенькое, царственное, с небрежностью творца, нечего пережевывать то, что уже названо своим именем.
Он ужаснулся своей способности давать гениальные советы при полнейшей слепоте в собственных произведениях, но не подал вида, что беспомощен точно так же, как Юлий Геронимус.
– А как же?.. – попытался возразить Юлий Геронимус, не понимая, как можно расстаться с таким бриллиантом в короне.
Однако был остановлен непререкаемым Булгаковым:
– Поверь мне! Просто поверь. Завтра мозги у тебя прояснятся, прочтёшь и всё поймёшь! Не трать время!
Он знал, что он лицемер, что в этих разговорах он оттачивает своё мастерство, находясь на тридцать три порядка выше Юлия Геронимуса и понимая больше и обширнее, но это была ещё не вершина. Вершины он не видел, а только предполагал её наличие, поэтому-то и ходил под предлогом пьянства к Юлию Геронимусу и тонко издевался над ним.
– Ты так думаешь?.. – беспомощно потрафил Юлий Геронимус великолепному вкусу Булгакова.
– Я уверен! – жёстко ответил Булгаков.
После этой фразы Юлий Геронимус отнёсся к нему крайне осторожно, как в хрустальному бокалу на тонкой балериной ножке, сообразив наконец, что столкнулся с человеком крайне высокой специализации, смотрящего глубже и дальше, и советы его бесценны, как реликвии литературы. Бедный Юлий Геронимус готов был даже переехать к Булгаковым и жить рядом с ними, дабы только улавливать и усваивать гениальные мысли Булгакова, но понимал, что это, увы, невозможно, во-первых, Тася не так поймёт, а во-вторых, Белозёрская закатит скандалы, узнав о его самодеятельности и разорвёт договор, пиши пропало, пиши, что жизнь слетит с катушек и покатится под откос.
Поэтому однажды он сорвался, нервы не выдержали, и они подрались самым глупейшим образом.
В ту памятную ночь Тася залезла в его ящик с черновиками. Она знала, что утром всё равно всё вылетит в печную трубу, и впервые прочитала о Берлиозе, которому трамваем отрезало голову, и пророке Иване Бездомном, предрекшим появление Воланда, и коте Бегемоте, который расплачивался двугривенным и ездил на подножке, потому как в вагон его не пустила злобная и глупая кондукторша. Но всё это было ещё в хаосе и зачатке.
Булгаков вернулся под утро мокрым, как пожарник, сунул нос, куда не следует, и, бесцеремонно растормошив Тасю, спросил:
– Где?.. – пялился строго, как судья. – Где всё?!
– Там… – поняла она, – там… на шкафу, в папке, – и отвернулась.
Все её благие намерения, сохранить архив, пошли прахом.
– У тебя кровь! – испугалась она, заметив ссадину у него на брови.
– А-а-а… ерунда! – отмахнулся он, впрочем, незаметно от неё исследуя шишки на своём же затылке, который слегка гудел, как растревоженный улей.
Шишек было две: справа и слева.
– Дай, я смажу! – засуетилась она, шлёпая босыми ногами и доставая аптечку.
– И никогда так больше не делай, – укорил он её нервно, кидая листы в печку и не давая совершить действо с зеленкой.
Булгаков хотел сказать, что многословие в черновике не избавляет от графомании, но не стал. Тася сама всё понимала.
– Ты последний изверг! – с безнадёжностью в голосе всё-таки упрекнула она, инстинктивно полагая, что черновики зачем-нибудь да пригодятся.
Впрочем, с тех пор она стала хитра, как сто тысяч лисиц, и сняла две копии: одну для Булгакова, вторую – для истории.
Он не мог ей объяснить, что иногда, очень редко, в минуты великого просветления, видит текст, как единый, рельефный каркас, и тогда он, действительно, получался великолепным, чётким и звонким, как струны альта. И квинт ложится в своё прокрустово ложе, как патрон в ствол, с одной единственной целью породить истину. Даже морфий не давал этого могучего состояния. И Булгаков всё чаще и чаще связывал его с лунными человеками, которые, оказывается, смотрели сквозь пальцы на все его лукавства и жульничества, держа своё слово защитников. Поэтому всё, что было хуже, он безжалостно сжигал и предавал забвению, боясь, что сглазит свою гениальность и уподобится несчастному Юлию Геронимусу, человеку с плоским затылком графомана.
– Это всё уже не нужно, – объяснил он, имея в виду совсем другое произведение. – Роман будет напечатан в ближайшие месяцы! – выпрямился он, закрывая дюже скрипучую дверцу.
– Откуда ты знаешь?! – подскочила она радостно, не только потому что он обещал посвятить роман ей, а потому что понимала, что это огромная удача, издать роман сразу же из-под пера, а не через сто лет по русской традиции после смерти писателя.
– Я договор подписал, – усмехнулся Булгаков над их нелепой дракой с Юлием Геронимусом, – только это тайна!
После этого он бухнулся на постель рядом с Тасей и ещё долго пересказывал ей их стычку, находясь в страшном возбуждении гения, обманувшего судьбу.
Юлий Геронимус читал роман долго, целый месяц, крякал и качал головой с явным осуждением, а когда закончил, произнёс одно единственное слово: «стилист», а ещё немного погода: «сукин сын». «Потому что такое, обычному смертному написать невозможно!», – добавил он с восхищением и с горя выпил много-много водки, дабы убить зависть в пожарном порядке.
Если бы он знал о следующем роман, на которым Булгаков страшно мучился, он бы самоповесился на собственных помочах прямо в издательстве. Но ничего похожего он не знал и даже не догадывался, а с надеждой думал, что Булгаков испишется на этом романе, и дело с концом, а Белозёрскую можно забрать назад как приз.
– У тебя природный слух к прозе, – сказал он честным голосом. – Он тебя и вывозит. Будешь его прислушиваться, с тобой ничего не случится!
– Откуда ты знаешь? – раззадорился Булгаков, который до конца всё ещё не верил в лесть писателей-конкурентов и ждал подвоха.
– Хе-хе-е, – завистливо хихикнул Юлий Геронимус. – Я, брат, такого в своё время навидался!
Он едва не проговорился, что мусолит свой роман уже три года, и ничего не удавалось. А тут приходит Булгаков, кидает одну единственную фразу, и всё моментально складывается в гармоничную мозаику. Самое страшное, что при наличии огромного материала, всё равно ничего не выходило. А всё дело, оказывается, в его величестве литературном слухе и в способности абстрагироваться от реальности, которая давила, как многотонный пресс.
– Эх… мне бы такой слух! – ещё больше позавидовал Юлий Геронимус. – Подари кусочек!
– Шиш! – не захотел делиться Булгаков, высокомерно собирая рукопись в «кирпич».
– Ты с этим всё равно не пробьёшься, – поморщился Юлий Геронимус, откидываясь на спинку кресла-вертушки.
– А ты?.. – Презрение гения прилетело, как тычок в левой ухо.
«Бух!» Юлий Геронимус в изумлении потряс головой. Он решил, что это хлопнула форточка. Тотчас раздался странный топот, словно кто-то невидимый прыгнул на пол с подоконника и мелькнул в самый дальний угол. Юлий Геронимус инстинктивно вздрогнул, а Булгаков почему-то вспомнил о коте по кличке Бегемот, которого уже описывал и подумал: «А не назвать ли того, кто топает за спиной, котом Бегемотом, пусть мучается?» И в дальнейшем все звуки, раздающиеся в квартирах, списывал на этого самого кота-Бегемота.
– А я пробьюсь, – озабоченно покрутил Юлий Геронимус квадратной головой на бычьей шее.
– Почему?..
Юлий Геронимус только поморщился, мол, ты и так всё понимаешь: связи, нужные знакомства, деньги, постель и акварель.
– Реклама во всех московских газетах. Я тебе обещаю! – произнёс он изменившимся голосом, и готов был прослезиться от своего бескорыстия, но вовремя опомнился, понимая, что между мужчинами это глупее глупого.
Булгаков замер, словно ему прострелили лёгкое, посмотрел на Юлия Геронимуса оценивающим взглядом:
– Врёшь?!
– Мы чуть не стали родственниками… – напомнил Юлий Геронимус, намекая, на своё сватовство к сестре Булгакова – Елене.
– Чуть не считается, – отпихнул его Булгаков суровым взглядом стилиста.
С ним никто так не шутил, и он не поверил Юлию Геронимусу, полагая, что он его решил обвести вокруг пальца, абсолютно некстати вспомнив о Ракалии. И ревность схватила его за горло, как удавка-анаконда.
Мысль, что кто-то ещё обладает её прекрасным телом, сделалась ему невыносимой. Там, в своём волшебном Париже, она, должно быть, вытворяла чёрт знает что, приревновал он её к прошлому. Но она, как умная женщина, ничего ему не рассказывала, дозируя информацию ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы удержать его рядом.
– Ладно… – выдал секрет Юлий Геронимус. – У меня есть связи…
– «Там»? – спросил Булгаков вполне определенно, как бывалый человек, прошедший Крым, рым и медные трубы.
– «Там», – кивнул Юлий Геронимус. – Привлечём Дукаку Трубецкого… – начал мечтать он, закатывая кофейные, как у негра, глаза с красными прожилками и дирижируя короткопалой ручкой, которая, однако, была крепкая, как тиски.
И Булгаков инстинктивно испугался, что роман вот-вот станет достоянием черни и Москвы, которая по замыслу нового романа должна была сгореть во всемирном пожаре. Так он хотел с ней расправиться, потому что Москва убивала таланты. Кто его знает, что произойдёт? Ничего хорошего – точно!
– Дальше можешь не продолжать, – безапелляционно заявил он, запахиваясь в жиденькое пальто и собираясь идти досыпать.
– Рукопись оставь, – коротко потребовал Юлий Геронимус и коснулся локтями стола, словно встав в боевую стойку, – я всё сделаю! – добавил он таким тоном, что Булгаков вздрогнул у порога.
Первый раз он слышал от Юлия Геронимуса подобные речи и даже просительную, почти дружескую, интонацию.
– Пиши расписку! – живо потребовал Булгаков, воинственно задирая свой нос-бульбу.
– Зачем?.. – удивился Юлий Геронимус, загораживая ему дорогу с вполне определёнными целями – помериться силой. – Ты меня уважаешь?
– Ё-моё! – удивился Булгаков, с насмешкой разглядывая его богатырскую грудь.
– Так уважаешь, или нет! – потребовал Юлий Геронимус.
– Я тебя уважаю, – с ехидцей согласился Булгаков.
– А я тебя – нет! – огорошил его Юлий Геронимус. – Ты как вечно раздражающий фактор! – повысил он голос.
И они сцепились. Через мгновение Булгаков уже лежал распростертым на полу, прижатый монументальной тушей Юлия Геронимуса. И даже пару раз получил по физиономии. В следующее знаменательное мгновение их, как из ушата, облили водой.
Юлий Геронимус подскочил, словно колобок и принялся бегать по кабинету, как ужаленный.
– Что это?! Что это?! – дико кричал он, беспрестанно оглядываясь, словно чёрт гонялся за его спиной.
Булгаков, сидя в центре луже и ощупывая затылок, принялся безудержно хохотать: он сразу всё понял о лунных человеках, хозяевах ночного пространства. Искать их по углам и предъявлять претензии было более чем глупо, ибо они появлялись, когда хотели и где хотели, без спросу и разрешения.
– Ты эти свои канальские штучки брось! – вопил между тем Юлий Геронимус на грани нервного срыва. – Сейчас и за мистику могут посадить! Вон Вернадский мается! И твой Гоголь не поможет! Свят! Свят! – причитал Юлий Геронимус, сдирая с плеч пиджак, как аспида, и выжимая из него воду.
Он остался в дорогой поплиновой рубашке, в шёлковой жилетке и в тёмно-бордовом галстуке.
– То ли ещё будет! – многозначительно пообещал Булгаков и поднялся, отряхиваясь, как большая собака.
И Юлий Геронимус, испуганно поглядывая на окно, машинально выпил водки, перекрестился три раза, немного успокоился и написал в двух экземплярах расписку в том, что берётся издать рукопись де такого-то романа не позднее трехнедельного срока, который необходим для подготовительных работ, дрожащей рукой поставил гербовую печать и размашисто расписался, скрывая малодушную трусость человека, который впервые столкнулся с невидимым миром, но, естественно, не признав его из-за своего невежества.
– Держи, вымогатель! Скотина!!! – очень красноречиво высказался прямо в лицо Булгакову и пригнулся на всякий случай, инстинктивно ожидая оплеуху неизвестно от кого.
– А аванс!.. – страшно разочарованно потребовался Булгаков и склонил голову.
– Какой аванс?! – изумился Юлий Геронимус и посмотрел из-под очков. – А вот это видел! – Он показал Булгакову шиш, на который предварительно по-малорусски плюнул; как вдруг на его глазах стакан с водкой подъехал к краю стола, дабы упасть и разбиться на мельчайшие, как иглы, осколки, на которые, в принципе, разбиться по природе вещей никак не мог.
Юлий Геронимус зарычал, как испуганный медведь, и опрокинув кресло-вертушку, отскочил к окну за спиной.
Булгаков, ничего не объясняя, ехидно спросил:
– Как тебя еще проучить, толстокожего?..
– Ну ты и вымогатель! – застонал Юлий Геронимус и полез в сейф, клацая зубами, словно голодный людоед, и выдал Булгакову первые пятьдесят тысяч рублей не деньгами, похожими на марки, а твердыми, российскими «червонцами».
– Через три дня загляну! – пообещал довольный Булгаков.
И тут к нему обратился младший куратор Рудольф Нахалов, которого не мог видеть Юлий Геронимус.
Они вроде бы как сидели на солнечной веранде, и полуденная тень от деревьев радостно плясала на стеклах, на полу и на дорожке, убегающей в сад.
– Романы пишутся со скоростью жизни, – философски изрёк Рудольф Нахалов, закидывая длинную ногу на ногу в новомодных штиблетах от «Бакони». – Нельзя написать быстрее того, что осознаётся. Но… если ты будешь тянуть резину, жизни тебе не хватит, жизнь будет короткой.
– Да бросьте… – нахально осмелел Булгаков, – чего здесь?.. Чепуха!.. – он листнул рукопись романа, у которого даже названия не было.
Однако на заглавном листе вдруг само собой проявилось: «Мастер и Маргарита», хотя Булгаков больше склонялся к «Князю тьмы». Булгаков страшно удивился, у него глаза полезли из орбит и мелькнула ужасная мысль, что он-де в чём-то опростоволосился, но в чём, ещё не понял, и от этого было жутко, словно ему чуть-чуть приоткрыли будущее, но не объяснили его смысла.
– А никто и не сомневается, – не дал ему ничего понять Рудольф Нахалов. – Но у нас сроки… И там… – он поднял палец с отполированным, как у Пушкина, ногтём, – нас могут вполне определённо не понять.
В его голосе вдруг появились благородные камушки, которые обкатываются годами мудрости и раздумий, а лицо при этом сделалось абсолютно неглупым, а, наоборот, даже умнее, чем у Спинозы.
– Зуб даю! – беспечно храбрился Булгаков, втайне полагаясь теперь исключительно на Германа Курбатова, а не на храбрых лунных человеков, которые горазды были только требовать, а долг списать не хотели.
Тайком от своих благодетелей он их ввел в эту историю: Лария Похабова под именем Азазелло, а Рудольфа Нахалова – как Коровьева. Это была его страшная месть, конечно же, относительная, потому что Ларий Похабов и Рудольф Нахалов, читая его рукописи, потешались сами над собой и были довольны, как мартовские коты, ещё бы – попасть в литературу таким образом и необычным путём удаётся не каждому куратору.
Рудольф Нахалов странно на него посмотрел и сурово заметил, многозначительно закатив глаза:
– Клянись здоровьем!
– Всего-то! – беспечно рассмеялся, не подумав, Булгаков. – Клянусь!
– Ну, смотри, Булгаков! – погрозил Рудольф Нахалов и исчез.
– Расписку не потеряй, – суетился, как денщик, мокрый Юлий Геронимус, испуганно оглядываясь то на окно за спиной, то на разбитый стакан на полу. – Только об этом… – он с неподдельным изумлением глядел на лужу последи кабинета, – никому ни слова, – попросил он жалобно, – мало ли что, партийного билета лишусь! А?.. – сморщился он, как трухлявый гриб.
– Ладно… – великодушно сделал одолжение Булгаков, – никому ничего… что я… дурак, что ли, что у тебя здесь нехороший кабинетик.
– В каком смысле?.. – округлил глаза Юлий Геронимус и быстренько, пока Булгаков не передумал, полез в сейф.
– В смысле мистических обитателей, – неожиданно для самого себя отчеканил Булгаков. – При коммунизме это невозможно!
– Я тебя прошу! – испуганно вспылил Юлий Геронимус. – Я требую от тебя, как друга! Честно! Мне это не надо! Совсем не надо! Я боюсь!
– Ладно… Ладно… – спрятал своё юродствование в карман Булгаков. – Больше не буду, – успокоил он Юлия Геронимуса.
Он вдруг понял, что его не просто так сюда таскают по ночам, а с тайным умыслом. И что ночью, именно ночью, вершатся самые таинственные и важные дела.
– Слава богу! – принял на свой счёт Юлий Геронимус. – А теперь по коньячку! – И откупорил бутылку, в которой был, конечно не коньяк, а настоянная на изюме водка.
В диком восторге от произошедшего и от того, что карманы, впервые за всю его жизнь, были набиты деньгами, Булгаков выцедил, не закусывая, целый стакан и мокрый от счастья побежал домой, скользя в тех местах, где детвора накатала катки.
Дома, всё ещё пребывая в душевном упоении, написал на листке глупую, как казалось ему фразу: «Мастер и Маргарита». Какой Мастер? Какая Маргарита? Так и не понял. Но листок сложил, а не бросил, как обычно, в мусорный ящик, а спрятал в самую дальнюю папку, на самое дно, чтобы Тася, не дай бог, не нашла и не сунула бы на шкапчик, ищи потом ветра в поле.
***
И вдруг она сама ему позвонила. Благо, Тася была на кухне.
– Заходите, выпьем бутылку чая, – отшутился Булгаков, пребывая, однако, на грани истерики из-за никудышных дел с романом «Мастер и Маргарита».
Все эти любовные домогательства со стороны женского пола стали действовать на него, как приятное журчание в желудке.
– Всенепременно! – медово пообещала Любовь Белозёрская и отключилась.
Он понял, что Ракалия его классическим образом подогревает. Вот оно! – вспыхнул он радостно и высказался вслух:
– И никаких скидок!
– Каких скидок?.. – переспросила его с подозрением Тася.
Оказывается, они давно тихонько вошла и всё это время стояла у него за спиной.
– Никаких… – испугался Булгаков. – Это я так… Мысли вслух.
Тася пристально посмотрела на него так пристально, что он вскипел, как самовар.
– Что? Что?! – неожиданно для себя закричал он, однако, избегая её въедливого, как штопор, взгляда. – Я пишу роман! Обыгрываю разные сцены! У меня голова идёт кругом!
Не будешь же ей объяснять, что мысли роятся, как мошки вокруг лампы. Она и так была в курсе дела и не забыла о коте Бегемоте с щетиной на животе, который переплыл Патриарший пруд. Чёрт его знает, что он ещё придумает?
– Знаем мы твою голову, – съязвила она и обиделась.
Глаза, которые он так любил и холил все эти годы, наполнились слезами. Боже мой, страдальчески подумал он и перешёл в наступление.
– Что ты имеешь в виду? – не дал он ей опомниться.
Ему не хотелось продолжать разговор, но надо было каким-то образом выпутаться из неприятной ситуации.
Тася, конечно, всё поняла, недаром они прожили столько лет вместе.
– Это звонила женщина?..
– Это звонила Макака Посейдоновна, – язвительно отозвался Булгаков, словно Тася была виновата. – Наша секретарша. Между прочим, страшная дура! – заявил он, невольно вспомнив её длинные ноги, с огромными ступнями, и все её заигрывания.
Интересно, подумал он, что Ракалия хочет? Ясно, что не бутылку с чаем.
– Она будет у нас чай пить? – спросила Тася с ударением на последнем слове.
– Нет, конечно! – попробовал отшутиться Булгаков.
– Ну смотри мне! – предупредила Тася, приходя в тихое бешенство.
– Я смотрю! – быстро и дружелюбно среагировал он, чуть не добавив: как ты мне надоела! Сколько же ты у меня крови выпила?! Саратовская Горгия!
Здоровый мужской цинизм вскипел в нём.
– Поклянись, что не предашь меня! – она наступила ему на ногу.
– Клянусь! – как в американской кино, поднял он руку. – Я никогда от тебя не уйду!
– Нет, не так. Поклянись: чтобы ты сдохла!
И он понял, что просто так ему на этот раз не отвертеться.
– Клянусь, чтобы ты сдохла, если я тебе изменю! – сказал он твёрдо, глядя ей в глаза.
– Ну ладно… – сказала она и ушла на кухню, потеряв к нему всякий интерес.
И с Булгакова словно скатился трехпудовый пёс. Булгаков мотнулся к буфету и опрокинул в себя стопку водки. Закусывать, кроме каши из супницы, было ничего нечем. Вот так всегда, думал он, ни за что ни про что… Хотя, конечно, есть что есть… Нашёл чёрствую корку серого хлеба, разломил и сжевал её с огромным аппетитом, потом сел писать о Берлиозе, Аннушке и фруктовой воде. В желудке приятно бурлили комочки хлеба.
Вечером пошёл и купил нормальной еды, целую огромную сумку. Тасе – элегантный чёрный ридикюль с чёрной ручкой для ладони. Тася была счастлива. Бутылка полусухого крымского белого решила все проблемы.
***
– А у нас спор, – пьяно посмотрел на него Жорж Петров, – кто глупее актёр или писатель.
Булгаков давно заметил, что у Жоржа Петрова не было расчёта на длинную жизнь: он пил и водил знакомства с плохими компаниями, в которых обязательно присутствовал золотушный Дукака Трубецкой.
– Конечно, актёр! – ни секунды не сомневаясь, ответствовал Булгаков, поправляя галстук и одёргивая костюм, в котором он смотрелся, как принц датских кровей.
Галстуков Булгаков не очень любил, они делали похожим на Воробьянинова, которого описывали нижайшие литературные чины Жорж Петров и Илья Ильф. «Сатиричнее! Сатиричнее! – призывал он их. – Нечего жалеть!» «А вдруг?..» – боялись они. «Ничего не вдруг! – бушевал Булгаков. – Кому вы нужны?! Главное, в политику не лезьте и никого не пародируйте!»
– А почему? – надвинулся на него не менее пьяный Илья Ильф.
Булгаков насмешливо посмотрел на него: Илья Ильф был любителем долго сморкаться в клетчатый платок, и часто таким образом брал паузы, чтобы собраться с мыслями. Но сегодня они ему были не нужны.
– Иначе бы на сцену не пустили, – самоуверенно ответил Булгаков, останавливая Илью Ильфа изящным движение левой руки, правую же сжал в кулак, понимая, что в таком состоянии, стычки можно и не миновать. Однако беспечно выставленная челюсть у Ильи Ильфа давал все шансы на точный и жёсткий удар.
– А почему? – снова спросил пьяный Илья Ильф и качнулся так, когда человек собирается освободить желудок.
Булгаков сообразил, что Илья Ильф сегодня не драчун, а выпивоха.
– Да потому что умные люди на сцену не лезут и не кривляются! – авторитетно заявил он.
– Понял?! – Илья Ильф дёрнул за рукав сухопарого Жоржа Петрова.
– Понял, – развязано кивнул Жорж Петров. – А почему-у-у?
– Потому что у актёра нет условий для созревания ума, – ещё раз авторитетно заявил Булгаков, нисколько не сомневаясь в своей правоте.
Он и сам не знал, что это такое, но подозревал, что здесь, как всегда, замешаны лунные человеки со своей мерзкой лунной моралью.
– Как это?.. – удивился Жорж Петров своим вечно лисьим лицом и пьяно заморгал ресницами.
– Трансцендентально! – решил отделаться от них Булгаков.
Но не тут-то было.
– А почему-у-у?
Они вцепились, как майские клещи.
– Потому что профессиональные ограничения, – непререкаемым тоном сказал Булгаков и попытался их обойти, но они смело загородили ему дорога и нагло дышали перегаром, должно быть, вспомнив свои замашки одесской гопоты.
Он догадывался, что лунные человеки работают с ним, естественно, втёмную, не раскрывая всех карт, в этом и крылось ограничение познания и градация, в которой ранг у него было явно повыше.
– А-а-а… – всё равно удивился Жорж Петров. – А почему-у-у?
– Ну, заладил камарилью! – в сердцах плюнул Илья Ильф, который был ещё более-менее трезв. – Пойдём водку пить!
– А писатель – умнее? – не мог угомониться Жорж Петров, топая, как кот Бегемот, вслед за Булгаковым.
– Писатель умнее, – подтвердил Булгаков, вспомнив театр Мейерхольда, нарочно превращенный в руины, чтобы соответствовать духу и времени.
– Ладно… – тупо согласился Илья Ильф, и уже не махал руками, как ворона крыльями.
– А почему-у-у?
Но это уже был перебор, и они почувствовали, что Булгаков раздражён.
Они тайком совершили манёвр на балкон, где причастились модным «балтийским коктейлем» – смесью водки и кокаина. Булгаков поморщился и обошёл их стороной. Если его и интересовало, то только не кокаин, а – исключительно Вика Джалалова, голубоглазая и черноволосая пышечка, переменчивая в своём естестве, как горный ветер востока, и Булгаков был в восторге от неё и не боялся, как с другими женщинами, подцепить паразитарный рак. К тому же это не Тася, вся из комплексов, завязанная на узлы: это нельзя, туда не ходи, водку не пей; это беззлобность, это порыв, с восхищением думал он, облизываясь, как кот на сметану, и устоять не мог.
Он приметил Вику Джалалову на одной из редакционных вечеринок, куда являлся, разумеется, без Таси, но за весь вечер, сколько ни пытался, так и не встретился с ней взглядом. Яркая, горда и неприступная, как магнолия в горах, она ловко, как оказалось, манипулировала его интересом, и он таял, таял, таял, как кусок льда в июльский полдень на ялтинской набережной.
Зато потом между ними каждые три дня происходили бурные выяснения отношений, которые стали утомлять его, и он понял цену первоначальной неприступности: обычные женские штучки, призванные набить себе цену.
То она грустила ровно целую одну секунду, и глаза её наливались синей тоской, то она безудержно смеялась, наслаждаясь юностью и тёплой московской ночью, то вдруг складывала губки в капризную мину и становилась похожей на грубую матрону, вышедшую на пенсию, то вдруг отбегала на три шага и кричала, протягивая руки в красном маникюре: «Ну, догоните меня! Догоните!» И все шесть комнат Толстого была наполнены её смехом. Её яркий, пунцово накрашенный рот призывно смеялся и звал его поцеловать и насладиться мгновением счастья, и Булгаков был на десятом небе от победы. Вот оно, думал он. Вот! То, что у Вики Джалаловой есть муж, писатель Аполлон Садулаев, который и привёз её из Крыма, его нисколько не смущало. Его смущали чуть-чуть её тяжеловатые ноги и отсутствие грации, свойственной Тасе. Но к Тасе он привык, разменял с ней десяток лет, и она постарела, всё чаще лишая его плотских радостей. Вот и сейчас ему сказал Эдуард Водохлёбов, старший критик из высоко-начальственного журнала Дукаки Трубецкого: «Ваша жена… Хм-м-м… выглядит старше вас»; Булгаков поймал его за руку, вырвал пуговицу с корнем из твидового пиджака, и готов уже было убить, да противник вывернулся, аки змей, и со страху убежал в парк. Булгаков схватил то, что было под рукой – кажется, тупой столовый нож, и понёсся следом, однако остыл быстрее, чем горячее яйцо в кастрюле с холодной водой.
– Не обращай внимания, он дурак, – примирительно сказал более трезвый Юлий Геронимус, отбирая нож и силой уводя его в дом. – Мы его потом поймаем!
Булгаков по-братски умилился его участию в семейных делах, его плоскому затылку с фирменным вихром, и они пошли и выпили дюже много настоящего коньяку и закусили настоящим, крошащимся чёрным шоколадом, который Тася по большому блату достала в «Главпищеторге», у Марины-заемщицы.
И Булгаков покорился обстоятельствам. Он прошёл бы мимо, но обратил внимание на страшно литературное выражение, которое услышал из толпы, якобы замаскированное под экспромт.
– «Ты меня никогда не забудешь!» – сказал мне этот… не помню, как его звали… – произнесла высокая, фитилявая, молодая женщина на каблуках.
И с фразой:
– Поз-з-вольте-е-е! – Он легко, как нож, вошёл в толпу, которая моментально расступилась, и увидел задрапированную в шелках.
Это была она, Шамаханская царица, с невинным взглядом негодницы, с миленьким, ещё девичьим, чисто французским лицом и несколько затянутыми, плоскими скулами. В её светлых глазах плавала искристая насмешка, а губы были призывны и доступны. Он моментально купился на её материнские веки. Ему показалось, что она всё знает и всё понимает, и даже больше, но скрывает под маской безумной северной европейской красоты.
Булгаков приподнял её длинные, изящные пальцы с кровавым маникюром, покорные, как все пять змей, и поцеловал каждый из ноготков. Она сцепила ногти и нарочно поцарапала его, смежив веки.
– И правильно сделали, потому что вместо него явился я! – И удивился своей смелости, словно его кто-то тянул за гадкий язык что есть силы.
– Ах, как мило! – сказала она приседая, потому что была выше Булгакова на полголовы. – С кем имею честь?..
Она была прекрасно одета, но намазана, как девка на панели. Булгаков отвык от таких женщин-вамп.
– Лицетворитель, – представился он – Михаил Булгаков, увы, да-а-ж-е не поэт!
Он хотел сказать, что даже не Гумилёв, который был очень и очень дружен с рифмой, дающейся, между прочим, не всем, а избранным Богом, но не сказал из-за стеснения, источником которого была она, а коротко выложил:
– И тем не менее, в прозе я мастак!
Ему страшно понравилась её индейская раскраска. Пусть будет так, сделал он первую скидку, пусть!
– Ах, ах, ах… – произнесла она со стоном, закатывая тёмно-голубые, почти что синие в сумерках глаза. – Мне уже о вас уже все уши прожужжали!
– Кто же? Как же! – холодно нахмурился он, всегда и во всём подозревая подколодную змею, старшего критика, Эдуарда Водохлёбова, который писал в журнале Дукаки Трубецкого, что на Садовой-Триумфальной, разоблачительные статьи на разные тему и был способен на любую подлость.
Но Водохлёбов был далеко, а рядом крутились пьяненькие Илья Ильф и Жорж Петров готовые, если что, заржать по любому поводу. Он взял её под руку и, как приз, увёл в другую комнату, на минуту забывшись, что они, оказывается, давным-давно знакомы, так давно, что казалось, сто лет тому назад они пили на брудершафт. И это моментально их сблизило.
– Ах, я не помню! – увернулась она томно. – Да и какая разница?! – вильнула, как холодная змея, всем своим длинным, изящным телом, затянутым в шелка.
И это была уже не Тася, крепенькая и ловкая, с высокой грудью, а нечто абсолютно противоположное ей, должно быть, даже с большими сосками, которые не то чтобы просвечивали сквозь тонкую ткань красного шёлка, а просто-таки меняя изоморфу пейзажа.
– Настоящая женщина! – умилился он и понял, что с ним знакомятся нарочно, преднамеренно, без стеснения, не скрывая своих целей лечь в постель, и это ему льстило, ведь он ещё даже не издал романа, а Москва уже у его ног.
Ему захотелось, чтобы она сразу ушла, и он бы не горевал и не искал бы её, а пошёл бы и напился бы, аки свинья в компании курносого Илья Ильф и хитрого, как лиса, Жоржа Петрова, но она осталась.
– Можно ли вас называть Ракалией? – понесло его мстительно, с подковыркой, обыгрывая её в природе слов, в которых был дока, супермастером высочайшего класса по звучанию фраз, и ужаснулся от своей же наглости. То, что лунные человеки и даже сам инспектор Герман Курбатов регулярно подтягивали его до определённого уровня, его нисколько не смущало, а, напротив, он присвоил себе все эти качества, обращая их не к литературе, а к женщинам, обретаясь в них, как в духах.
Но как ни странно, Белозёрская проглотила его намёк, словно ничего не поняла.
– Пойдемте выпьем бутылку чая? – предложил он, слегка заплетающимся языком.
– А как же зазноба?.. – как бы невзначай поправила его галстук Белозёрская.
Этот её один-единственный лёгкий, изящный жест стоит всех ухищрений Вики Джалаловой, которую легкомысленный Булгаков успел наречь Рембрандовской Саскией с намёком на бесконечное количество зряшной энергии тела.
Белозёрская с презрением посмотрела на низенькую, крепенькую Вику Джалалову, которая в этом момент изображала опереточную кокотку; и её тонкие, сухие губы в противовес ярким, призывным, пунцовым губам Вики Джалаловой надменно сжались. Это было так литературно, так гротескно подчёркнуто, что Булгаков устоять не мог и обратился к своему «манжету», как к банку памяти, запечатлев словосочетание: «Шамаханская царица» и «Ракалия». Сердце его подпрыгнуло, словно у зайца, попавшего в капкан. Если бы только он знал, что этот свой взгляд Шамаханской царицы и надменный поворот головы вкупе с абрисом голодных скул Белозёрская тренировала уже в течение трёх месяцев, прежде чем лечь с Юлием Геронимусом в постель и заняться любовью, он был бы страшно оскорблён в лучших своих чувствах и одумался бы, но он, естественно, ничего не знал и ни о чём не догадался, а верные, как псы, лунные человеки, даже не предупредили о подлоге. Он не мог этого знать, как всякий честный мужчина, идущий на заклание, и с открытым забралом принял сердечный удар Амура. Сердце его сладостно встрепенулось, и истома пробежала по чреслам.
Впрочем, Белозёрская явно перестаралась: Вика Джалалова, как всякая восточная и страшно горячая в своём естестве женщина, закатила грандиозный скандал, и Белозёрская, наблюдая за разворачивающимися событиями с величавостью властвующей королевы, краем глаза посматривала и за Булгаковым, за тем, как рушится ещё одна иллюзия в его жизни; то-то стоило его в этот момент подобрать ловко и изящно, как щепку из ручья.
Вика Джалалова бегала через всю анфиладу комнат, заламывала руки и кричала на мужа, который носился следом с таблетками диацетилморфина:
– Котик, прими! Котик, прими!
– Да пошёл ты, старый придурок!
Дукака Трубецкой, всё ещё дурно пахнущий, несмотря на десять тысяч ванн и тонны косметики для своего тщедушного тела, тактично шепнул Булгакову на ухо:
– А вы сердцеед восточных женщин!
И Булгакова вдруг передёрнуло. Он вспомнил не очень изящные телеса Вики Джалаловой, её картинные стоны в момент соития, по-детски оттопыренные губки во время засыпания, и ему сделалось противно, как если бы он спал с настоящей морской свинкой.
– Что вы наделали? – укорил он на всякий случай Белозёрскую.
– Я?!! – она надменно и крайне удивлённо посмотрела на него с высоты своих каблуков. – Это вы, по-моему, только что бросили прекраснейшую из женщин Кавказа.
– Не Кавказа, а Крыма, – поправил Булгаков, наблюдая, как Вика Джалалова ловко уворачивается от мужа с его конволютами.
– Ах, какая разница! – отмахнулась Белозёрская. – По-моему, она сейчас выцарапает ему глазки.
И удел Вики Джалаловой был решён. Булгаков не хотел повторять ничью судьбу, ему своей было достаточно.
Тася же увидела, что Булгаков напился и словно с цепи сорвался, норовя обольстить всех красавиц пирушки, и тоже напилась до бесчувствия. Булгаков вдруг оглянулся и увидел сидящую Тасю с лицом мертвеца. Он, пошатываясь, отнёс её, пьяную, в слезах, на руках на пятый этаж, на одном порыве вдохновения: вернуться и переспать с Белозёрской тут же, в кабинете Толстого, освежив его гламурный диванчик под неусыпным взором портрета Льва Николаевича работы большого художника, Ильи Флоренского. Оказалось, что Булгаков, к своему удивлению, был ещё кое на что способен в плане всеобщей мобилизации ресурсов и страстей.
Это не любовь, это – похоть, половое любопытство, думал Булгаков. Но какое! – восхитился он.
В тот вечер Булгаков понял, что перерос Тасю. Это открытие его потрясло и стоило ему пары десятков седых волос и спазмов в печени, потому что перешёл Рубикон жизни, и он от горя напился коньяку до тошноты и вспомнил мадам Гурвич, которая его всегда предупреждала, что алкоголь бывает двух качеств: свежий и несвежий. Мудрая была проститутка, понял Булгаков, освобождая желудок в саду под розами.
***
Он вдруг спохватился, что давным-давно видел Белозёрскую во сне в качестве Шамаханской царицы. Он подошёл и не обращая внимание на суетящихся пьяных: долговязого Жоржа Петрова и курносого Илью Ильфа в разнокалиберных штиблетах, и, конечно же, Дукаку Трубецкого с его вечным запахом протухших яиц, и заявил, как гусар на дуэли:
– Я видел тебя во сне! – Как будто это имело какой-то смысл, кроме сплошных любовных эмоций.
Поглядел твёрдо и уверенно, пытаясь сразить её наповал.
– Не может быть, – вытянулось у неё и без того длинное лицо, – я только вчера приехала, – созналась она.
Она, действительно, ездила в Севастополь. Кто-то ей сказал, что её знакомый Яков Парадзе, пообещавший бриллиантовое колье за ночь любви, объявился там. Но она его не нашла и была печальна и расстроена. А тут Булгаков со своею чувствами! Она через силы позволила себя любить. Таковы были условия договора, иначе Юлий Геронимус ничего не гарантировал.
– Ты хочешь его посадить? – напрямую спросила она давеча.
– Нет, конечно… – начал юлить на голубом глазу Юлий Геронимус.
– Значит, просто опозорить, – догадалась она, – я тебя знаю!
– Понимай, как хочешь, – ушёл от ответа опять же на голубом глазу Юлий Геронимус.
– Я не ошибся! – твёрдо сказал ей Булгаков, хотя в голове у него предупреждающе щёлкнуло, мол, дурак дураком, дураком и помрёшь.
И он даже взбрыкнулся в сторону Рудольфа Нахалова и Лария Похабова, которые вовсю патронировал его в этот вечер и не давали развернуться по части выпивки. Он честно им заявил, что надо ещё написать пьесу для «Художественного театра», а на творческие споры Мейерхольда со Станиславским ему было наплевать. Ларий Похабов поперхнулся, а Рудольф Нахалов повертел пальцем у виска. На этом воспитательная работа закончилась. Они сделали свой заход в качестве менторов и зловеще удалились сквозь толпу.
– Где «там»? – удивилась Белозёрская, растормошив Булгакова, который отрешённо глядел им вслед, и ей сделалось жутко, потому что её заставил врать самый страшный человек – Юлий Геронимус, который одним движением брови мог испортить человеку жизнь. И она даже пожалела простоватого Булгакова, который ведать не ведал, куда сунул голову.
Если бы она знала, что Булгаков его нисколько не боится, а напротив, презирает обстоятельства, в которых давным-давно обретается, она бы страшно удилась, но она ведать ничего не ведала и не предполагала ни о чем подобном. Булгаков в свою очередь и думать не думал, что такие расхождение во взглядах имеет огромное значение для семейной жизни. Это он понял гораздо позже, но было поздно.
– «Там»! – сказал он опять твёрдо и для убедительности показал руками.
– А-а-а… – подыграла она, прищурив свои прекрасные серые глаза Шамаханской царицы, которые в темноте делались синими, – я там бываю!
Булгакова, как прежде, мучили «королевские» метафоры, и он метался, как больной от «манжеты», на котором всё записывал крохотным карандашиком, до предмета своей новой страсти. Казалось, в ней заключен весь смысл его нынешнего существования и нет цели достойней!
– Пойдём сегодня спать к Быстровым, у них сестра уехала в Нижний? – предложил он.
– А как же твоя жена? – Вскинула она эти самые синие-пресиние глаза, от которых у него, как мячик, прыгала душа. – Как её?..
– Я не помню, – подыграл он ей с безразличием в голосе, хотя в голове у него, действительно, крутилось одна единственная фраза, «Саратовская Горгия». – Она оказалась глупой и просроченной, – добавил он нараспев к сущей радости тонкой, как берёзка, Белозёрской.
– Я тоже могу оказаться глупой и просроченной? – нахально осведомилась Белозёрская и пребольно ткнула его пальцем в грудь.
– Нет! – твёрдо сказал он, глядя ей в голубые глаза. – Я тебе этого не позволю!
– Как? – гордо покачала она головой, выставив для апломба изящную ногу во французских чулках.
Эти чулки ему долго потом снились, висящими на спинке стула. Единственно, он не знал, что все скандалы были отнесены Ракалией на после свадьбу, когда мужу деваться будет некуда. А пока она была пай-девочкой с глазами, радостно глядящими на мир.
– Увидишь, как! – абсолютно серьёзно заверил он и подумал, что для начала надо познакомить её с лунными человеками. То-то будет веселуха, усмехнулся он, но, конечно же, никто не позволил ему этого сделать.
И Белозёрская с ангельским лицом неожиданно согласилась. Булгаков был на седьмом небе от счастья. Его затрясло, как в лихорадке. Они зашли в Елисеевский взяли бутылку шампанского, торт и колбасы и поехали на Тверскую.
Булгаков был так возбуждён, что о шампанском и шоколадном торте, они вспомнили только в три часа ночи.
Он понял, что она любит совращать мужчин, но остановиться уже не мог и понял, что пройдёт идиотский путь форменного кота Бегемота.
***
Юлий Геронимус не мог придумать ничего лучшего, как выхватывать у них из-под пера тексты и печатать их, как горячие блинчики, в журнале у Дукаки Трубецкого, который, кстати, был в диком восторге от нововведения. Но тут случился большой конфуз: сразу три дюжины модных критиков разнесли в пух и прах все главы романа, и наступил мрак кромешной ночи.
Юлий Геронимус схватился за голову и побежал к Булгакову:
– Будь другом, пробегись своим бесценным взглядом по этим опусом. Я заплачу! – заверил он и тут же выдал аванс крупными, хрустящими купюрами.
– Это можно, – с наслаждением согласился Булгаков, забирая всю сумму в карман, – только ты меня дальше в свои планы не впутывая.
И пробежался, невольно оставляя на них всего лишь слабый налёт архаики, которую заготовил совершенно для иного произведения. Он разошёлся, хотя считал роман откровенно слабым и спародированным на вечные одесские темы, но за деньги можно было и покривить душой.
Илья Ильф безбожно картавил и по внутреннему слуху вместо буквы «р» всегда и везде писал – «л». Жоржа Петрова это злило и он говорил:
– Опять ты вместо своей «селёдки» «рыбу» пишешь!
Чем вызывал у Ильи Ильфа гомерический смех:
– Булгаков поправит!
– С чего ты взял?
– А ты что, не знаешь, что твой братик взял его литературным редактором?
У него получилось не «братик», а «бьятик».
– Понятия не имею! – с презрением ответил Жорж Петров.
На следующий день к Булгакову пожаловали литературные рабы: Жорж Петров с коварным лисьим лицом и вечно похохатывающий курносый Илья Ильф.
– Это как понимать?! – решительно заявили они. – Ты выкинул всё самое лучшее!
– Ребята, – обнял он их за плечи, – я убрал все ваши слюнявые банальности и оставил то, что имеет смысл.
– Ты разрушил лучшие наши мысли! – закричали они, как волхвы при виде Христа.
– Учитесь писать отрешённо! – посоветовал он им.
– Ах! – воскликнули они в страшном негодовании, и побежали к Юлию Геронимусу.
– Зачем он Маяковского приплёл?!
– А «Марсельезу» выкинул?! Бедного архивариуса Фунтикова, нашего любимейшего героя, изничтожил?!
Юлий Геронимус выслушал их и спросил:
– Вы ещё кто?..
– Кто?.. – опешили они, поглядев друг на друга.
Илья Ильф в страшном волнении высморкался в большой клетчатый платок. А Жорж Петров раздавил тяжёлую каплю пота, аки мышь, на лбу.
– Вы ещё сопляки против Булгакова. И вряд ли подниметесь до его планки. Вот вы кто!
– Как?.. – моментально сникли они.
– Вы литературные рабы в третьем поколении! Я вам плачу, как рабам! Ваш удел уложить фундамент, а стилисты… – Юлий Геронимус даже не покривил душой, – доведут его до ума.
– Да мы!.. – возмутились они, посмев выпятив грудь.
В обычной, цивильной, жизни Юлий Геронимус, по кличке Змей Горыныч, был настолько сердоболен, что ловил комаров, залетающих в квартиру, и выпускал их на улицу. Но только не здесь.
– Отныне всё, что напишете, вначале несёте Булгакову! – грозно приказал он. – И только после этого мне, иначе…
– Что «иначе»?! – заартачились они, как щенки, у которых прорезались зубы.
Первая слава не прошла даром: они решили, что стали большими писателями.
– Иначе перестану печатать! Сошлюсь на то, что бумага кончилась!
И подавленные его волей они поплелись домой, ругаясь последними одесскими словами и поминая Булгакова и заодно Юлия Геронимуса незлым, добрым матом.
– Нам говорили, что ты гордец! – поймали его литературные рабы в третьем поколении.
– А вы как думаете? – спросил мимоходом Булгаков, снимая пальто и ловко кидая его на вешалку.
– Вообще-то, выглядит скабрезно, – поморщился курносый Илья Ильф. – Словно вы всё время хвастаетесь.
Это был вызов со стороны Юлия Геронимуса, он прятался за своими каторжанами, отсылая их теребить Булгакова, как тушу мамонта.
– Не пишите полиистории, – насмешливо посоветовал Булгаков и с презрением фыркнул, бодро направляясь к своему столу, издавая при этом ещё кучу всяких странных звуков, в которых Илья Ильф, патологический врун, и Жорж Петров, с коварным лисьим лицом, вообще потерялись, как котята.
– Как это?.. – наивно удивился Жорж Петров и вопросительно уставился на Илью Ильфа.
Но даже Илья Ильф, местный светило в вопросах литературы, не знал, что это такое. Он поджал губы и сделал удивлённое лицо, но так, чтобы Булгаков, профессор стиля и языка, как они его за глаза саркастически называли, ничего не заметил.
– Не делайте из романа ёлку, – объяснил Булгаков, вздыхая глубоко, как перед прыжком в воду.
Как ещё можно было объяснить графоманам их стратегическую ошибку: не надо пытаться объять необъятное, во всем должна быть оптимальность.
Он учил их исподтишка, а они улучали момент, чтобы присосаться, как щенки к матери. Каждый день у них состоял из сотен и тысяч вопросов. И ясно было, что они набивают руку в профессиональном смысле, наматывая на ус даже то, как Булгаков ест клубничное варенье – ложечкой, подставляя снизу ладонь, чтобы не капнуть на рукописи.
– А-а-а… – догадался более умный Илья Ильф. – В этом смысле?..
– Ну да, а в каком?.. – Булгаков хитро посмотрел на них.
Жорж Петров смутился ещё пуще. Илья Ильф, как всегда, строил из себя гения:
– Всё ясно! Ну так-х… А твои стулья в силе?..
– Я думаю, не только в силе, но и в деле… – пробормотал Булгаков, теряя к ним всякий интерес и погружаясь в повседневную работу газеты.
Они поняли, что больше его ни на что не расколют, и заторопились.
– Да, кстати, по твою душу звонил Мейерхольд, – словно уронил гирю Илья Ильф.
– Какой Мейерхольд?.. – спросил Булгаков, думая о своём.
Перед ним маячила проблема работы канализации в районе завода «Серп и Молот». Надо было сатирически осветить этот факт.
– Тот самый… – ехидно отозвался Илья Ильф, закрывая за собой дверь, – который Всеволод Эмильевич!
– Ка-а-к! – словно ужаленный подскочил Булгаков, опрокинув стакан с холодным чаем. – Что же вы мне сразу не сказали?!
И «Серп и Молот» пошёл насмарку. А ведь не позвонишь же просто так! Мейерхольд – самый занятой на свете человек в своём театре!
У Булгакова бешено забилось сердце, он сел на телефон и стал молиться на него. И выйти даже нельзя за кипятком для чая с лимоном.
– Не трогай! – закричал он на Катаева, когда он вздумал позвонить по делам.
– Ладно, ладно, – покорно среагировал Катаев (бываю же идиоты) и ушёл в отдел критики, где водились дармовые пряники.
Булгаков остался один. Мейерхольд не звонил. Он не звонил нарочно, чтобы измотать всю душу и низвергнуть в пучину горестного отчаяния. Если, рассуждал Булгаков, это отказ, то мог бы и почтой отправить. Мало ли я таких отказов получал, на всякий случай он посмотрел на полку, где обычно оставляли приходящую почту, но она была пуста. А если не отказ, то тогда – да! Да! Да! Да! Сто тысяч да! Тогда я на коне! – возгордился он самим собой. А с другой стороны, взял и мимоходом позвонил, чтобы не траться на почту. Чёрт знает что! – схватился за голову Булгаков, падая в царство Аида с высоты Олимпа. Я погибну во цвете лет! Нет, так жить нельзя! Он стал шарить водку. Однако, похоже, злопамятный Катаев, унёс её с собой, чтобы доконать Булгакова окончательно и бесповоротно.
– Тебя искал Булавкин, – сунул морду рыжий Арон Эрлих.
– Скажи, я занят, буду через два часа! – закричал Булгаков, поглядывая на молчащий телефон.
– Слушаюсь, ваше благородие! – съязвил рыжий Арон Эрлих и хлопнул дверью.
Господи, стал молиться Булгаков, сделай так, чтобы он позвонил. Мне не надо ничего: ни славы, ни денег, только один его звонок, и я буду счастлив до конца дней своих!
Всё потеряло значение, даже прекрасная Ракалия. С некоторых пор он стал так её называть, ибо делал слишком большую скидку ради её прекрасного тела. Господи! – страдал он, зачем мне эти скидки. Я не хочу никаких баб! Только славы на одно единственное мгновение!
Мейерхольд услышал его и позвонил.
– Насчёт вашей пьесы, – начал он так, словно продолжил прерванный разговор, – мне понравилось, только есть несколько сомнений. Но… если вы сочтёте нужным заглянуть, мы всё обговорим и подпишем договор!
Если бы у Булгакова вставная челюсть, она бы на радостях запрыгала, как жаба, по заплёванному полу.
– Еду! – закричал Булгаков. – Я буду через три четверти часа!
– Ну и ладушки, – вальяжно ответствовал Мейерхольд. – Жду! Жду! С большими надеждами!
Булгаков заскочил в издательство к Юлию Геронимусу:
– Дай в долг пару тысяч!
– У меня нет! – упёрся Юлий Геронимус, нервно шваркая, как крокодил, лапами под столом.
– Сам Мейерхольд звонил! – возбужденно закричал Булгаков, чтобы пронять эту тушу ленивых мозгов.
– Сам Всеволод Эмильевич! – неподдельно ужаснулся Юлий Геронимус. – А зачем?..
– А ты не понял?
– Нет…
– Имею честь быть поставленным в его театре! – выпалил Булгаков, терять терпение.
У Юлия Геронимуса возникло сообразительное лицо, он полез куда-то, чуть ли не трусы, достал мятые и тёплые купюры.
– Держи! От жены прячу, – объяснил он.
– Какой жены? – удивился Булгаков уже в дверях. – У тебя же нет жены?!
– Неважно, – отвернул глаза Юлий Геронимус.
– Ну ладно… – пожал плечами Булгаков и понёсся, но в душе у него осталась заноза от вранья Юлия Геронимуса, и он почему-то подумал о Ракалии, однако сейчас это было неважно.
***
– Ваша пьеса нам подходит! – ещё приятнее огорошил его Мейерхольд.
– Ох! – Булгаков расслабился, чуть ли не как медуза ни солнце.
Они сидели в кабинете, заставленной то ли театральным реквизитом, то ли старорежимным антиквариатом. Сам Мейерхольд выглядел всклокоченным человеком с больной печёнкой и немецким профилем, как на кайзеровских монетах. В потёртом пиджаке с небрежно вшитыми рукавами, видно было, что он не придает значения одежде, а весь устремлён в революцию.
– Только надо подогнать несколько сцен под биомеханику, и вполне, вполне… очень даже свежо и актуально. Нам ещё никто не предлагал таких текстов. Вы первый! Поздравляю!
Его голос с модуляцией, похожая на звук виолончели, мягко прогудел и запутался в рифматонике. Зато губы дёрнулись в несколько этапов, словно он слышал внутри себя мелодию и всецело подчинялся ей.
– А что… с биомеханикой?.. – осторожно, как скалолаз над пропастью, спросил Булгаков.
– Эт-то-о-о… всё нормально. – Смычок ещё не оторвался от струн, и ноты басовито плыли в воздухе. – Я вам покажу, вы поправите. Надо двигаться от внешнего к внутреннему, – объяснил Мейерхольд с натугой, как будто очнулся и вспомнил, для чего пригласил Булгакова.
– Так везде и есть! – погорячился Булгаков, весь в своём молодецком нетерпении, которое он в себе не любил, но не смел изжить из опасения постареть душой и телом.
Мейерхольд успокаивающе улыбнулся своим хищным лицом аспида; всё-таки его профиль, похожий на лезвие топора, сильно нервировал Булгакова. И всё из-за впечатления от театра, который выглядел, как после обстрела артиллерией. Окна выбиты. Внутри гуляет сквозняк. Артисты чихали и кашляли. «Для натуры времени, – объяснил Мейерхольд. – А ещё на сцену будет въезжать грузовик с красногвардейцами, и на их штыках будет играть красное веление времени! Расстрельчик натуральный организуем», – мечтал он, снова убегая в себя, как улитка в раковину.
– Всего пару сцен, поменяете последовательность, чтобы актёры не путались. Я даже не буду смотреть у такого автора… – Мейерхольд сделал многозначительный акцент, – как вы. Я вам полностью доверяю, в отличие от Станиславского.
– Константина Сергеевича?.. – ужаснулся Булгаков, и у него слегка закружилась голова от одних фамилий театральных гениев.
Он представлял богему дружной, единой семьёй, а здесь, оказывается, черти водятся. Вообще, ему разное говорили о театральной жизни. Не во всё хотелось верить. Где-то ж есть островок спокойной жизни? – часто наивно думал он и горько ошибался.
– Да! – неожиданно взбодрился Мейерхольд. – Его самого! Между нами существуют разногласия по поводу, что является первичным! Курица или яйца! Но это неважно! Это к вам не имеет никакого отношения. Сейчас подпишем договор. Получите аванс в бухгалтерии, и у вас пара дней!
– Да я хоть сейчас! Прямо на коленке! – воскликнул Булгаков и вскочил.
– Пара! Па-ра! – очаровательно произнёс своим хищным голосом Мейерхольд. – А пока я начну подбирать актёров и всё такое прочее не менее приятное, – добавил он бархатисто.
И позвонил в производственный отдел, дабы принесли договор, а в кассу – по поводу аванса.
И на Булгакова свалились огромные деньги, которые он никогда не держал в руках; он, как никогда, был безумно счастлив, хотя догадывался, что случайная слава крайне опасна в метафизическом плане! На крыльях любви он полетел в Елисеевский, купил две бутылки шампанского, три коньяка, огромный круг домашней колбасы типа «краковской», конфет немыслимое количество, зефира, ещё каких-то сладостей и в нетерпении понёсся к Ракалии на съёмную квартиру, где его ждали плотские утехи в неимоверном количестве и фантазии на всякие разные темы.
Конечно, Булгаков воображал, что секс – это и есть смысл жизни, немного потёртый, как фронтовая шинель, но ему было всё равно – так он её хотел.
***
– Да, – заметил долговязый Жорж Петров с лицом хитрой и жадной лисицы о том, что их роднило. А Илью Ильфа – особенно в патологическом вранье.
– Надо быть скромнее… – он словно вынырнул из-под взгляда Булгакова.
– Не понял… – удивился Булгаков.
Илья Ильф притащил виски с запахом политуры и был особенно ловок в суждениях.
– Нам ли вас обсуждать? – заявил Жорж Петров, потыкав пальцем в потолок, имея в виду, что для этого есть высокое начальство.
Они делали вид, что побаиваются его. На самом деле, замыслили посмеяться от души и ждали удобного случая.
Весть об удаче Булгаков разнеслась по газете, как пожар в степи, и все приходили и смотрели на него, как на красную китайскую панду, а все, умеющие держать перо, уже стояли на низком старте: тотчас бросились строчить пьесы и аннотации к ним, дабы потрафить тонкому вкусу Мейерхольда и пробежаться по следам Булгакова, дабы заработать революционную славу и большие деньги.
Булгаков, разозлился не на шутку.
– Если я не будите говорить о себе в великолепнейшем тоне и ждать соизволения толпы, то она… – Булгаков неловко повёл пьяной рукой окрест, имея в виду даже околицы Москвы и её запределы, – благородно промолчит, а скорее всего, с удовольствием распнёт вас и забудет, как неудачников! – Так что не будьте взаимовежливы, господа! – выдал он им, пьяно елозя тощим задом по стулу.
Его тщательно прилизанная голова с модной стрижкой «помпадур» казалась эталоном удачи. И хотя он выпил уже изрядно, почувствовалось, что он тихо, но верно звереет и сейчас откопает топор войны и опрокинет двухтонный сейф Юлия Геронимуса.
К счастью, до этого не дошло. Юлий Геронимус, которому нужно было выпить три литра водки, чтобы слегка опьянеть, кисло поморщился: Булгаков просто так со своей любимой лошадки не слезет, а будет доказывать своё превосходство всем и вся любыми доступными ему методами, то бишь даже драться, кусаться и лягаться, как рысак. Последнее следовало прервать на корню, и он налил ещё по полстакана политурного виски.
– Да мы что?.. – вдруг покраснел хитрый Жорж Петров и вспомнил, что это он как-никак брат Юлию Геронимусу и, стало быть, не так прост, как кажется со стороны. – А твои тексты, – набрался он храбрости, – кажутся очень простыми.
– Циничное стечение обстоятельств, – весело засмеялся Булгаков и посмотрел на Юлия Геронимуса, который беззастенчиво скрутил ему дули.
– Совсем примитивными… – поддакнул вечно ухмыляющийся Илья Ильф.
– А вот хамить не надо! – напомнил им Булгаков, кто есть кто.
Юлий Геронимус давно крутил дули, ещё под столом. Потому что Булгаков его страшно раздражал.
Булгаков это почувствовал, замахнулся, но не рассчитал угол и силу, промахнулся и, как броненосец, лёг носом в салат оливье, который приготовила Тася, чтобы захрапеть самым настоящим образом, аки свинья в грязи.
Его подняли, нежно, как любимую тёщу, и перенесли в уголок, на кожаный диван с большими круглыми валиками и резкой спинкой, где он, не меняя позы, проспал до пяти часов вечера.
Всем входящим с вопросом, куда пропал любимый Булгаков, почему не приходит за малиновым вареньем, показывал на него и говорил:
– А вот… – с усмешкой похохатывали Жорж Петров и Илья Ильф. – Снимите шляпу, господа, перед прахом гения!
Однако Булгаков был настолько чист и наивен, что зависть товарищей по перу абсолютно не прилипала к нему. Всё было именно так, кроме славы. Слава свалилась на него, как снег на голову. В газетах появились статьи о его романе и выходящей пьесе. Абсолютно незнакомые люди прямо на улице просили у него автограф в его же книгу и норовили затащить выпить водки в любой на выбор ресторан, а таксисты и извозчики же подвозили абсолютно бесплатно и говорили исключительно о достоинствах романа и о его концепциях. Булгаков стал, аки ангел во плоти. Женщины, красивые, строгие и непорочные, нарочно для него источающие запахи самых разнообразных достоинств, увивались толпами. Но он сказал сам себе: «Ша! Хватит! Нашкодничал! Так можно и скурвиться!» И всем поголовно отказывал, как настоящий семейный джентльмен, которым никогда не был даже в душе от рождения. И в этом качестве представлял большую разницу снаружи и изнутри.
Булгаков только не знал, что слава губительна, как проказа! Он моментально купил пять костюмов разного фасона и разного цвета, шитых в «Трехгорной мануфактуре» на первоклассных американских швейных машинках «Зингер», двадцать пять галстуков и бабочек всех расцветок и фасонов, а также – дюжину белоснежных рубашек. Туфли он отправился выбирать сам, не доверяя вкусу Ракалии, и выбрал новомодные, австрийские, из крокодиловой кожи, мягкие, как пух балерины. Купил три пары, и кучу носовых платков. А главное – монокль, как у Лария Похабова. Сфотографировался в ближайшем фотоателье и заказал сто двадцать пять копий, чтобы раздать всем подряд, лихо подписываясь: «М. Булгаков». Год не ставил. Год – подождёт. Останусь вечно молодым, смеялся он.
***
– Ко мне приходил инспектор Курбатов, – обронил между делом Булгаков, чтобы от него хоть сегодня отстали, в день торжества и радости.
– Как?! – едва не грохнулся в обморок Рудольф Нахалов.
Его колени затряслись, а душа ушла в пятки от одной мысли, что они капитально опростоволосились.
Он застал Булгакова с глубокого похмелья в туалетной комнате издательства, где Булгаков скопидомно пил воду из-под крана, как жираф, расставив для равновесия ноги на заплёванном полу. Двухнедельная пьянка сама собой подходили к логическому концу, потому что деньги кончились.
– Этого не может быть… – пробормотал Рудольф Нахалов упавшим голосом, бледнея на глазах, как человек, у которого мгновенно спустили всю кровь.
В его представлении Герман Курбатов приходил только в экстренных ситуациях, когда фигурант собирался повеситься или утопиться из-за творческого малодушия.
Это был признак недоверия к младшему командному составу, то бишь ко всему славному сословию кураторов; по инструкции полагалось донести письменно через канцелярию, но в данном случае их даже устно не соблаговолили известить. Стало быть, акция была тайной, быть может, даже исходила от директории, это означало ухудшение ситуации вокруг Булгакова, ибо у директории было больше информации, которой ни с кем из подчинённых не намеревалась делиться, а только спускала директивы.
– Вот это да! – схватился он за челюсть, словно она была вставная, едва не ляпнув, что Герман Курбатов – хоть и главный инспектор по делам фигурантов, но великий инквизитор, ему ничего не стоит оторвать фигуранту голову для его же пользы, а потом говорить, что так и было.
– Ничего не конец! – гордо возразил Булгаков, твёрдо помня, как к нему отнёсся инспектор, и в шутку брызнул на Рудольфа Нахалова водой.
Впрочем, это стоило ему болезненного спазма в голове. И он страдальчески застонал.
– Ты ничего не понимаешь! – крайне взволнованно закричал Рудольф Нахалов. На лбу у него выступила тяжёлая жила. – Почему ты молчал?! Почему?!
Искренние слёзы сожаления брызнули из его глаз, впрочем, сделать что-то было уже нельзя.
– Я не знал, что это так важно! – нашёл силы хихикнуть Булгаков.
Подумаешь, цаца, решил он уязвить лунных человеков. А ещё ему было весело и хорошо. Слава оказалась очень приятным бременем. Какой дурак от неё откажется?
– Сам главный инспектор! – едва не лишился сил Рудольф Нахалов. Его лицо сделалось бледным, как у покойника. – Ты даже не представляешь, что произошло!
– А что произошло? – беспечно осведомился Булгаков и снова принялся сосать воду из крана.
– Тебе надо срочно! Очень и очень срочно и день, и ночь строчить роман! И прекращай пить!
– С какого перепуга? – с любопытством покосился Булгаков.
Рудольф Нахалов выглядел сам не свой. Обычно маловыразительное лицо недоросля на этот раз источало крайнюю степень нервозности.
– Тогда, возможно, и пронесёт! – разозлился Рудольф Нахалов и пошёл пятнами. – Отныне к тебе не будет снисхождения! Я, конечно, поговорю с Ларием Похабовым, – пообещал он милостиво, как новоиспеченный неофит, – но вряд это что-то изменит.
– А что происходит вообще? – взбеленился Булгаков и оторвался наконец от спасительного водопоя.
Его охватило дурное предчувствие, но на фоне славы это была всего лишь слабая червоточина.
В это момент в туалет влетел Юлий Геронимус. Рудольфа Нахалова он, конечно же, не заметил в силу своей приземлённости.
– Ты что, с самим собой беседуешь? – захохотал он, торжествующе. – Дружище, ты сошёл с ума! У тебя белая горячка! – И потрогал холодный лоб Булгакова.
– Иди к чёрту! – дёрнулся Булгаков. – Ссы и проваливай!
– Не груби старшим! – надул толстые губы Юлий Геронимус и полез в кабинку.
С достоинством вышел, застёгивая ширинку.
– Кстати, дружище, уже третий тираж пошёл в магазины! Полный и безоговорочный успех! Народ, оказывается, всё ещё любит батюшку-царя! За это стоит выпить!
Однако при упоминании об алкоголе, Булгаков позеленел, как крокодил, и его стошнило прямо на фасонные туфли Юлия Геронимуса.
Юлий Геронимус ловко подскочил, уклоняясь от струи, бившей изо рта Булгакова, сделал соответствующий жест у виска, обозначающий, что у Булгакова не все дома, и спешно покинул туалетную комнату.
– Ты знаешь, что происходит? – проявился Рудольф Нахалов со свирепым лицом.
– Пошёл к чёрту! – сообщил ему, Булгаков, мучительно сохраняя равновесие на скользком полу.
Рудольф Нахалов прикрыл нос красным батистовым платком, источающим запах дорогих духов.
– Ты доигрался! Три против одного, что ты произвёл на Германа Курбатова удручающее впечатление. Ты переведён в другую категорию!
Он соврал, конечно, никаких категорий не существовало. Фигуранта просто элементарно вычеркивали из табеля о рангах и ставили на нём жирный крест. Акция была одноразовой: или пан или пропал.
– Какую? – едва мог вымолвить Булгаков, его качало, словно березу в непогоду.
– Безнадёжную! – ещё раз соврал Рудольф Нахалов, чтобы пронять упёртого Булгакова.
Лунные человеки экспериментировали совершенно с разными людьми: что у кого, с кем получится. С Булгаковым получался следующий результат: и талант у него был, и работал, как вол, и психика у него железная, и «жёлтого» дома избежал, и адаптировался легко и естественно, только конечного результата не получилось. Не был Булгаков суперспособным учеником. Но даже в таком виде он представлял для лунного мира большущий интерес.
– Не думаю! – Удивил его Булгаков.
– В смысле?.. – выпучил глаза Рудольф Нахалов и поперхнулся от своих же глупых подозрений.
Он анализировал ситуацию, пока откашливался. Такого ещё не бывало, чтобы начальник департамента «Л», главный инспектор по делам фигурантов самолично опустился до уровня фигуранта. Как правило, его функция сводилась к общему впечатлению: продолжать или не продолжать сотрудничество? Значит, между Булгаковым и Германом Курбатовым произошло нечто такое, что не вкладывалось в стандартные рамки. Надо было узнать точнее и приготовиться к самому худшему, подумал Рудольф Нахалов. Однако принимать какие-либо решения без Лария Похабова было невозможно. Лария же Похабова в Москве не было уже третью неделю. Он отбыл в Казань для лечения родственника жены и забрал у Рудольфа Нахалов все запасы энергии. Самое время было слать ему панические телеграммы с призывами срочно вернуться и вразумить самовольного Булгакова.
– В том самом… – как показалось Рудольфу Нахалову крайне тупо высказался Булгаков. – Подумаешь…
Ого, едва не сдал назад Рудольф Нахалов и совсем запутался. Не помогла даже способность читать мысли людей: Булгаков словно был закрыт на все мыслимые и немыслимые шторы. Научился, скотина, обозлился Рудольф Нахалов. Но разбираться в этом не было ни сил, ни времени.
– Пока мы тебя курировали, мы могли всё решить келейно, без лишнего шума, и ждать, – Рудольф Нахалов сделал лицо, внушающее доверие, – сколько надо. А теперь?..
– Что теперь?.. – до Булгакова начало кое-то доходить.
– Теперь, как карты лягут, – стал собираться Рудольф Нахалов, то есть одёрнул пиджак и вытер вспотевшее лицо.
– Ты куда? А я?.. – наконец забеспокоился Булгаков.
– Я к Ларию Похабову, – отвернул морду Рудольф Нахалов. – А ты работай! – и провалился сквозь загаженный пол.
– Свинья не выдаст волк не съест… – высказался ему вслед Булгаков и снова принялся с жадностью хлебать воду.
На душе у него заскребли даже не кошки, а самые настоящие гиены, и он понял, что дальше тянуть с романом, который лунные человеки непонятно почему нарекли странным названием «Мастер и Маргарита», больше нельзя.
Этот долгострой чрезвычайно его мучил. Долг обязывал Булгакова раз за разом безуспешно штурмовать «Мастера и Маргариту». Не хватало как раз того самого, чего он не понимал.
***
Булгаков предложил Тасе жить втроём. Он пришёл и сказал, пряча глаза блудливого кота:
– Если хочешь… конечно, сейчас это модно… даже в Европе… – сказал он, стараясь держать самоуверенно. – Я могу привести её сюда? Отгородим ей угол…
Реально дело не дошло бы до триолизма, о чём он мечтал с вожделением. Ему хватило ума не сообщать об этом Тасе. Но картинки, одна соблазнительней другой, промелькнули у него в голове.
Тася, не медля ни секунды, вспыхнула, как мак.
– Нет! – и нервно забегала по комнате, теряя остатки былой грации.
– Но почему нет?! – удивился он, как будто не знал её, свою прежнюю, ненаглядную, но в миг забытую Тасю. – Ей негде жить! – надавил он. – Она ютится по родственникам!
Скидки, которые он делал для женщин, отошли далеко на задний план. Ракалия была неочевидна, как сто двадцать третья любовь, сомнения поселились в нём сами собой, но он отринул их.
– Пусть ютится где угодно! – зло бросила Тася. – Хоть на луне!
– Я не знал, что ты такая безжалостная! – упрекнул её Булгаков, адресуя её к тем временам, когда они понимали друг друга. – Человек погибает!
– Нет! – в бешенстве крикнула Тася и притопнула. – Нет! И ещё раз нет!
Ах, как она пожалела, что отмахнулась от Маши Клубничкиной, которая её предупреждала:
– У этой Белозёрской только ангельское лицо! Но деньги водятся! Я её обшиваю! Она болтлива, как ещё та сорока! У неё есть авто, и она катает мужчин! Катает! Сама! Она не та, за кого себя выдаёт! Она вертит твоим мужем, как игрушкой!
Если бы она вняла её словам, она бы уговорила Булгакова уехать в Саратов! Она бы раскрыла ему глаза на суть вещей! Теперь же поздно: он втюрился по уши и не поверит ни единому моему слову, лихорадочно думала Тася.
Глядя на плачущую жену, увядшую и ссутулившуюся, Булгаков испытал к ней одно-единственное чувство – жалость. Ни о какой любви речи не могло и быть. Его держала только привычка. И эта привычка говорила ему, что можно жить сразу с двумя женщинами. Что тут такого? Пол-Москвы так делает. Что касается скидок, то он плевать на них хотел. Оказывается, приятно быть неразборчивым и порочным, это избавляло от мук совести.
Через неделю он нарочно принёс пахнущий краской экземпляр книги «Белая гвардия».
– Не передумала?..
Тася открыла книгу и прочитала: «Посвящается Любови Белозёрской», отбросила, как гадюку, и влепила ему прямо в лоб каинову печать всех-всех его измен:
– Ты предал меня!
– Я тебя давно не люблю! – безжалостно ответил он ей. – Что толку в нашей семейной жизни, если мы даже не спим вместе!
– Хорошо… – через силы произнесла Тася, – давай разведёмся, и делу конец!
Она ещё на что-то надеялась, на память, на их первую юношескую любовь, на все те мытарства, которые они перенесли вдвоём. Однако Булгаков имел такой неприступный вид, что Тася поняла: всё кончено! Ей стало плохо. До самого развода она пребывала в прострации. В прострации ответила: «Да, согласна на развод без всяких претензий!» В прострации подписала нужные бумаги и в прострации до вечера гуляла в Сокольниках, а потом поехала домой.
Оказывается, Булгаков уже опередил её, забрал все свои вещи и даже чернильницу с пером. К счастью, забыв на «шкапчике» папку с архивными рукописями. Об этой папке Тася тоже забыла. Через месяц она съехала из квартиры на Большой Садовой, чтобы побыстрее вычеркнуть из жизни Булгакова.
***
– Ты зря делаешь ставку на Мейерхольда, – покривился Юлий Геронимус.
– Почему? – простодушно удивился Булгаков, опохмеляясь пивом прямо из бутылки.
– Потому… – выразительно посмотрел на него Юлий Геронимус, мол, дурак, что ли? Соображай!
– Не понял?.. – упростился Булгаков до безобразия.
Юлий Геронимус тяжело вздохнул: чего с Буратино недоструганного взять. Многонедельная пьянки не сблизила, а, наоборот, отдалила их.
– Он не будет стоять за тебя горой. Ты кто?..
– Ну?.. – с обидой потупился Булгаков.
– Ты никто! – выпятил глаза Юлий Геронимус. – Ты для них три буквы на заборе!
– Я и так знаю…
– В наше время никому нельзя доверять. А ты на что надеялся?
– Я ни на что не надеялся, – ушёл от ответа Булгаков.
Он измучился с пьесой. Его дёргали в разные стороны, требуя несовместимого. К тому же он по глупости взялся за экзотические «Багровые острова» в надежде на «Камерный театр», понимая, что пьеса вовсе не отвечает современности и не будет иметь оглушительного успеха.
– Что тебя примут с распростёртыми объятьями? – осведомился Юлий Геронимус. – За десять лет население изменилось да неузнаваемости. В политике ты наивен! – укорил он Булгакова. – Ты хочешь вернуть старое? Публика шумно ностальгирует! Но старое не вернётся. Поэтому тебя распнут! Как Христа! Как сорок разбойников с большой дороги! Всё будет предельно жёстко. По сути, ты никому не нужен! В театре ты один из многих! Сейчас понабежит толпа. Ты же сам показал дорогу!
– Неужели «Дни Турбиных» так плохи?.. – робко не сдавался Булгаков.
Конечно же, он никому не говорил, что сам Гоголь, хотя и косвенно, но благословил его на Турбиных. Юлий Геронимус не поверил бы, а для остальных это была очевидная сказка сумасшедшего писаки.
– Здесь работает закон больших чисел, – с умным видом разглагольствовал Юлий Геронимус. – К ним пришло слишком много удобных авторов. Появилась иерархия.
– То есть?.. – усомнился Булгаков.
Он разрывался между «Главреперткомом» и невидимыми партийными органами, которые спускали указания.
Он уже знал их формальные выходки: «Главрепертком» отслеживал философию революции, Станиславский требовал драматургического мышления. При этом гимн «Боже, царя храни», при звуках которого зал вставал и рыдал, пришлось выкинуть. Но самое страшное, что ополчился РАПП[1], и путь в писательские окопы был заказан.
– Да, ты будешь в первом десятке… И этим можно гордиться. Но… если выпадешь, тебя легко заменить, – объяснил Юлий Геронимус. – Публика даже не заметит.
– Но ведь другие бездарные приспособленцы!
Булгаков подумал о лунных человеках, о том, что они плохо сработали. Нужна такая гарантия, железобетонные аргументы, которые ни одна сопля не перешибёт. Он тяжело вздохнул. Если бы он знал, что примет такие муки, то ни в жизнь не связался бы с театром, а просто сел бы, как его друг Вересаев, где-нибудь в провинции, на Волге, и писал бы, и писал бы. Внезапно он понял, что лунные человеки не занимаются политикой, что они плывут по течению, что у них утилитарные задачи общества, а не яркие образы искусства.
– И что теперь?.. – выпучил африканские глаза Юлий Геронимус.
– Я не знаю… – признался Булгаков.
Пьеса уже шла, но ему пришлось по ходу тридцать три раза менять диалоги героев, дабы угодить всем сторонам процесса.
– А я знал! – загремел Юлий Геронимус, как будто со стороны было виднее. – Написать такую вещь, от которой волосы дыбом и комарики дохнут на лету, – с особо умным видом пояснил он и обаятельно улыбнулся.
Всё-таки он иногда выдавал разумные мысли. Булгаков сделалось физически плохо. Юлий Геронимус говорил языком лунных человеков. Стало быть, я никому не нужен, сообразил он, нужны только мои тексты. Ему моментально сделалось тоскливо.
– Всё! Я пошёл! – в отчаянии заторопился он, шваркая ногами, как застоявшаяся лошадь.
– Куда?.. – удивился Юлий Геронимус.
– Работать! – развернулся к выходу Булгаков, его била лихорадка нетерпения.
Он знал. Он видел цель. Иногда хороший друг стоит больше, чем все богатства мира.
– В три часа ночи?! – усмехнулся Юлий Геронимус.
– Напьюсь, пожалуй, – обречённо согласился Булгаков, жалко улыбаясь.
И Юлий Геронимус достал спасительную водку.
***
И вдруг что-то произошло, о чём не говорят в приличном обществе, в котором все всё понимают, но молчат, как заклятые враги. Булгаков помыкался, потыкался и позвонил Мейерхольду без всякой надежды на удачу.
– Вы знаете… – начал Мейерхольд с непонятными паузами, – она ведь была утверждена на самом верху… – Его баритон играл, как на виолончели рондо. – И вдруг нам в секретариат поступил звонок с просьбой пьесу придержать. Я теряюсь в догадках! – признался он в следующее мгновение теперь уже совсем старческим, надтреснутым голосом.
«Главрепертком»! – враг номер один всех, без исключения, авторов, жаждущих попасть на сцену! Булгаков пал духом. Они всё понял: сработали те невидимые механизмы принятия решения, которые невозможно было просчитать. Там, наверху, в правительстве, или рядом завёлся ещё один враг.
– Может быть… у вас есть знакомые или какие-нибудь весомые связи там?.. – со всё тем же поникшим вздохом спросил Мейерхольд.
Мейерхольд не интриговал против Булгакова. Он мало его интересовал. Ну разве что использовать в своих целях и возвыситься ещё больше? Не велик бугорок, подумал он, рыбка слишком мелкая и костлявая. В свою очередь, Булгаков был настолько осторожен в своих автобиографических справках, что ухватить его, как налима, было не за что, разве что послать разведку в Киев. Но до этого никто не додумался, поэтому и бугорок невысок, догадался Булгаков с облегчением.
– К несчастью, нет… – был вынужден признаться он. – Я уповаю только на вас.
– Увы, друг мой, увы… – в свою очередь болезненно простонал Мейерхольд. – Остаётся только надеяться… – снова иносказательно заговорил он.
– Спасибо, – расстроено сказал Булгаков и осторожно, как змею, положил трубку на телефонный аппарат.
В ту ночь он молился так, чтобы Белозёрская не заметила. Молился углу, страшно жалея о том, что находится не в квартире на Большой Садовой, а чёрт знает где, в общем, там, где лунные человеки не водятся.
И вдруг ему ответили, но не ударом в потолок, а кто-то поскрёбся тихо, как мышь, в большом платяном шкафу, в котором висели вещи Белозёрской, а за спиной, топая, как слон, пробежал кот Бегемот.
Булгаков дико зашептал, оглядываясь в угол, где спала его новая жена:
– Братцы! Где вы?.. Мне край нужна ваша помощь!..
Шкаф подумал и ответил противным голосом одноглазого Лария Похабова:
– Топай в ванную!
Впрочем, Булгаков был настолько взвинчен, что абсолютно ничего не соображал и действовал, как робот. Мысль посетить туалет показалась ему абсолютно дикой, но он пошёл, как во хмелю, имея уже соответствующий опыт «тихих мыслей», и надеяться, в общем-то, было не на что. Однако к его удивлению, на краю ванной в свете умирающей лампочки и в позе крайне раздраженных птенцов сидели Ларий Похабов и Рудольф Нахалов. Лица у них были злыми-презлыми, словно они ладана нанюхались.
Булгаков на всякий случай сделал изумлённый вид. Но на этот раз они не стали обращать его в свою веру.
– Если твоя жена узнает о нашем существовании… – кисло пояснил Ларий Похабов, – она тебя в гроб вгонит! – предупредил он его. – А мы не сможем этого допустить. Где ты будешь жить, товарищ? Как ты будешь питаться, товарищ?.. – В его голосе прозвучали юродствующие нотки, и Булгаков проглотил их, как очередную обиду, и в отместку за это не сказал, что написал «Собачье сердце» аж в трёх вариантах.
– Ах! – отмахнулся Булгаков, словно Ракалия, действительно, была в чем-то виновата. – Что мне делать с пьесой? – нервно спросил он, давая понять, что тему жены обсуждать с господами кураторами не намерен.
Он протиснулся внутрь и закрыл за собой дверь.
– Мы договорились… – доверительным голосом зашептал Ларий Похабов и многозначительно замолчал, давая Булгакову возможность переварить услышанное.
– Что нам это стоило, даже трудно представить, – слёзно добавил Рудольф Нахалов с кислым выражением на лице.
– Ой, как я рад! – вопреки им с облечением произнёс Булгаков и перекрестился под неодобрительными взорами кураторов.
Они ещё юродствовали, полагая, что он заслужил худшего.
– Рано радоваться… – отвернул морду Ларий Похабов. – Гарантированный успех года на три, не больше. Потом начнётся помойка из общественного мнения.
– Тебя будут вызывать на диспуты… – не удержался Рудольф Нахалов.
– И возить мордой по грязи. – добавил Ларий Похабов.
– За то, что ты такой умный! – иронично уточнил Рудольф Нахалов.
– Да ладно…
– Что даже не допишешь роман… – Рудольф Нахалов не успел его назвать, заработав тычок от Лария Похабова.
Оказывается, им запрещено предсказывать будущее, тут же сообразил Булгаков.
Этим занимались другие ведомства, которые действовали втёмную. Трудный случай, типовые решения абсолютно не годятся, обречённо думал Ларий Похабов, ища выхода. Ему было жаль Булгакова, но кардинально помочь он ничем не мог, Булгаков сам должен был написать свой злополучный роман, вокруг которого всё и крутилось-вертелось, и войти в историю литературы, всё остальное чушь, наивность и заблуждения.
– Так что вы, господин хороший автор, выбрали не ту тему! – веско сказал Рудольф Нахалов.
– И не в то историческое время, – подытожил Ларий Похабов.
– Вам бы жить лет на пятьдесят позже, – посоветовал Рудольф Нахалов.
Булгаков тяжело засопел и хотел возразить в стиле азбучной истины, в том смысле, что лично они не написали ни одного произведения и даже не понимают, каково это тянуть творческий воз, и что обычно новички пишут то, что ближе и понятнее. Ближе всего был Киев с его гражданской войной. Хотя, конечно, это было слабое оправдание, не стоящее стилиста, каким он себя представлял. Стало быть, я ещё не стилист, с горечью подумал Булгаков, и не понимаю стратегии и тактики романа?
– Вот именно, – укоризненно повёл бровями Ларий Похабов, давая понять, что надо писать «Мастера и Маргариту», а не какие-то там традиционно ностальгическо-сентиментальные романчики о гражданской войне, которая давным-давно всем надоела и опротивела до такой степени, что скоро плеваться начнут.
На мгновение Булгакову стало совсем плохо, он сообразил, что ни о каких трилогиях, как у Толстого, не может быть и речи, просто времени реально не хватит. Нет времени, не дарят его запросто так, с барского плеча. Эх, надо было бежать в Париж, даже несмотря на те обстоятельства, которые случились со мной на Кавказе, с горечью к неразумной судьбе, подумал он, однако, понимая, что это не спасение, а сплошная утопия: в Париже у него тоже ничего не получилось бы. Планида не та, думал он, планида…
– А с кем вы договорились?.. – нашёл силы уточнить он.
– С самым главным… – простовато ответил Рудольф Нахалов и покривился, мол, тебе, смертному, лучше не знать.
И Булгакова почему-то подумал о «Главреперткоме», который вдруг сменил гнев на милость. Но Ларий Похабов так презрительно сморщился, что Булгаков решил, речь идёт о боге. О ком ещё может в таком контексте судьбы? – подумал он. И признаться, был разочарован. Бог для него был абстрактным понятие, он не спасал и ни в чём не помогал, ставка на него была глупее глупого.
– С самым главным?.. – кисло уточнил он и подумал, что теперь уж точно дело дрянь.
Колени у него ослабли. Руки затряслись. Это было конец: когда договариваются с богом, то следующая инстанция предсказуема: гроб, могила и рыдающая вдова. В роли вдовы он почему-то представлял Тасю, а не Ракалию.
– С ним самым, – синхронно кивнули они оба с таким видом, будто для них это было плёвое дело.
– Ну… и… как он? – пренебрежительно спросил Булгаков, словно речь шла об общем знакомом, с которым все на короткой ноге.
– Парочка внушенных мыслей, – неожиданно фривольно высказался Рудольф Нахалов. – То да всё… Стандартная схема. Утром он проснётся и переложит пьесу из папки с отказами в папку с важными делами. В обед он её прочтёт, вызовет секретаря и разрешит играть, – как о решённом, перечислил действа Рудольф Нахалов. – Особенно ему понравится Мышлаевский.
– Кто «он»?.. – тупо спросил Булгаков, ничего не соображая, но понимая наконец, что речь явно идёт не о боге, тогда – о ком?..
Мышлаевский между тем ушёл к белым и был антиподом Тальберга. Кого он может интересовать?..
– Сталин… – на всякий случай тихо, чтобы никто не услышал, ответили они ему хором.
– Сталин! – моментально охрип Булгаков.
В ликовании он едва не рухнул ниц на заплёванный пол, чтобы исцеловать его до умопомрачения.
Сталин! Самый великий и всемогущий человек будет читать его пьесу! Может быть, и роман заодно. Это показалось Булгакову значимее, чем какое-то абстрактный, хотя и тоже всесильный бог. Сталин – это конкретно, предметно и реально!
– Но… не вздумай даже похвастаться перед кем-либо, – предупредил его Ларий Похабов. – В этом случае мы не поставим за тебя и червонца. Понял?
– Понял! – оторопело кивнул Булгаков, лупая от волнения, как сова, белыми глазами.
Стало быть, бог здесь ни при чём, тупо подумал он, не имея сил даже радоваться.
В тот же злополучный момент в ванную забарабанил Ёшкин-Трёшкин из восьмой комнаты. Человек вздорный и драчливый, живущий за счёт мусорных свалок. Не то, чтобы Булгаков его боялся, но драться в три часа ночи, чтобы разбудить всю коммуналку, не было никакого резона, поэтому он спустил штаны.
– Сука, писатель! – зло зашептал в дверь Ёшкин-Трёшкин. – Открывай! Нечего жечь по ночам электричество!
И дёрнул дверь. Хлипкий крючок соскочил с хлипкой петли, и дверь распахнулась. Ёшкин-Трёшкин сунул нос в ванную комнату, предварительно зажав его пальцами, хотя внутри почему-то пахло окалиной, и увидел Булгаков, сидящего на стульчаке с газетой в руках.
– Ну… чего тебе?.. – спросил Булгаков назидательно, – у меня понос! Три дня маюсь.
– Пардон! – пробормотал сконфуженно Ёшкин-Трёшкин, – пардон… – и вежливо прикрыл дверь.
***
Ракалия неосознанно становилась в позу драчуньи: «Со мной лучше не связываться! В гневе я страшна!» И Булгаков порой был бит ею совсем нефигурально, потому что дать женщине сдачи физически считал ниже своего достоинства.
Она начала устраивать ему скандалы. Чем я плох? – с горя расстраивался Булгаков. Ночую дома. Не пью. Не курю. Сидю романы черкаю.
Но Ракалию это не устраивало. Она просто не понимала его в силу женской логики.
Первый скандал она закатила, найдя в прихожей Тарновских билет в синематограф, и обвинила Булгакова в том, что он де шляется один, развлекается, может быть, даже с дамами лёгкого поведения, которых в Москве пруд пруди.
Скандал уже есть, а причины ещё нет, сообразил Булгаков и стал оправдываться:
– Лапушка, я без тебя и шага не ступаю…
В душе у него что-то перевернулось и он попытался это что-то забыть и затолкать куда-то поглубже, чтобы оно не убивала новой, открытой, честной любви; и на какое-то время это ему удалось ценой огромнейших уступок своему честолюбию.
– Ах! – театрально заламывала руки Белозёрская с ангельским выражением на лице, – я так и знала, меня предупреждали, что ты неверен! Что женщины для тебя всего лишь эпизод в карьере писателя!
Это была чистейшей воды инсинуация, злобная выдумка, достоянная лишь таких тонких и плоских, как у Ракалии, губ, наблюдал с холодной душой Булгаков.
На Юлия Геронимуса и на других мужчин такие сцены производили неизгладимое впечатление, но только не на Булгакова, любителя препарировать чувства, это была его территория, его вотчина и его владения, которые никто другой не знал лучше, чем он. Поэтому Ракалия проигрывала априори.
– Люба! – напомнил он горячо, – ты моя преданная жена, я твой преданный муж! Об чём разговор?..
В ответ она с насмешкой на прекрасных польских устах исхлестала его по впалым щекам и закричала:
– Я ухожу!
Распахнула шкаф и принялась выкидывать из него вещи. В первую очередь полетели все пять прекраснейших американских костюмов, сшитых в Германии, а на самом деле – в «Трехгорной мануфактуре», затем уже рубашки, галстуки и бабочки. В порыве вдохновения Ракалия потопталась по вещам и даже начала рвать один из костюмов, синий в тёмную полоску, который особенно нравился Булгакову, но вошёл вальяжный профессор Тарновский, тряхнул своими мхатовскими кудрями, плотно закрыл за собой дверь и сказал:
– Это мой билет! Это я вчера тайком от Зины… – он оглянулся на комнату, где его жена вязала носки, – зашёл после работы в синематограф и немного развеялся.
Тарновский Евгений Никитович был интеллигентом в третьем поколении, в его кабинете висела картина Фалька «Красная мебель», на которую Булгаков часто приходил смотреть за разговорами и рюмкой коньяку.
Тарновский жалостливо сморщился в угоду Белозёрской, мол, чего ещё можно взять от этих кривеньких и неразумных мужчин, все они одинаковы, шалопаи!
– Но вот видишь! – помог ему Булгаков и сделал наиглупейший вид идиота: давно уже выяснилось, что Ракалия не верила в его гениальность, можно было больше не маскироваться.
– Всё равно! – отрезала Белозёрская. – Не сегодня, так завтра!
У неё случались приступы ожесточения «против всех».
Булгаков набрал воздуха, чтобы ответить как можно весомее, в том смысле, что он не виноват, что всё благополучно разрешилось и нет повода к ссоре, но голова была пуста, как тщательно выскребленный котёл.
– Не надо ссориться из-за меня, – важно, а главное, крайне спокойно, воззвал профессор Тарновский, – я возьму билет и во всём признаюсь Зине. Я уверен, она будет только рада, что я отдохнул лишний раз от трудов праведных! Она меня простит! А вы помиритесь! Вам надо съездить куда-нибудь на воды, – посоветовал он на минорной ноте. Михаил Афанасьевич много работает, да и вам, душа моя, надо развеяться.
– Ну вот и всё благополучно разрешилось… – поддакнул было ему Булгаков.
– Какие воды?.. – брезгливо спросила Белозёрская, напомнив откуда она прибыла вечерним поездом «Москва-Париж», где много чего навидалась. – У вас вод ещё нет. Это вам не Германия! А о дансинге вы не имеете ни малейшего понятия! – упрекнула она их.
Булгаков страшно покраснел: жена, ничуть не стесняясь, приоткрыла третьему лицу свои тайны. Это было не то, чтобы плохим вкусом, это было полным атрофированием чувства самосохранения, потому что дансинг в Европе был местом разврата. Ну ходила и ходила, не надо кричать об этом на каждом углу.
– Есть Крым… – растерялся от её напора профессор Тарновский. – Я могу достать билеты…
С билетами, действительно, было туга. Поезда в Крым ходили через пень колоду, и чья-либо помощь считалась великим благом.
– Какой Крым! – сорвалась Белозёрская. – Мы разводимся! У нас семейный кризис. Нам жить негде. А здесь десять костюмов! – Она с ожесточением потопталась ещё немножко, старясь особенно каблуками.
У неё ещё была одна странность: она старательно изображала нищую студентку, однако порой выдавала Булгакову на мелкие расходы то тысячу, то пять тысяч, а то – и десять. Однако Булгаков, по обыкновению занятый литературой, не обращал на такое мелочи внимания, хотя, конечно же, отметил эту странность, полагая, что они проедают остатки парижские деньги. Но жить всё равно было негде.
На её крик заглянула Зина, вся в кудряшках блондинки:
– Что случилось?..
– Да вот… билет… – удручённо объяснил профессор Тарновский.
– Это наш билет, – сказал она, – я сама иногда одна хожу в кино, когда у Евгения Никитовича много лекций. Что здесь такого? Это Москва, детка! Миритесь, и идём пить чай!
– Плевала я на вашу Москву! Я сейчас соберусь и уеду в Париж! – молвила разгневанная Белозёрская.
– Ну ладно! Хватит! – счёл нужным повысить голос Булгаков. – Никуда ты не поедешь. У тебя паспорта нет!
Заграничный паспорт Белозёрской, действительно, был давным-давно просрочен и валялся где-то в платяном шкафу под кучей белья.
– Я пойду спать к Ильиным! – театрально вскинула руку Белозёрская, указывая совсем в другую сторону, как большинство женщин, не ориентирующихся в городском пространстве.
Ильины жили на Пречистенке, хотя и недалеко от центра, но были максимально уплотнены. К тому же у них был грудной ребёнок.
– У Ильных нет места! – веско сказал Булгаков, забирая чемодан и ставя его в шкаф.
Его поразило, что Белозёрская не испытала муки раскаяния, а была непримирима, как японский катана, который победоносно сверкал в момент удара. Я стану её сакральной жертвой, обречённо подумал он, ибо вернуться к Тасе не могу, а уйти реально некуда. Придётся признать свой крах, до конца дней быть мишенью для ядовитых шпилек и сделаться последним из последних подкаблучников; впрочем, и Тася воспользовалась бы моментом. И он почувствовал себя между Сциллой и Харибдой.
Однако все его горестные мысли перебил великолепный Тарновский:
– Как пояса концы – налево и направо расходятся сперва, чтоб вместе их связать, так мы с тобой: расстанемся – но, право, лишь для того, чтоб встретиться опять! Так! Миритесь, мои друзья, миритесь! И идём пить чай с коньяком.
– Прямо здесь и сейчас?! – вскипела напоследок Белозёрская, и её вздорный носик с раздвоенной косточкой на кончике стремительно вознесся в зенит.
Булгаков аж перекосило. Он совершенно не ожидал столько экспрессивности от Ракалии и наивно сделал огромную скидку на то, что это никогда больше не повторится при его жизни.
– Да! Прямо здесь и сейчас! – подтвердил всеопытный профессор. – И будьте снисходительны друг к другу! Жизнь коротка! Увы!
– Ах, вашими устами, Евгений Никитович, только бы мёд пить! – непримиримо молвила Белозёрская, но вдруг смягчилась окончательно и бесповоротно. – Всё! Хватит кукситься! – схватила Булгакова за руку, – идём чай пить! – и потащила кухню.
Одного Белозёрская не заметила: Булгакова перекривило так, словно он проглотил каракатицу. Он вдруг понял, что она обычная, жёсткая баба, прагматичная до мозга костей, и что её просто мучает секс, которого у неё было слишком много и который он принял за безумную любовь, поплатившись за это свободой. А потом секс кончился, кстати, вместе с деньгами, и начались проблемы.
Булгаков сказал сам себе: «Обычная самка в эволюционном тупике».
Позже, всякий раз после очередной ссоры с Белозёрской Булгаков думал в огорчении: «Я не верю в будущее, будущего для меня нет! Я не знаю, почему. Мир в будущем мне не принадлежит, это иллюзия». И стал писать иллюзию, великую иллюзию под названием «Мастер и Маргарита», которой идеализировал себя, Ракалию и окружающий их мир.
Глава 8
Москва 30-е. Гэже-Маргарита
Чета Самойловых, инженеров «Мосгорсвета», была весьма счастлива, получив по распределению большущую комнату с тремя окнами, выходящих на Большую Садовую, и затеяла генеральную уборку.
– Тимоша-а-а… – ласково позвала супруга Аня.
– Да, мой свет! – спешно прибежал с кухни Тимофей Самойлов, в фартуке и в муке с головы до ног. – Что-то случилось?..
Аня была на пятом месяце беременности, и он запрещал ей носить тяжести и лазать на всяческие антресоли, пусть даже они трижды пыльные.
– Смотри, что я нашла, – сказала Аня, стоя на табуретке, и подала ему толстую папку.
Аня принадлежала к классу степных женщин, и волосы у неё торчали из-под гули во все стороны, как солома, а лоб был мокрым от пота.
– Интересно… – искренне удивился Тимофей Самойлов и счёл нужным сделать замечание, помогая ей покинуть шаткую табуретку: – Я же просил тебя, поберечься, не лазить по верхам. А если бы ты упала?..
– Ну не упала же, – обескуражили его жена и полюбопытствовала. – А что там?..
Тимофей Самойлов развязал тесёмки и открыл папку:
– Что за ерунда?..
– А… – наморщила задорный носик Аня, – соседи говорили, что здесь жил большой писатель. Надо вернуть. И не читай, это неприлично! Вдруг это письма?
– Это роман! – открыл ей глаза Тимофей Самойлов. – «Мастер и Маргарита». Я никогда такого не читал. Очень интересно… Очень…
Тимофей Самойлов был книгоманом и считал себя начитанным человеком, он читал всё подряд, от объявлений на заборе и инструкция по технике безопасности для силовых установок до новомодного романа «Человек-амфибия» с его жарким, аргентинским летом и синим-пресиним морем, точнее, океаном.
Он произнёс вслух первую строку:
«Весной 1943 года Воланду Степану Степановичу катастрофически не везло…»
Почти как мне, весело подумал Тимофей Самойлов, который никак не мог отремонтировать немецкий селеновый выпрямитель за отсутствием деталей, и его постоянно ругало начальство. Но Тимофей Самойлов нелегально договорился с другой районной подстанцией, и ему на днях за бутылку водки должны были принести два селеновых элемента.
– Ну, что там?.. – зевая, спросила Аня.
Она много и часто спала и была рассеянной, как большинство беременных женщин.
– Фантастика какая-то, – нервно отозвался Тимофей Самойлов, дёрнувшись, словно прикоснулся в фазе двести двадцать вольт.
– Фантастика?.. – удивилась Аня, как будто фантастика была чем-то из ряда вон выходящим. – А ну…
Обычно она читать не любила. Не было у неё сроду такой привычки, а здесь пробрало: всё-таки живое, написанное чернилами.
– Подожди… интересно… Воланд – это из доктора «Фауста»… – проявил свои познания в Гёте Тимофей Самойлов.
– Тима иди… иди на кухню! – непререкаемым тоном приказала Аня, – суп сбежит, что мы будем кушать?! – и показала взглядом на наметившийся животик.
– Да, моя королева! Да! – счастливо воскликнул Тимофей Самойлов и убежал. – Потом расскажешь!
Аня вдруг страшно захотелось спать, однако она пододвинула к себе лампу, чтобы лучше видеть, и прочитала:
«Итак, весной 1943 года Воланду Степану Степановичу страшно не везло…»
У Ани мороз пробежал по спине, а сон как рукой сняло, потому что она никогда такого не читала.
«… при вызове на аварию ему не хватило резиновой уплотнительной шайбы, и он поставил картонную, густо смазав её солидолом…»
Прям как в наше время, подумала Аня, интересно!
«А среди ночи она возьми да и размокни от давления, и квартира депутата Фаланда оказалась залитой кипятком по щиколотку. Пока прибежал дежурный водопроводчик, пока то да сё, убытку на пять тысяч рублёв, посчитал домоуправитель Ружейников и поставил на гербовом бланке подпись и фиолетовую печать. Хотя надо было – синюю, потому как фиолетовая краска быстро выцветала. Но и так сойдёт, махнул рукой домоуправитель.
Бланк пошёл по инстанции, и Воланда вызвало начальство.
– Как же так?.. – спросил Козицкий, начальник участка, маленький, юркий, с синими пятнами на лице от врангелевской шрапнели, полученной на крымском фронте. – Сколько мы вам под расписку выдаём немецких уплотнительных шайб?
– Семь в день… – вопросительно повернул руку Воланд и хотел добавить, что этого на большой Яузовский район явно маловато, но постеснялся: начальству виднее, на то оно и начальство.
– Целых семь! – поднял тонкий, изящный палец эстета Козицкий. – Ты уплотнительные шайбы все по делу использовал? А то я знаю вашего брата! – намекнул он.
Обычно в конце дня, если у бригады оставалось неизрасходованными две-три уплотнительные шайбы немецкого производства, считавшиеся особенно качественными, их толкали местным умельцам, а на вырученные деньги пили пиво в сквере «Зарядье» над Москвой-рекой. Но в этот раз всё было по-честному: Воланд на предыдущих вызовах использовал все до единой и даже нервничал по этому поводу, а вдруг авария, хотя до конца смены оставалось каких-нибудь полчаса, и всё должно было обойтись, но судьба не пронесла.
– А это был восьмой вызов, – упавшим голосом сказал Воланд, боясь, что ему, как всегда, никто не поверит.
– Правильно, восьмой, – согласился Козицкий. – А ты вместо того, чтобы заскочить и взять ещё одну резервную уплотнительную шайбу, побежал на объект с пустыми руками.
– Так авария ж была, – попытался объяснить Воланд, – а у местного водопроводчика подходящего ключа не было, чтобы магистраль перекрыть.
Но его уже никто не хотел слушать. Дело докатилось до высокого начальства, управляющего трестом Чернокова Бориса Львовича.
– Деньги надо вернуть! – строго заявил управляющий Черноков, бывший рубака из «Первой конной». – Иначе пойдёшь под суд! – И дёрнул щекой.
У него был нервный тик от контузии, который донимал его в минуты волнения.
– Ага… – поддакнул предатель Козицкий, который мог не составлять акт сразу, а потянуть пару дней, глядишь, и дело само собой рассосалось бы.
– Я под суд не могу… – прошептал, зеленея от волнения Воланд. – У меня дети… Оля и Валя и жёнушка Ангелинушка…
– Да я понимаю, дорогой товарищ… – смягчился управляющий Черноков. Его большой, круглое лицо, от волнения налилось кровью. – Акт уже составлен?..
Акт был не только составлен, но и зарегистрирован в толстой амбарной книге.
– Составлен… – обречённо кивнул Воланд.
– Депутат не отступится? – давил Черноков, наливаясь ещё больше, как спелый арбуз.
– Не отступится… – согласился Воланд и едва не подставил шею, как под петлю.
– Ну вот видишь… – развёл руками Черноков. – Иди ищи деньги, – посоветовал он. – У тебя сутки! – И схватился за щеку, потому что она дёргалась, не переставая.
Это был приговор, и Воланд обречённо побрёл домой. Был девятый час вечера. Горели редкие фонари, и деревья казались голыми, хотя был месяц май, и радостные, зелёные листочки лезли изо всех щелей.
Где я деньги возьму? – горестно рассуждал Воланд. – Где? Это моя годовая зарплата!
Жёнушка Ангелинушка, как он любил её называть, накинулась с полуоборота. Мол, ты мне надоел хуже редьки, у тебя судьба хромая (и всё такое прочее), я с тобой не живу, а маюсь (и всё такое прочее). И дети маются, и мама – тоже. В общем, не муж, а один сплошной убыток. Тёща у него была золотая: Вера Николаевна, слова поперёк не скажет, только в «метрострой» как бы ненароком заталкивала, там денег поболее платят, а здесь внезапно поддакнула, мол, пора и честь знать, попользовался, хватит. То есть тонко намекнула, чтобы дочка подала на развод и другого нашла, у которого и квартира с видом на Кремль, и зарплата, не чета нынешнему, то есть Воланду.
– Лучше бы ты на колчаковском фронте сдох! Топай к Элеоноре! – сорвалась на крик жена.
Воланд сообразил, что развод отменяется или хотя бы отдаляется на неопределённый срок, и ему немножко полегчало.
Элеонора Михайловна была местной гадалкой высоких полетов, за ней даже из Кремля три раза машину присылали. Умела заговаривать боль, лечить бесплодие, а главное, менять судьбу.
Элеонора Михайловна жила в высотке на набережной Яузы, в доме с колоннами и тремя фонарями над входом. В тот злопамятный вечер один из фонарей не горел.
Воланд поднялся на третий этаж и позвонил в тридцать третью квартиру.
– Вам кого? – открыла дверь Хаткина Свет-Наташа. – А-а-а… это вы… – узнала она его тоном осуждения.
И Воланд понял, что вести в Москве разлетаются со скоростью степного пожара. Он представил себе заголовки: «Водопроводчик третьего разряда, Воланд, однофамилец известного гётевского Воланда, попал под суд за нерадивость и нарушение технологии», и тому подобное, не менее обидное, но созвучное слову: пожизненная катастрофа пожизненного неудачника.
Хаткина Свет-Наташа восходящая звезда в поэзии, её хватили Бабель и Демьян Бедный, служила у Элеоноры Михайловны секретарём-референтом. У неё было бледное, как мука, лицо, с горящими, словно угли на бумаге, чёрными-пречёными глазами. Вместо волос у неё была пакля из рубленых локонов разного цвета, а на левой руке она носила кольцо разведёнки.
На шум в атласном халате небесного цвета выплыла дородная Элеонора Михайловна. Большая, усатая женщина, с остатками былой красоты на лице, всё ещё грациозная и подвижная, с живым умом в глазах.
– О-о-о… батенька, да на вас лица нет! Знаю, знаю ваше горе… – заговорила она басом. – С утра жду… – доверительно поведала, как самому близкому человеку. – Пойдемте-ка… – и повела его, горемычного, через анфиладу комнат вглубь квартиры.
Воланд воспрянул духом. Последние три года с ним никто так участливо не разговаривал, даже жёнушка Ангелинушка в минуты соития.
Элеонора Михайловна привела его в чертоги, полные мистических атрибутов: черепов, гадательных шаров всех размеров и цветов, горящих жарких свечей и тлеющих индийских палочек в мраморных колоннах. Под ногами крутился чёрный-пречерный зеленоглазый кот, от которого во все стороны сыпались искры.
– Вижу, вижу… – вдруг завыла Элеонора Михайловна, – печать смерти на вашем лице.
Воланд испугался и кинулся бежать.
– Да не вашей! – остановила его в дверях Элеонора Михайловна. – А неизвестно чьей! Но точно – не вашей. Сидите, а то не получится!
– Фу! – выдохнул воздух Воланд, вернулся, чтобы плюхнуться на жёсткий стул и вытереть смертельный пот со лба.
– Сеанс семь рублей! – заявила Элеонора Михайловна басом.
Чёрный кот прыгнул ей на колени и уставился на Воланда, как светофор в тумане.
– У меня только четыре… – покопался в карманах Воланд.
– Наташенька… – перекатывая камушки в горле, позвала Элеонора Михайловна. – Детка-а!..
И Воланд решил, что его сейчас выставят взашей к едрене-фене, и впервые пожалел, что в своё время не учился, а пошёл в рабочий класс. А если бы выучился, сидел бы сейчас главным инженером в конторе и акты бы пачками выписывал бы и горя не знал, тоскливо подумал он, с испугом поглядывая на тёмные углы, где скалились черепа туземных аборигенов с острова Борнео.
В комнату вошла бледнолицая, как смерть, Хаткина Свет-Наташа.
– Детка, – попросила низким голосом Элеонора Михайловна. – Не в службу, а в дружбу, одолжи нашему пациенту три рубля. Он вернёт не позже завтрашнего утра.
Воланд хотел возразить, что жёнушка Ангелинушка ни за что денег не даст, скорее, из дома без штанов выгонит, а занимать на работе западло. Он и так уже бригаде сто рублей должен.
– Хорошо, Элеонора Михайловна, – ехидно, как показалось Воланду, среагировала Хаткина Свет-Наташа, – у меня как раз остался лишний трояк, – и положила деньги перед Воландом.
– Итак, на что будем гадать, на удачу или судьбу? – поинтересовалась Элеонора Михайловна.
– Конечно, на судьбу, – вспомнил Воланд зловещие увещевания жены.
– На судьбу надо зарок сказать.
– В каком смысле?.. – удивился Воланд.
– В прямом, – категорически молвила Элеонора Михайловна.
– Клянусь, что больше никогда не буду толкать налево немецкие уплотнительные шайбы, – дрогнувшим голосом поклялся Воланд.
– Так, хорошо, – деловито кивнула Элеонора Михайловна, взялась за карты Таро и под слова: «Покажи нам князь тьмы и бездны всё-всё, что было, что есть и что сбудется, да не прогневи небесные силы, а воздай нам по честным заслугам», стала раскладывать по три карты.
Сразу, как назло, пошли младшие арканы: «жезлы», «мечи», «чаши» и «пентакли».
– И идут, и идут… – несколько удивилась Элеонора Михайловна, продолжая раскладывать карты дальше. Надо было, суеверно подумала она, хорошенько потасовать, – но это всё пустые хлопоты, – объяснила она Воланду. – Ты в это не верь и водку с горя не пей. У тебя же хорошая работа? – стала она его расспрашивать, чтобы заговорить зубы.
На самом деле, у неё в жизнь такого расклада не случалось – чтобы одни младшие арканы, и ни одного старшего.
– Хорошая, – отозвался, как из другого мира, Воланд, абсолютно ничего не понимая.
– А главное, доходная, – добавила со знанием дела Элеонора Михайловна.
Чёрный-пречерный кот фыркнул, и от него во все стороны полетели искры, словно из-под колес трамвая, если на них пролить масло.
– Что вы!.. – ужаснулся Воланд, удерживая себя, чтобы категорически не замахать руками от возмущения. – Я с жильцов ни-ни… по трояку не беру… – промямлил он, цепенея, как шишка на морозе, – нам это категорически запрещено!
Он никак не ожидал, что карты сразу выведут на чистую воду, и нехорошо подумал об своей Ангелинушке, которая подвела его под Афонский монастырь.
– И правильно, товарищ, – баском согласилась Элеонора Михайловна, – в наше светлое время это безнравственно и опасно.
Давно должны были пойти старшие арканы, и Элеонора Михайловна с нетерпением ждала их, чтобы утешить Воланда, однако младшие всё не кончались и не кончались. И вдруг, на тебе, пустые хлопоты вначале закончились «солнцем», а потом – «смертью».
Элеонора Михайловна, в изумлении коротко взглянула на Воланда. Он сидел ни живой, ни мёртвый и сильно побледневший, как якобинец перед гильотиной.
– Вы, главное, не бойтесь… – заволновалась она, готовая, если что вернуть Воланду его четыре рубля. – «Солнце» и «смерть» – это ещё не нестоящая смерть.
– А какая?.. – выдавил из себя Воланд.
– Это, товарищ, большая удача, – начала заговаривать ему зубы Элеонора Михайловна. – Значит, в вашей жизни вначале всё сбудется. Все ваши мечты и надежды. А главное, жена вас будет любить ещё крепче…
– А потом?.. – спросил он наивно, разглядывая её редкие, женские усики под большим носом с бородавкой на кончике.
– А потом… – сглотнула слюну Элеонора Михайловна. – Потом вы станете вселенским человеком больших масштабов!
– Больше Эйфелевой башни? – спросил Воланд, который ничего более грандиозного себе представить не мог.
– Больше! – кивнула она со знанием дела.
Она сама не понимала, что несёт, лишь бы Воланд не очухался и не учинил бы скандала, а то разгромит волшебные чертоги, созданные большими трудами, с презрением в рабочему классу думала Элеонора Михайловна, и дело с концом. Одних черепов было три раза по полтораста рублей, да и то по большому блату из Оптиной пустыни.
– Не понял?.. – недоверчиво уточнил Воланд.
Элеонору Михайловну передёрнуло, но она не подала вида.
– У вас будет так много денег, – врала она дальше, – что смерть вам уже не будет страшна!
– А-а-а… в этом смысле – с непонятным облегчением даже для самого себя наконец слабо улыбнулся Воланд, потому что надо было как-то среагировать на внезапно побледневшую Элеонору Михайловну.
– А вы в каком думали?! – перехватила инициативу Элеонора Михайловна. – Идите, товарищ, идите, у вас всё будет хорошо! – выставила она Воланда.
Чёрный-пречерный кот, сыпля искрами во все стороны, спрыгнул с её колен и побежал впереди, показывая дорогу.
Куда уж хорошо, подумал Воланд, но возражать не стал, а на плохо гнущихся ногах с ужасным чувство, что всё пропало, в страшной спешке покинул квартиру гадалки с усами. Он выскочил на улицу в ночь с пятницы на субботу. Накрапывал майский дождь, и пахло клейкими тополиными листочками.
Улица была пуста и безлюдная, её освещали редкие, тоскливые фонари. Может быть, я последний раз вот так свободно гуляю, горестно вздохнул Волан. То, что его посадят, он уже нисколько не сомневался. Черноков постарается, в Туруханский край сошлёт, а там морозы и медведи. И вдруг увидел посреди дороги три канализационные люка, и все три, как назло, без крышек. А ведь так любая машина может угодить в аварию, подумал Воланд и заволновался. В следующий момент откуда ни возьмись, очень далеко, казалось, с самих небес, на завораживающей, нисходящей дуге возникли странно мигающие автомобильные глаза, которые передвигались с высочайшей для сорок третьего года скоростью. Воланд побежал навстречу, размахивая руками, чтобы предотвратить неминуемую аварию. И действительно, эти два глаза, за которыми чувствовалась огромная, тёмная масса железа, вильнула туда, сюда, потом – в сторону, и чтобы не разрушить хрупкую жизнь самого Воланда, зигзагом пошла к перекрёстку, туда, где горел единственный на всю улицу фонарь. Раздался удар, треск, и наступила тишина. Лишь в моторе разбитой машины всё ещё что-то стучало: тук-тук, тук-тук, тук-тук.
Воланд опасливо подошёл и не менее опасливо заглянул. За рулём машины, развозящей ночной хлеб, сидел мужчина с залитым кровью лицом. Профиль у него был похож на лезвие топора, а открытые глаза были разного цвета: правый – чёрный, как у змеи, левый – зелёный, как лягушка, на двух же верхних резцах у него были золотые коронки, а на нижних – платиновые. Очень странный водитель. Нетипичный для хлебовозки.
Не успел Воланд как следует разглядеть водителя, как рядом раздалась отчаянный визг тормозов, и возник милиционер в синем кителе.
– Та-а-а-к… гражданин… – сказал он с подковыркой, козыряя то ли Воланду, то ли покойнику в хлебовозке. – Лейтенант Казбеков! Что произошло?
– Да вот… – показал Воланд, – покойник…
– Фамилия?! – грозно спросил лейтенант.
– Покойника?.. – робко уточнил Воланд.
– Ваша! – с сарказмом уточнил лейтенант Казбеков.
– Воланд Степан Степанович, водопроводчик тридцать третьего ЖЕКа по Яузаскому району.
– Что же вы, товарищ Воланд, водопроводчик тридцать третьего ЖЕКа по Яузаскому району, под машины кидаетесь? Аварийную ситуацию создаёте? – укорил его лейтенант Казбеков.
Воланд хотел сказать, что виной всему три канализационные люка, без крышек.
– Да, знаем, знаем… – в меру, не снимая, однако, вины, успокоил его лейтенант, – закрывать не успеваем. Ночные похитители крышки от люком на металлом сдают. Но ничего, ничего… скоро поймаем. Мы уже на их след вышли… – конфиденциально добавил он.
Честный Воланд хотел признаться, что виновником аварии со смертельным исходом является он лично, потому что безуспешно пытался оставить хлебовозку, семь бед один ответ, подумал он, везите меня в тюрьму, я сдаюсь, но события развернулись совсем не так, как он планировал.
Лейтенант Казбеков подошёл к машине, заглянул внутрь, нервно разгоняя руками пар, бьющий из радиатора, и произнёс удивлённо:
– А где покойник-то?..
– Так был же… – как человек, который не собирается ничего скрывать, сообщил Воланд.
– Ха-ха! – коротко рассмеялся лейтенант Казбеков. – Шутить изволите, гражданин водопроводчик?..
– Был же! – с отчаянием в голосе удивился Воланд. – Вот здесь, за рулём, и сидел!
– Та-а-а-к! – хищно заявил лейтенант Казбеков. – Я вас арестовываю за то, что вы угнали хлебовозку и разбили её. Это уголовное дело, гражданин водопроводчик тридцать третьего разряда!
– Я даже водить не умею, у меня никогда машины не было! – наивно возразил Воланд, приготовившись к самому худшему.
– Это неважно! – заявил лейтенант Казбеков и приготовился писать протокол. – У вас даже свидетеля нет!
– А не надо никаких свидетелей! – вдруг раздался голос из темноты, и в свет фонаря шагнул высокий, горбоносый, постриженный по-военному незнакомец в чёрном запахнутом плаще. – Я всё видел!
– Я вас слушаю! – опешил лейтенант Казбеков и на полтона сбавил обороты, потому что почувствовал, что разговаривает с достойным уважения членом общества, способным постоять за себя.
– Этот человек… – незнакомец с голыми висками дружелюбно посмотрел на Воланда, – пытался предотвратить аварию, но машина двигалась так быстро, что не могла затормозить. Нечего скорость превышать!
Он улыбнулся, и свете фонаря блеснули золотые и платиновые коронки. Воланд тут же признал в нём водителя хлебовозки и хотел сообщить органам власти о своём открытии, но неугомонный лейтенант Казбеков и слова не дал ему сказать.
– Не морочьте мне голову! – вдруг психанул он. – Где водитель?! Где?!
– Наверное, очнулся и сбежал по своим делам, – предположил незнакомец, и Воланд был крайне удивлён, потому что незнакомец снова по-свойски подмигнул ему, но так, чтобы не заметил лейтенант Казбеков.
– Да после такой аварии от человека одна смятка остаётся! – со знаем дела воскликнул лейтенант Казбеков.
– Всякое бывает… – риторически рассудил незнакомец.
И лейтенант Казбеков неожиданно так же быстро остыл, как и возбудился.
– Так! Что вы мне голову морочите! Нет трупа – нет дела! Может, она здесь сто лет стоит?..
– Может, – охотно согласился незнакомец.
– А пар?! – нашёл, что предъявить Воланд.
– Не знаю! – отрезал лейтенант Казбеков. – Не моё дело!
– Так не бывает! – упрямо вставил Воланд.
– Бывает, – остановил его незнакомец. – В жизни всё бывает! – снова рассудил он.
И как ни странно, Воланд ему тут же поверил.
– Ну вот видите! – укорил их лейтенант Казбеков. – В следующий раз без причины не вызывайте!
Сел в машину с недовольным видом и укатил.
– Ну… что будем делать? – спросил Воланд, потому что чувствовал, что без объяснений они просто так с незнакомцем не разойдутся.
– Позвольте представиться, – вдруг расшаркался незнакомец, плащ у него распахнулся, и под ним блеснул расшитый золотом красный бархатный кафтан. – Его Величество Воланд собственной персоной. – И словно вырос на две метра ввысь и словно навис как скала. – А вы, стало быть, водопроводчик третьего разряда Степан Степанович?
– Да… – промямлил поражённый в самую печень Воланд и вытаращил глаза.
– И по совместительству самый младший из нашего клана Воландов! – раскрыл ему глаза Его Величество Воланд собственной персоной.
Воланд от растерянности ничего не мог добавить, только сильно неопределённо кивнул, а рот от удивления открыл.
– Каким же ветром вас в Россию занесло? – спросил Его Величество Воланд собственной персоной.
– Я… не знаю… – скромно пожал плечами Воланд, – просто живу…
– Зато я знаю! – загремел Его Величество Воланд собственной персоной. И неожиданно предложил: – Значит, так! Эту ошибку мы тотчас исправим. Возвращаемся вместе со мной в Чертоги, а жене и детям выделяем компенсацию! – Он потряс правой рукой, в которой образовался непонятно откуда взявшийся достаточно вместительный весёлый чемоданчик явно заграничного производства, потому что такие чемоданчики Воланд видел только у иностранцев в центре Москвы.
– Какую компенсацию! – неожиданно для себя упёрся Воланд. – Мне и здесь хорошо!
Его Величество Воланд собственной персоной внимательно посмотрел на него. Теперь правый глаз у него был чёрным, как уголь марки «антрацит», левый – зелёный, как бутылочное стекло. И у Воланда из лёгких сам собой вышел абсолютно весь воздух.
– А зря… – промолвил Его Величество Воланд собственной персоной. – Хочешь, у тебя будет одна жена, скромная, тихая, безропотная, писаная красавица. Или целый гарем таких. Машин у тебя, каких хочешь, будет огромный гараж, и все последней американской модели, а денег – куры не клюют, дворец на острове Бали… слуги на каждом шагу…
– Нет! – нервно задышал наконец Воланд. – Я свою жёнушку Ангелинушку люблю, и детей: Олю и Валю!
– Ну, как знаешь! – разочарованно молвил Его Величество Воланд собственной персоной. – Значит, так тому и быть! А за то, что оказался верным мужем и хороший отцом, вот тебе в барского плеча, чтобы до конца дней хватило.
И пропал в голубоватом сиянии дымки. А вместо него на асфальте остался стоять весёлый заморский чемоданчик, который Воланд лицезрел только у иностранцев.
Воланд открыл его, увидел американские доллары и проснулся в собственной постели. Слава богу, с облегчением подумал он, слава богу, мне всё приснилось. Но увидев жёнушку Ангелинушку, сидящую за столом и, слюнявя пальцы, пересчитывающую заграничную валюту, сообразил, что никакой это не сон, а самая настоящая явь.
– Проснулся, гуляка! – недовольным тоном поинтересовалась жёнушка Ангелинушка. – Собирайся на работу! Отнесёшь Чернокову пять тысяч рублей, но вначале заскочишь к Элеоноре Михайловне и отдашь трояк! А летом поедем в отпуск в Черноморск! – молвила она твёрдо. Детям надо море показать!
И как ни странно, всё сбылось. С тех пор Воланд Степан Степанович зажил привольно и свободно без всяких там приключений с шайбами немецкого производства особо высокого качества».
Поздно вечером, когда чета Самойловых после праведных трудов улеглась спать и Аня в третий раз начала пересказывать мужу содержимое папки, в дверь тихо-тихо кто-то поскрёбся, а потом повернулся ключ и дверь с жутким скрипом отворилась. На одно-единственное мгновение они оба увидели на фоне коридора острый, воландовский профиль человека в шляпе и в блеснувшем пенсне.
От испуга они глядели через раз, а дышать вообще забыли. Человек бесшумно вошёл. Поставил табуретку возле шкафа. Встал на цыпочки. Пошарил поверху. Нащупал папку. Глянул при свете луны, падающем в окно, удовлетворённо хмыкнул, зачем-то отвесив поклон неизвестно кому, и так же бесшумно удалился, сверкнув на прощание пенсне, как удав глазом.
– Что это было?.. – хрипло спросил муж.
– Тима… – шёпотом укорила его Аня за незнание фактов, – это был он…
– Кто-о-о?.. – отстранился Тимофей Самойлов, чтобы лучше разглядеть жену.
– Он!
– Кто?
– Я же тебе рассказывала!
– Я ничего не понял! – признался Тимофей Самойлов.
– Его Величество Воланд собственной персоной! Вот кто! – резюмировала потрясенная Аня.
– Не может быть… – произнёс Тимофей Самойлов, отличавшийся от жены, тем, что был ярым реалистом.
– Может быть! Может! – энергично возразила Аня, всё ещё находясь под впечатлением страшного романа: «Мастер и Маргарита». – Всё! Давай спать!
И они уснули. Ане снился Его Величество Воланд собственной персоной в сверкающем пенсне, а Тимофею Самойлову – заморские шайбы немецкого производства особо высокого качества, ну, и весёлый чемоданчик заодно, полный американских долларов.
***
А Булгаков так же осторожно, чтобы не разбудить Белозёрскую, вернулся домой на Большую Пироговскую, 35 и сел работать. Ему как никогда не хватало этой самой папки. Хорошо, что я её не сжёг, подумал он и сразу увидел свой прогресс и укрепился во мнении, что стал писать гораздо лучше, чем в «Белой гвардии», «Роковых яйцах» и «Зойкиной квартире», не считая прочей мелочи типа рассказов, где особой стратегии-то не нужно было вовсе, одна харизма и точность слов. Он подумал, что Тася была права насчёт архива. Архив надо было сохранять ценой жизни хотя бы для собственного развития. И он понял, о чём в своё время долдонила ему Тася, когда он сжигал черновики: надо всё время сравнивать себя настоящего с предыдущим, подумал он, обязательно!
Несмотря на то, что у Булгакова было врождённое чувство драматургии, он знал, что не дотягивает, что на одном этом качестве в великом романе не вылезешь. У него было такое ощущение, что как только он брался за «Мастера и Маргариту», всё шло наперекосяк, словно кто-то сбивал его с панталыку. Выходило совсем не то, что хотелось, то длинноты, то потеря канвы, то посторонние действующие лица, то его элементарно заносило не в ту степь, не выручали даже королевские фразы. Хотелось же всего-то-навсего старого-престарого, нигде не употребляемого архаизма на большом полотне. В истории литературы такого точно не бывало. Поэтому у меня кусками и получается, решил Булгаков и заплакал. Настроить слух ему хватало как раз на небольшой рассказ, и он всякий раз скатывался в средние или малые формы, где драматургия была короткой и рубленой, а ему нужно было долгая, пространная, но что парадоксально – без длиннот, иначе ничего, кроме тарабарщины не получалось; камерность не катит, думал он, то есть надо вводить большое количество действующих лиц и гармонизировать их. Вспомнилась ему Тася, которая благодаря его стараниям теперь не могла никого родить, вспомнился сын, которого он собственноручно расчленил в морфийном угаре и вытащил на свет. И горе так навалилось на него, что он возненавидел своё плебейское существование и Ракалию больше всего, потому что она соблазнила и разрушила его жизнь. Сейчас бы сидели с Тасей на кухне, на нашем пятом этаже, и пили бы чай с сахарином, мечтал он. Бедный попович, думал он, имея себя в виду себя, бедный, бедный.
Он побрёл на кухню, выпил бутылку водки, упал в кабинете на старый, протертый кожаный диван, натянув на себя старую кавалерийскую шинель, которую они обнаружили в шифоньере, когда въехали в квартиру, и провалился в мертвецкий сон. Даже вылезшие из дивана и из шинели клопы не смогли разбудить его.
***
Если бы Булгаков знал, что все женщины не похожи на его любимую Тасю, он бы ни за что на свет не развёлся бы с ней и не женился бы на одной из её антиподов – Белозёрской. Но он был наивен, простоват для жизни с алчущими женщинами и вечно попадал впросак с дюже красивыми из них, которые казались ему существами небесного порядка, ну, как лунные человеки, что ли.
Это были, конечно, не отношения с Викой Джалаловой, которая требовала всего лишь ежеминутного внимания как всякая замужняя женщина, это было похлеще, всецелое погружение на уровне дремучего матриархата. И Булгаков очень быстро начал захлёбываться. Он переводил дух лишь на работе и вечеринках, о которых Ракалия не знала. А если знала, то являлась в качестве семейного цербера, дабы посадить на цепь и утвердить свою власть.
Белозёрская так старалась, так старалась, что совершенно, сама не желая того, психологически «сломала» Булгакову его мужской инструмент. Вплоть до развода с ней, он стал импотентом на чисто психологической почве и перепугался сверх меры.
Чтобы я ещё когда-нибудь связывался с бабами, ужасно страдал Булгаков, и делегировал им свою свободу, да ни в жизнь!
Вначале ему даже нравилось, что Белозёрская совсем чуть-чуть водит его за нос. И к её имени Ракалия вполне осознанно добавил слово – лживая. Началась взрослая жизнь, оправдывал он сам себе, ощущая себя горестно-опустошенным, потому что с Тасей у него была длинная-длинная юношеская непорочная любовь, а с Ракалией она стала половозрелой и жёсткой, как подмётка у Африканыча. Физиологически она убила меня за пару лет потому что ложь порождает ложь, осталась только духовная, возвышенная часть. Ну да недолго, скорбно думал он, выписывая и сжигая очередную главу о Мастере и Маргарите, в которой всё было грустно и безнадёжно, и даже кот Бегемот, брасом переплывший Патриарший пруд, не помогал.
Один раз он обмолвился в разговоре с ней о лунных человеках. Но она абсолютно ничего не поняла и отнесла его писательские фантазии на счёт бредней. И он понял, что она безнадёжно приземленная натура и никак не может соответствовать Тасе, правда, Тася, чего греха таить, не дотягивала, хотя лично была знакома и с Ларием Похабовым, и с Рудольфом Нахаловым. Не дотягивала, потому что мозг её спал и не требовал объяснений всему тому, что с ними происходило. Не задавала себе вопросов и не мучилась необъяснимыми вещами. По её версии всё должно было быть незыблемым, как в детстве с новогодней ёлкой и подарками под ней.
Через год он понял, что Ракалия, как бы ненароком, его слегка презирает даже в разговорах с приятельницами: «Мой-то… с ночи очередной роман кропает…»
Вдруг ему позвонили по телефону и вкрадчивым голосом сексота сообщили в толстовском стиле: «Вы плохо видите сквозь ваш единственный монокль. Связь вашей жены с Юлием Геронимусом есть тайна только для одного вас!»
Булгаков взвился. Мысль о том, что Юлий Геронимус пользуется прекрасным телом Ракалии, поразила его. Он никогда не думал, что его можно вот так ловко обвести вокруг пальца, а он ничего не почувствовал, и вдруг чётко и ясно свёл одно к одному и вспомнил, что у неё было примерно полгода свободного времени, как она приехала в Россию. А потом появился я… и что? А то, что был настолько глуп, что без оглядки бросил Тасю и женился на ней. Ё-моё! – словно очнулся он, и всё, абсолютно всё совпало, как ясный день. Впору было пойти и убить чем-то тяжёлым Юлия Геронимуса. А вдруг она от меня только этого и добивается? – подумал он. И щелчок в голове был признаком непроизвольного озарения. Вот это да-а-а… – сказал он сам себе и присел на оградку в сквере. Да она мной вертит с самого первого дня, когда заарканила своими серыми глазищами, потом она меня обманывала этими самыми глазищами в постели и ещё обманывала много раз в постели с Юлием Геронимусом, манипулировала расчетливо и без чувств, добиваясь раз за разом своих целей. А я ей книгу, как распоследний дурак, посвятил, отрёкся от Таси и даже имя её забыл. Ему захотелось тут бежать к Тасе, пасть перед ней на колени и попросить прощения, чтобы она вернулась, и они бы всё забыли, и жили бы душа в душу долго и счастливо. Но Тася была замужем неизвестно где, и Булгаков не решился её искать.
Зато он по телефону наговорил грубостей Юлию Геронимусу и вызвал его на дуэль.
– Всенепременно! – нервно закричал в трубку Юлий Геронимус, и связь оборвалась.
– Ну что?.. – спросила Белозёрская, с ангельским лицом вытирая лживые слёзы. – Добился своего?!
У неё ещё теплилась надежда, что сегодняшняя ночь ненастоящая, что такие ночи проходят без последствий и что можно и дальше водить дурака-мужа за нос. Да и между ног у него совсем не то, на что я рассчитывала, думала она цинично, хотя и похлеще будет, чем у Юлия Геронимуса.
– Вот… – показал он ей молчащую трубку, стараясь не глядеть на Ракалию, которая его страшно раздражала.
– А… ну да… – растерянно кивнула и тоже принялась ждать, кусая губы.
А вдруг он не позвонит, вдруг? И всё само собой рассосётся? – думала она с глупой надеждой конформистки. Ей было жаль саму себя, несбывшихся планов относительно мужа. Вся эта возня с литературой: бесконечные ночные бдения, тягомотина с переписыванием и вклейками, с кремированием черновиков и недовольством самим собой. Не так, как она себе представляла жизнь знаменитого писателя, а сплошные балы, вечеринки и восхваления, и себя в центре всех этих вихрей удовольствия.
Юлий Геронимус позвонил ровно через минуту:
– Право выбора за мной! – мрачно буркнул он так, что услышала даже Белозёрская.
– Естественно! – по складам процедил Булгаков, торжественно поглядывая на неё, мол, всё из-за тебя, стерва.
– Я выбираю пистолет!
– Великолепно! – обрадовался Булгаков. – Я с десяти шагов попадаю в двугривенный.
– Через платок! – не дослушав его, зарычал Юлий Геронимус. –Через платок!
Булгаков отстранил трубку и посмотрел на Белозёрскую, сделав соответствующее выражение лица, мол, сам напрашивается.
– Ну что он? – не поняла Белозёрская.
– Через платок… – сказал Булгаков, не сумев скрыть оторопь.
Белозёрская тихо ахнула. «Через платок» – означало верную смерть.
– В упор! – кричал в бешенстве Юлий Геронимус, – чтобы окончательно и бесповоротно!
– Место выбираю я?! – пришёл в себя Булгаков.
– Это как вам заблагорассудится! – ловко, как показалось Булгакову, согласился Юлий Геронимус, и в этом крылся какой-то подвох.
Ах, не всё ли равно! – обречённо подумал Булгаков.
– В Капотне, где идёт стройка века! – в свою очередь крикнул он.
– Отлично! – торжествующе прорычал в трубку Юлий Геронимус.
– Одного из нас зароют там же! – не уступил ему Булгаков.
На этот раз ответная пауза была длиннее обычного.
– Проигравшего добивают! – согласился Юлий Геронимус. – И никаких больниц!
– Замётано! – ни секунды не сомневаясь, ответил Булгаков и вспомнил Борю Богданова, как у него глаз висел на ниточке.
– Я высылаю секунданта! – закричал, как полоумный, Юлий Геронимус.
– И я тоже! – вторил ему Булгаков, хотя не имел ни малейшего представления, кто будет его секундантом.
Однако через час к Булгакову приехал курносый Илья Ильф с очень серьёзным лицом.
– Я ваш секундант, – сказал он. – Вы доверяете мне?
– Безусловно! А?..
– А у вашего противника – Женя Петров, – доложил Илья Ильф.
– Ну да… – саркастически кивнул Булгаков. – Ну да… Кто же ещё?..
Попили чайку. Ракалия двигалась скромно и беззвучно, как убогая тень. У Булгакова от переживания зубы стучали о подстаканник. Чтобы никто ничего не подумал, он два раза выходил из комнаты и бил себя ладонями по лицу. Это помогало на короткие пять секунд, потом всё начиналось сызнова.
– Пора! – сказал Илья Ильф и посмотрел в окно.
Светало. Редкий, холодный рассвет поднимался над Москвой. Это последнее, что я вижу в жизни, мимоходом подумал Булгаков и вопреки привычке записывать, оставил фразу невостребованной. Он оделся и застегнул пальто.
– Поехали!
Белозёрская тихо ахнула и кинулась одеваться.
– Сиди дома! – приказал Булгаков. – Жди новостей!
Любовь к красотке-жене перешла в брезгливость.
– Я с ума сойду! – воскликнула она, как будто теперь это имело какое-то значение.
– Ты этого хотела?! Ты добилась! – крайне уязвил её Булгаков, не стесняясь Ильи Ильфа, который, конечно же, был в курсе дел.
Она в слезах рухнула на постель. Булгаков вышел в коридор к поджидавшему его Илье Ильфу. Ему хотелось сказать что-то обычное, мужское, может быть, даже похабное, но он пересилил себя, понимая всю ущербность своего положения.
Они пошли в сырость и мелкий дождь, сели в служебный автомобиль и поехали. Мимо замелькали тени. Булгаков закрыл глаза и провалился в нервный сон. Ему казалось, что он, как в детстве, заболел и кто-то должен прийти и утешить его.
Проснулся оттого, что машина стояла.
– Приехали… – сказал Илья Ильф.
Булгаков вышел. Под ногами чавкало.
– Ну и где же они?.. – спросил он, озираясь.
От старых, размашистых деревьев, что стояли вдоль чёрной речки отделилась долговязая тень, и Булгаков узнал Жоржа Петрова по его коварному лисьему лицу.
– Я выбрал место, – проговорил он так, словно делал одолжение, – там посуше.
Булгаков сошёл с дороги и пошёл следом. Трава цеплялась за брюки. Слоноподобный Юлий Геронимус, по кличке Змей Горыныч, стоял под одним из деревьев и пил водку прямо из горлышка.
– Как же он будет стреляться? – удивился Булгаков.
– Через платок это не имеет значения, – со знанием дела пояснил, не оборачиваясь, Жорж Петров.
Илья Ильф посмотрел на Булгакова с жалостью. Наверное, я плохо выгляжу, подумал Булгаков. Ну да недолго…
– Скажите ему… – глядя с ненавистью в сторону Юлия Геронимуса, молвил Булгаков, – что я хочу поторопиться! Я ещё не завтракал!
Жорж Петров подошёл к Юлию Геронимусу, и они о чём-то долго спорили.
Окончательно рассвело. Туман легко поднимался над чёрной речкой. Сиротливая луна бледнела над Капотней.
– Сейчас привезут пистолеты, – вернулся Жорж Петров с перекошенной физиономией.
Юлий Геронимус всё так же мрачно и неподвижно стоял под деревом.
– Скорее бы! – угрюмо бросил Булгаков, погружаясь в раздражение, как в болото.
Вдали затарахтела машина, и из неё ловко выпрыгнул Дукака Трубецкой.
– Господа! Я привёз оружие! – громко объявил.
Булгаков оглянулся. Ему казалось, что за ними кто-то наблюдает. От сырости и холода его передёргивало, как бездомную собаку. Он представил, каково это лежать в такой земле.
– А… где… это… могила-то? – глупо спросил он почему-то Юлия Геронимуса и сделал пару шагов, прежде чем опомнился, что это крайне неприлично – пересекать невидимую чёрту и что он ненавидит Юлия Геронимуса, особенно его большой, медвежий нос и вечный вихор на затылке. Но почему-то равнодушие всё сильнее и сильнее охватывало его. Хотелось вот так же беззастенчиво приложиться к бутылке и ощутить, как горячий алкоголь упадёт в желудок.
Где эти чёртовы лунные человеки, подумал он, ожидая, что они ни за что на свет не допустят этой глупой дуэли. На душе вдруг стало легко и спокойно, словно он знал наперёд судьбу.
– Уже вырыли, – вместо Юлия Геронимуса нехотя ответил Жорж Петров. – Хотите посмотреть?.. – он показал куда-то за деревья в сторону чёрной речки.
– Нет, спасибо, – буркнул Булгаков и отступил назад к невидимой черте.
Подобные чувства, должно быть, испытывал и Юлий Геронимус, держа бутылку на отлёте, словно предлагая Булгакову приложиться.
Подошёл Илья Ильф, конфузясь, сказал:
– Надо из карманов всё вытащить, – и высморкался в большой клетчатый платок.
– Ё-моё! – удивился Булгаков.
– В случае чего… чтобы мы не рылись… – тактично объяснил Илья Ильф и ещё раз чувственно высморкался.
– Ах, да, да, да… – поразился Булгаков тонкой психической натуре секундантов. – Извини, я не сообразил, – сказал Булгаков и подумал, что надо было захватить бутылку горячего портвейна, а не мёрзнуть вот так, как идиот. Горячий портвейн – это как раз то, что требуется в такой момент.
Булгаков опустошил карманы, все те мелкие вещи, которые обычно носит человек в собой, и кольцо с пальца снял тоже.
– Если что… – сказал Илья Ильф, делая честное-пречестное лицо, – я верну.
– Хорошо, – кивнул Булгаков, снова подумал о лунных человеках, и вдруг забеспокоившись: а если они передумали, если вообще забыли о нём?!
Но времени разбираться не было. Стоило, конечно, покричать в темноту, напомнить о себе, горемычном.
– Господа! – деловито подошёл Дукака Трубецкой, который выполнял роль судьи. Его маленькая, всклокоченная голова контрастно выделялась на фоне неба. – Всё готово, но есть маленькая проблема! – как всегда, загнул он в конце.
От него до сих пор сильно разило батумской тюрьмой.
– Вначале стреляемся, а потом решаем любую проблему – наконец подал мрачный голос Юлий Геронимус и шагнул от деревьев.
– Конечно! Безусловно! – согласился с ним Дукака Трубецкой. – Но дело в том, что пистолет – один!
– Как это?! – по-рачьи выпучил глаза Юлий Геронимус, и отодвинув плечом Жоржа Петрова, чтобы впериться в Дукаку Трубецкого, как в икону. – Как это?!
Булгаков подумал, что он схватит сейчас Дукаку Трубецкого за грудки.
– Так, – как показалось Булгакову, беспечно затряс своей козлиной бородёнкой Дукака Трубецкой. – Нет, и всё! Не достал!
– Что значит «не достал»? – фальцетом закричал Юлий Геронимус. – Где ты был? Я же тебе адрес дал! В чём дело?!
– Того человека не было… – вдруг заторопился Дукака Трубецкой, – вышла его жена и сказала, что Валика забрали.
Для убедительности он покрутил головой на тщедушной шее.
Юлий Геронимус пьяно выругался:
– Как забрали?
– Сегодня ночью… ОГПУ… Вы же знаете, как это делается.
Юлий Геронимус мотнул головой, как бык:
– Ну и?..
– Из оружия остался один браунинг, – недрогнувшим голосом сообщил Дукака Трубецкой.
– Дайте сюда! – Булгаков, у которого отлегло с души, протянул руку. – Здесь даже барабана нет! – заключил он.
Все обступили его кружком заглядывая через плечо.
– Вы что, хотите сыграть в русскую рулетку?! – взвился Юлий Геронимус. И оказался изрядно пьян. – Я не собираюсь играть в подобные игры! Договорились: дуэль! Через платок! А здесь какая-то примитивная рулетка! Господа! Где романтика! Куда всё пропало?! – вопросил он расцветшее небо.
И действительно, вдалеке стало видно перелесок и поворот реки, над которым висела одинокая звезда.
– Я предлагаю стрелять по очереди, – голосом дурака сказал Дукака Трубецкой. – Кинем жребий, кто первый?
«Маленькая острозубая скотина!» – едва не обозвал его Булгаков, но сдержался.
– Нет! – отрезал Юлий Геронимус. – Это самоубийство, на расстоянии платка? По очереди?! Ты идиот?!
– Так по жребию же!.. – расстроился Дукака Трубецкой, как будто в этом и крылся самый здравый смысл.
Все вдруг замолчали. Посмотрели по сторонам на просыпающуюся округу.
– А у меня водка есть! – вдруг сказал приятным голосом курносый Илья Ильф.
– А у меня – закуска!.. – в тон ему среагировал Жорж Петров и тоже замер в выжидательной позе халдея.
Булгаков сообразил, что это обычный заговор, или всё гораздо глубже? – подумал он, но ничего так и не сообразил, прозрение наступило позже.
– Ну… так чего вы стоите?.. – спросил Юлий Геронимус, вопросительно уставившись на Булгакова, будто он случайно заглянул на огонёк.
Булгакову вдруг стало всё безразлично. Ракалия показалась отсюда, из Капотни, самой скучной и чужой женщиной в мире, с широкой и плоской, как гитара, спиной. Всё было кончено. Лунные человеки опять сработали совершенно непредсказуемо, однако на твердую пятёрку с плюсом. Впереди, как река на рассвете, мерцала новая, странная жизнь без упрёков, скандалов и прочих женских погремушек.
У одной из машин опустили борта, сели, пустили по кругу бутылку. Потом – вторую, потом – третью. Закусывали солёными огурцами, «краковской» колбасой и репчатым луком.
– Не дай бог! – еле ворочая пьяным языком покаялся Юлий Геронимус. – Прости меня… я скотина…
Все выжидательно замерли, исподтишка поглядывая на Булгакова, словно он был в чём-то виноват.
– Да ладно… – через силы выдавил Булгаков, – с кем не бывает…
Закурили. Сидели, беспечно, по-детски болтая ногами. Вдалеке были видны краны и вышки нефтеперегонного завода. Потом там оглушительно забил молот.
– А ваша жена уехала, – сказал Дукака Трубецкой.
– Как?.. – удивился Булгаков.
– Записку прислала, – протянул Дукака Трубецкой.
В тусклом утреннем свете Булгаков прочитал вслух: «Мы разводимся! Мне всё надоело. Это не жизнь, а каторга. Прости, я не знала, что писатели такие занудные люди. Моё согласие на развод лежит в столе. Не ищи меня, я буду жить в Крыму! Твоя бывшая Ракалия».
Одинокая женщина едет в Крым на собственном авто. Что она здесь делает? Вишню собирает? – саркастически подумал Булгаков.
Юлий Геронимус поперхнулся:
– Вот идиотка!
Он вдруг понял, почему брак с Любовью Белозёрской не нанёс Булгакову никакого вреда, хотя ОГПУ, конечно же, знало о нём всё, но… Булгаков был настолько искренен в своих чувствах и в своих произведениях, что к нему не прилипала никакая грязь, и там, где оценивали эти его качества, тоже сидели умные люди и кое-что соображали в искусстве и понимали, что ещё выше, на самом верху, во главе с самим Сталиным, тоже не дремлют, отдавая дань таланту Булгакова, и это перевешивало все плюсы и минусы, большие и маленькие, которые исподтишка подкидывали им лунные человеки. Поэтому никакие доносы и пасквили, которые, конечно же, писали на Булгакова, не брались во внимание. Такова была версия Юлия Геронимуса, который понятия не имел ни о каких лунных человеках и об их возможностях, хотя его один раз всё же облили водичкой, но без подтверждения этого мистического случая с их стороны он постепенно обо всём забыл, посчитав, что ему всё приснилось долгой, московской, зимней ночью.
– Да… что-то в этом есть, – вяло согласился Булгаков.
Он вспомнил её милую привычку, то, как она курила через мундштук длинные, тонкие дамские сигареты американского табаку, задумчиво поглядывая сквозь клубы дыма, и его мучила одна и та же мысль: почему и зачем Ракалия поменяла искрометно-весёлой, погрязшей в танцах, наркотиках и разврате Европу на мрачную, голодную и аскетическую Россию, где пели гимны и ходили строем? Что в ней привлекательного? Разве что сам аскетизм? Неужели это и есть суть жизни… думал он, смея прийти к выводу, что именно эта сторона жизни страшно манила людей. Он понимал, что нужно побывать в разных шкурах, померяться силами с разными сущностями, чтобы правильно судить. Однако подобного опыта у него не было. Вот если бы я жил в Париже, думал он, но… в Париже я не жил.
– Ну что, помирились?.. – осторожно спросил Дукака Трубецкой, сверкая своими фарфоровыми зубами, как чайным сервизом.
– Да! – отреагировал Юлий Геронимус, по кличке Змей Горыныч, и внимательно посмотрел на Булгакова.
– Мир… – вынужден был произнести Булгаков.
И они пожали друг другу руки не без внутреннего сопротивления с обеих сторон, потому как враждовать больше не имело смысла. Смысл был утрачен вместе с исчезновением иконы по имени Ракалия.
Думай о людях лучше, чем они есть, и ты не ошибёшься, подумал Булгаков, и скрестил за спиной пальцы.
Не спи с женами будущих гениев, в свою очередь, думал Юлий Геронимус, последние штаны проиграешь.
– Об этой дуэли чтобы никто не знал! – обвёл он всех тяжёлым взглядом. – Нас засмеёт вся Москва!
– Это точно! – дружно согласились Илья Ильф и Жорж Петров с очень серьезными лицами, проникнувшись важностью момента и его последствиями для литературы.
– Чтобы рот на замок! – в приказном порядке уточнил Юлий Геронимус. – Иначе лишу наследства!
– Ладно… Что мы дураки, что ли?.. – снова дружно согласились Илья Ильф и Жорж Петров, понимая, что уж они-то будут биты самым действенным образом в первую очередь: их тут же перестанут издавать и хвалить, и пропадут они в забвение и безызвестности.
И Жорж Петров уже не казался Булгакову хитрым, как лиса, а честным и благородным идальго с тонко обустроенной душой.
– Я тоже, – дал слово Дукака Трубецкой, – нем как рыба! Зуб даю!
Юлий Геронимус с недоверием посмотрел на него и многозначительно молвил:
– Ладно…
Мол, посмотрим, а там видно будет.
У Дукаки Трубецкого был свой интерес, такой же как и у Юлия Геронимуса, интерес государственного чиновника, и ссориться с Юлием Геронимусом ему было не с руки, потому как Юлий Геронимус был генералиссимусом в издательском мире.
– Ну и славненько! – добродушно, как людоед, заключил Юлий Геронимус. – Поехали!
– Куда?! – вскричали все, в том числе и Булгаков, потому что всем нравилось сидеть вот так дружно и глядеть на просыпающийся мир.
– В настоящий ресторан! – загремел под фанфары лунных человеков Юлий Геронимус. – У нас сегодня знатный день! Мы избавились от парочки иллюзий!
И они допили водку, и поехали в город, чтобы засесть в «Замоскворецком» до глубокой ночи. И были счастливы, как никогда, как могут быть счастливы мужчины, избежавшие смерти, в тёплой, дружеской компании, когда им не мешают всякие роковые женщины.
***
Ракалия не ушла в тот вечер и на следующий тоже – ей не хватило силы духа. Они исподтишка выжидательно глядела на Булгакова и тяжко вздыхала, как лошадь, чтобы он обратил внимание на её страдания.
Лицо у неё было злым и несчастным. Однако Булгаков был непреклонен.
– Чего же ты от меня хочешь?! – спросил он наконец, отрываясь от рукописи.
С пера упала большая жирная капля и превратилась в огромную кляксу, съев по пути слово «Воланд».
– Денег! Денег для счастливой жизни! – безапелляционно заявила Ракалия, глядя на него с гневом, если он не понимает томления женской души.
Она нервно заходила по комнате своими большими ступнями, которые когда-то так нравились Булгакову, что он с вожделением на них самолично наступал, призывно заглядывал при этом ей в глаза.
– И всё?! – спросил он, ненавидя себя, свою бесхарактерность, свою слабость делать уступки красивым женщинам только ради их тела.
– И всё! – подтвердила она из дальнего угла, при это её левая нога была подвернута вовнутрь.
Булгакова едва не стошнило. С некоторых пор он стал презирать её за полное отсутствие грации. Когда-то это было мило и естественно, а теперь – сто двадцать пятая скидка, мысленно хватался он за голову, сто двадцать пятая, Карл, сколько можно! Главное, что она этого абсолютно не замечала и тем более не чувствовала. У Таси были такие милые, грациозные японские ступни, которые украшал ярко-красный маникюр. Вечерами, она сидела на постели, подоткнув под себя полы халата от моих нескромных взглядом, вспомнил он, и красила ногти.
Он не мог себе позволить горькие воспоминания, иначе тоска хватала пуще капкана, и побежал в буфетную, где стояла бутылка «столичной».
Не думать, не вспоминай, не мечтай! – твердил он сам себе, зная, что из-за половой распущенности совершил роковую ошибку. Уже тогда, в первый раз в постели с Ракалией, я думал об этом, но, как баран, пошёл на заклание. А надо было всего лишь сказать, что ошибся адресом, так бывает, подумаешь, обмишурился, и вернуться к Тасе, к моей саратовская Горгии! Хоть с покаянной головой, но вернуться! Однако тебе было стыдно выглядеть идиотом в глазах Ракалии и посмешищем в глазах жены. Теперь расхлёбывай!
– Налей и мне! – крикнула Ракалия и развинченной походкой пошла следом, с вызовом, как показалось ему, нарочно шлёпая босыми ногами. Его передёрнуло. Он налил себе стакан, ей – стопку и полез в стол за банкой огурцами, а когда выпрямился, стакан был пуст.
– Ты что?.. – удивился он со значением, глядя на её бледное, худое лицо с голодными скулами столичной штучки, которая голодает специально, чтобы нравиться мужчинам.
– Давай! Давай! – шарила она, потому что у неё перехватило дыхание.
Её хитрость была шиты белыми нитками: он снова должен был её пожалеть и забыть о Юлии Геронимусе.
Он сунул ей огурец и довольствовался стопкой. Она захрустела с упрёком:
– Как ты её пьёшь?!
– Обычно, – с безразличием к её чувствам пожал он плечами.
Всё, это был конец: тон разговора, безразличие, как у чужих людей. Нет, как в пьесе с чрезвычайно плохим концом, подумал он, как писатель, где всё рушится под гильотиной индифферентизма. Однако, если бы Ракалия хотя бы только подозревала о существовании некой Веститы, успешно охмуренной Булгаковым ещё месяца два назад, она бы ни минуты не задумываясь, с гордо поднятой головой ушла бы от него тотчас. Впрочем, роман этот трудно было назвать романом, он было скоротечен, глуп и не имел ни малейшего шанса на развитие, ибо это была здоровая реакция Булгакова на непрекращающуюся череду скандалов Ракалии, в которых не было секса.
– Я тебе этого никогда не прощу, – заявила она, хмелея на глазах.
Стакан водки сделал своё дело. В тот вечер они так и не развелись, а легли спать разных в комнатах. А на утро, пока он ещё видел третий сон, она отомстила ему окончательно и бесповоротно: выгребла у него все деньги и умчалась в Крым на своей великолепной жёлтой машине марки «торпедо», не оставив после себя даже прощальной записки. С кем, зачем и почему? – он так и не понял. И долго рыдал в постели над собой пропащим, пока в углу многозначительно не шевельнулись и с потолка не посыпалась извёстка, мол, хватит нянчиться со своими чувствами, иди пиши роман, придурок! Чувство самосохранения наконец взяло над ним верх. Булгаков умылся холодной водой и сел работать.
За то, что он долго и плодотворно творил, лунные человеки наградили его на этот раз энергией через правую лопатку, и он почувствовал себя всемогущим писателем с очень большой буквы.
Оказалось, что Ракалия – это женщина, которая оставляла себе множество путей отступления. Гораздо позднее он понял, что её ему нарочно подсунули лунные человеки для того, чтобы он потерял романтичность и стал наконец взрослым мужчиной, доверяющим только себе, ибо романтическое ощущение мира мешало ухватить суть явлений любых порядков и быть точным в суждениях и не только в области литературы.
Красота – это ловушка для мужчин, понял он наконец.
***
Как известно, беда не приходит одна: в передовице «Правды» вдруг появилась статься незабвенного Эдуарда Водохлёбова, старшего критика из высоко-начальственного журнала Дукаки Трубецкого. Мол, «прославление белого движения в наше бурное время крайне недопустимо. Столько крови пролито в борьбе за народное счастье, а здесь целый белогвардейский роман и пьеса, которая не сходит со сцены четвёртый год!» И всё в том же духе трехаршинными буквами. А фамилия автора в самом негативном тоне повторялась, аж, тридцать три раза! Булгаков нарочно посчитал. В тот же день ему позвонили и пригласили в дом профсоюзов на диспут: «Белое движение в искусстве и его лидер Булгаков!»
Быстро они, сообразил он. И сходил, чтобы осадить некого Орлова, председательствующего в трибунале. Осадил, поплясал на его костях и гордо ушёл. К счастью, его не арестовали и даже не плевались вслед. Всё закончилось пламенной резолюцией: «Смерть врагам нации!» Однако с тех пор кто-то нарочно подбрасывал ему в почтовый ящик газеты с разночинскими статьями Маяковского относительно его романов и пьес, особенно досталось почему-то «Мольеру», а «Зойкину же квартиру» он заклеймил почему-то как осиное гнездо разврата.
Это было началом конца! Он предвидел его. Недаром лунные человеки предрекли ему славу всего лишь на три года. Однако пока Мейерхольд не звонил и даже не заикался о добровольном отказе от постановки, хотя бойкоты театров вот-вот должны были посыпаться, как из рога изобилия.
Булгаков понял, что за Эдуардом Водохлёбовым стоит Дукака Трубецкой. Но почему? Он стал думать, и ниточка привела его к… Юлию Геронимусу. Он один знал тонкости движения душ в пьесе «Дни Турбинных». А ему-то зачем? – изумился он, не веря самому себе. И сам же ответил: «Зависть – самое отвратительное качество писателя! С Ракалией у него не получилось, решил действовать исподтишка».
Булгаков кинулся искать Дукаку Трубецкого, этого дурно пахнущего, чаморошного человечка с замашками маленького диктатора, и заурядно пузатого Эдуарда Водохлёбова, чтобы набить им морды, но они как в воду канули. И Юлий Геронимус клялся и божился с честным лицом лицемера, что «не видел обоих уже целую вечность». И Жорж Петров, и Илья Ильф с лицами, аки у ангелов, только мотали головами: «Не лицезрели, не слышали, не знаем…» А Юлий Геронимус болезненно улыбался всякий раз, когда Булгаков пытал его водкой и холодными котлетами с чесноком из профсоюзной столовой.
Он хотел всех страшно удивить тем, что сам Сталин благословил его с романов «Белая гвардия», но вовремя опомнился, вспомнив строгое предостережение Лария Похабова не болтать лишнего. Последствием этой фразы могла быть дыба и пуля в затылок.
Да здесь заговор, сообразил он, плюнул, вернулся домой в холодную, нетопленную квартиру и сел писать роман о Мастере и какой-то Маргарите. Переписывал главы по тридцать три раза в день, и постепенно это вошло у него в привычку. Иногда он разрезал страничку и вклеивал вновь придуманный текст. Но это не приносило удовлетворения, ибо было работой опричь души.
Его мучил вопрос, правильно ли он пишет, используя велеречивость, как основной инструмент для создания ауры. И нужна ли эта самая аура? Он долго не мог понять, что делает, и всё потому что, думал: меня подгоняют, а я не люблю из-под палки. И в конце концов впадал в ступор, после очередного удара в потолок, чтобы подойти к буфету и выпить водки. Она единственная помогала ему в таких случаях.
На самом деле, ему не хватало чувственности, то, что дарят лунные человеки самым талантливым подопечным. Значит, я в их число не вхожу, делал горестные выводы Булгаков, и преднамеренно цедил водку мелкими глотками, как пиво, и впадал в состояние пароксизма и уныния.
Если бы он только твёрдо знал, что его судьба решается не за письменным столом, а в совершенно в другой сфере, знакомой ему по лунным человекам, он бы копытами не бил, вставки не клеил, а побежал бы к своей старой знакомой, которую он называл Гэже и которая ему дюже нравилась своей перманентностью, и тут же предложил бы руку и сердце. Но он не подозревал, что Гэже уже перешла в разряд потенциальных жён; и как водится в таких случаях, события развивались, казалось бы, по случайному сценарию, зависимость которых скрыта от человеческого взора, но проявляется в чувствах и движениях души.
Ночью во дворе дома из принципа к своим ошибкам он сжёг очередную порцию черновиков, за которые ему было особенно стыдно, и безмерно страдал из-за того, что опять не может взять правильную ноту, и бился головой в стену, и пил водку, которая не помогала, а обрекала на творческие муки ещё пуще, ещё сильнее, и уполз в квартиру, чтобы зализать душевные раны на промятом диване.
***
Среди знакомых мужа выделялся поджарый, как русский гончак, красавец, черноволосый и чернобровый полковник Герман Курбатов, он же инженер путей сообщения. Всю жизнь он занимался железнодорожными вопросами; в революции, а тем паче в боях, не участвовал, был поклонником Густава Лебона, забытого всеми французского психолога, его идей эры масс, и должно быть, по этой причине уцелел в мясорубке гражданской войны и становления новой власти.
Однажды на вечеринке по случаю годовщины «Первого мая» он незаметно для гостей подошёл к Елене Сергеевне и крайне сдержанно, даже глядя в сторону, чтобы она, не дай бог, не подумала чего-либо лишнего, сказал:
– Мне нужно с вами тайно переговорить с полчаса…
Елена Сергеевна очень удивилась его вниманию, тем более, что полковник никогда не позволял себе обхождение к ней за рамками этикета.
– Когда и где? – спросила она, вскинув свои глубокие, как омут, карие глаза, полные тайны, опасений и страсти.
Но казалось, это не произвело на полковника ровно никакого впечатления, он остался так же ровен и почтителен, как и за мгновение до этого, а ведь обычно от её взгляда мужчины терялись и начинали заикаться и нести околесицу, вообразив себе чёрт знает что.
– А где вы обычно гуляете, чтобы на нас не обратили внимания?
И Елена Сергеевна поняла, что это не тот случай и вообще никакой случай, и удивилась: полковник Герман Курбатов производил впечатление бесполого существа.
– А давайте, в зоопарке, – предложила она с издёвкой, – я там уток кормлю.
Забавно будет, подумала она, когда об этом узнает Рюрик и что он после этого сделает с ним, но ничего по этому поводу не сказала, полагая, что завтра всё выяснится и станет понятно, что делать с полковником.
– Прекрасный выбор, – несколько странно оценил ситуацию Герман Курбатов. Он вообще выражался старомодным, изысканным стилем. – Завтра в пять?
– Да, – согласилась она. – В семнадцать на алее уток.
Странно, но она совсем не удивилась, что полковник прекрасно осведомлён о её привычках, а приняла этот факт как само собой разумеющееся для такого статного красавца, который, похоже, решил за ней приударить.
– У меня только маленькая просьба… – сказал он, – о нашей встрече никто не должен знать. Вы потом поймёте почему…
– Ну конечно, – ответила она беспечным тоном красивой женщины, откладывая расправу на потом.
Однако заинтригованная такими странностями, не спала всю ночь, была крайне взволнованна и едва дождалась второй половины дня. Взяла мешочек овсянки, села на третью бис марку трамвая и поехала в зоопарк.
Полковника она увидела сразу. Он сидел на скамейке в гражданском и смотрел на пруд. Чёрные, смоляные волосы у него были зачесаны назад, серые глаза глядели пристально и непонятно, и если бы не глубокие складки по обе стороны рта, то ему можно было дать не больше сорока лет.
У неё была привычка обманывать настырных мужчин: обычно она не приходила на свидание, а потом уже, если надо было, конечно, доносила мужу, у которого было масса возможностей улещить невежду. Но здесь оказывается совсем не тот случай.
– Вам предстоит выйти замуж ещё раз, – без обиняков заявил Герман Курбатов, после того, как он поднялся, поцеловал ей руку, и они сели на скамейку.
Елена Сергеевна демонстрировала независимость и лёгкую самонадеянность, которую долго тренировала перед зеркалом.
– За кого?.. – отшатнулась она, вскинув тонкие, как у Марлен Дитрих, брови, – неужели за вас?.. – В её голосе проскользнуло презрение.
Она не любила очень высоких мужчин, от них у неё кружилась голова.
– За писателя Булгакова, – огорошил её Герман Курбатов.
Тон его был безапелляционным, как приказ трибуна, взгляд затяжной, как у Мунка.
– Это невозможно! – всплеснула она руками. – Он женат на моей лучшей подруге!
– Ну и что? – нагло спросил Герман Курбатов, поглядывая на неё сверху вниз.
– Мы бываем друг у друга дома! – Елена Сергеевна привела ещё один довод. – Это моветон!
Она всё ещё ничего не понимала, что находится в русле своих эмоций и не может совладать с ними.
– Они разведутся! – остудил он её пыл.
– И что… я должна подобрать его просто так, из любви к искусству?!
Она не улавливала сути проблемы, однако полковник забавлял её всё больше и больше. Что за бескорыстие? – удивилась она и решила тут же уйти, даже вызывающе щёлкнула ридикюлем.
Но полковник Герман Курбатов не дал ей этого сделать.
– Но вы же хотите начать новую жизнь? – упрекнул он её в непоследовательности.
У неё окаменело сердце: Герман Курбатов озвучил то, отчего она страдала в браке. Елена Сергеевна нахмурилась: что полковник себе позволяет! И пожалела, что согласилась на свидание.
Однако Герман Курбатов остался таким же невозмутимым, как и прежде. Видно было, что он не желал этой фразы, невольно напомнив ей её же страшные метания души: последние годы она жила чужой жизнью с человеком, которого разлюбила, и непонятные томления мучительно наполняли душу, словно в жизни надо было сделать опрометчивый поступок, но какой, она не осознавала и не хотела признаться себе, что их отношения с Сабаневским напрочь изжили себе.
– Откуда?.. Откуда вы знаете?! Вы следите за мной?! – встрепенулась она.
Полковник Герман Курбатов добродушно рассмеялся:
– Нет, конечно, никто за вами не следит, – почти обманул он её. – Но… представьте себе на мгновение, – он сделал многозначительную паузу, – что есть силы… которые всё и вся знают!
Наступила странная пауза, в течение которой полковник Герман Курбатов многозначительно смотрел на Елену Сергеевну своими волчьими глазами, а она в отчаянии соображала, как поступить, но ничего толкового сообразить не могла, в голове вертелась фраза о боге, но это была явная глупость. Единственно, она почувствовала, что перед ней стоит огромная тайна, к которой мало кто соприкасался.
– А вы не боитесь… – спросила Елена Сергеевна, – выдавать мне свою тайну?
Она начала кое о чём догадываться, и душа у неё покрылась инеем.
– Нет, разумеется, – раздвинул чёрные усы Герман Курбатов, между которыми блеснули молодые зубы. – Мы всё просчитали. Мы сделаем так, что он страстно полюбит вас, а вы полюбите его. Это будет самый гармоничный брак в мире. Вы ни разу не поссоритесь и будете чрезвычайно довольны друг другом, а ваша душа наконец-то успокоился и приобретет гармонию.
– И я не буду испытывать тоску?! – непроизвольно вырвалось у неё, хотя она всё ещё сопротивлялась доверительности полковника.
Лицо её с маленьким округлым подбородком при этом помолодело и сделалось совершенно девичьим. Глаза с материнскими веками опростились, и она нервно щёлкала ридикюлем.
– Ну разве чуть-чуть, – добродушно отозвался полковник Герман Курбатов, смягчив взгляд и давая понять, что это уже детали, которые не имеют никакого значения.
– Кто вы? – спросила она в лоб.
– Я тот, кто появляется один раз в жизни и делает предложения, от которых обычно не отказываются. Я вижу, вы мне не верите. Смотрите!
В руке у него появился шарик для пинг-понга. Он сам собой упал на землю, покатился наискосок по песчаной дорожки, запутался в траве, словно в паутине, а потом, как верная собака, совершил тот же путь назад, прыгнул в руку Германа Курбатова и пропал, то есть просто растаял на ладони.
Елена Сергеевна, которая была знакома с работами Успенского, Гуджиева и Блаватской, ничуть не удивилась, словно была готова к таким невинным чудесам. Однако одно дело читать, а другое лицезреть собственными глазами.
Полковник Герман Курбатов хитро улыбнулся, давая понять, что вера в чудеса должна подкрепляться гораздо чаще, а главное, должна быть вписана в картину мира, с одного раза, увы, ничего не получится.
– Мне надо подумать! – почти согласилась Елена Сергеевна, блеснув от испуга карими, лучистыми глазами.
– Другого я от вас и не ожидал, – похвалил её полковник Герман Курбатов.
А вечером, во время ужина, в очередной раз увидев, как у мужа, генерала Рабоче-крестьянской Красной Армии, Рюрика Максимовича Сабаневского, плотоядно шевелятся уши, её едва не стошнило прямо за столом. Мужа она давно не любила и мучилась своими обязательствами примерной супруги.
Он же в свою очередь посмотрел на неё так, напомнив ещё раз, что она всего-навсего обычная содержанка, которую он привёз из Тмутаракани. Это его снисходительное проявление житейской мудрости, которая промелькнула у него в глазах, была ей хорошо знакома: «Куда ты денешься без этой шикарной квартиры, прислуги и трехразового питания?» – читалось в них.
Она схватила шубку, ридикюль, сунула ноги в какие-то заношенные сапожки и выскочила в зимнюю слякоть. «Я согласна! Ну где же вы?!» – крикнула она в отчаянии холодному февральскому небу.
Вдруг от чёрных, мрачных вязов, в сквере, со стороны Поварской улицы отделилась фигура, и Елена Сергеевна к своему ужасу узнала полковника Германа Курбатова. На этот раз он было в шинели и папахе.
– Булгаков просил сделать его большим писателем, – деловито сообщил он голосом наставника, мгновенно сняв все её тревоги. – Мы это сделали. Но… дальше этого он не пошёл. Он немного запутался и не может написать роман века, который нам край нужен…
Елена Сергеевна увидела, как он болезненно поморщился. Видно было, что это его личная трагедия: неудачный выбор фигуранта со всеми вытекающими последствиями, которые он не может или не хочет объяснить.
Елена Сергеевна хотела спросить: кому «нам» и зачем? Но не спросила, сил не было, а главное, она сама всё уже понимала, будто ей моментально открылись все истины мира, и спрашивать было глупее глупого.
– Скажите, а можно ли как-нибудь избавить меня от этого? – испугалась она страшных и тёмных пророчеств полковника. – Сделайте так, чтобы он создал этот роман самостоятельно, – намекнула она на его всесилие. – Тогда я не потребуюсь вовсе! – с тревогой в голосе воскликнула она.
– Видите ли… – крайне вежливо ответил Герман Курбатов, всё ещё явно нервничая, – у Бога добавки не просят, – намекнул он на более могущественные силы, прячущиеся где-то там, в темноте, далеко за горизонтом и дальше, быть может, даже на Марсе или Юпитере?
– Ах, да!.. – споткнулась от изумления Елена Сергеевна, и Герман Курбатов аккуратно придержал её за локоть. – Я что-то такое слышала… – сверкнула она своими прекрасными глазами, ставшими особенно глубокими в сумерках уходящего дня.
– Увы, мы вынуждены искать другие пути реализации проекта, – голосом формалиста объяснил Герман Курбатов.
– И этот другой пусть – я?! – догадалась она с вызовом, потому получается, что её принуждали обстоятельствами.
– Булгакову нужна новая любовь и новое вдохновение, – согласно и абсолютно добродушно кивнул Герман Курбатов.
– А если не получится?.. – засомневалась она, как перед шагов в новый мир.
– Получится, – крайне убедительно сказал Герман Курбатов сухим голосом педанта.
– А я справлюсь?.. – Почти сдалась она со сладким ощущением нового мира.
– Справитесь, – улыбнулся её наивности Герман Курбатов. – Вы сильная и терпеливая.
– Я боюсь его… у него белый взгляд волка… – призналась Елена Сергеевна, как подросток.
Она едва не призналась, что такой же взгляд волка, и у него, у полковника Германа Курбатова. У неё даже мелькнула шальная мысль, что они, вероятнее всего, ближайшие родственники, которые не могут договориться, а меня привлекают, чтобы я помогла, ошарашено подумала она.
– Это поправимо, – молвил Герман Курбатов всё так же ровно, не выказывая ни насмешки, ни удивления.
– И всё же… – Она всецело подчинилась ему, как никому в мире.
– У вашего будущего мужа будет большая посмертная слава. – сказал Герман Курбатов грустно, выделяя каждое слово. – Часть её падёт на вас. Готовы ли вы участвовать в этой роли?
Елена Сергеевна побледнела, как может побледнеть человек, которому открыли дату смерти.
– Я не ожидала такого… – прошептала она и поняла, куда ненароком ступила.
– Увы… – Как показалось ей, горестно кивнул Герман Курбатов. – Увы… роман, который он не может написать, заканчивать придётся именно вам!
– Мне?.. – отшатнулась она с удивлением.
И вдруг поняла, что полковник Герман Курбатов не мог себе позволить, чтобы им воспользовались утилитарно, то есть сесть ему на шею и свесить ножки. Отныне на помощь отсюда она не могла рассчитывать ни при каких обстоятельствах, а всегда и везде должна быть самостоятельна.
– Да! – кивнул Герман Курбатов. – На всё про всё вам выделяется четверть века! Думаю, что это достаточный срок. Естественно, Булгаков об этом не должен знать ни в коем случае! Эта тайна, которую я доверил вам, должна укрепить вашу волю.
– Как тот шарик в зоопарке? – покачала она удручённо головой и почему-то подумала о Блаватской, о чудесах, в которые никто не верит, и по сути, она тоже не верила до конца, полагая, что это ловкие цирковые фокусы для привлечения публики.
– Да-да… – быстро согласился Герман Курбатов, как о незначительных деталях, отрезая ей тем самым пути к отступлению, – как шарик в зоопарке… Послушайте… – он почти схватил её за руку, но передумал. – Я не хочу подвергать вас шоковой терапии. Я могу вас удивить куда более впечатлительными фокусами, но я знаю, что вы и так прониклись… в общем, в это трудно поверить, человек даже после самой жёсткой демонстрации постепенно забывается и возвращается в своё прежнее состояние неверия, но… – он замолчал, с надеждой глядя ей в глаза, осознала она или нет? – Но вы другая, вы будете верить до конца дней своих!
– Я знаю… – сказала в тон ему Елена Сергеевна и тоже замолчала.
Она уже верила целые сутки. Это было странное предчувствие нового мира, которого она не знала и который ей предстояло постигнуть. И как по мановению волшебной палочки перед её внутренним взором промелькнула вся её будущая жизнь. В ней было мало радости, один долг, как у вечного солдата.
Она всегда испытывала страшную скуку, ещё до Сабаневского и до первого замужества тоже; это было её натурой: ожидание запредельного. Оказалось, что запредельное не такое уж безоблачное. Ей представлялось, что всё происходящее в её жизни – сон, а настоящее только впереди, и долгие годы жила с этим чувством. Теперь это чувство реализовалось, и ей было страшно, как перед бездной. Это как умереть при жизни, подумала она.
Одно время ей грезилось, что переезд в Москву решил проблему патологической скуки. И действительно, на благоустройство огромной квартиры, на роды сыновей, Жени и Саши и их воспитание её ещё хватило, но когда она исчерпала все развлечения, доступные домохозяйке, скука вернулась ещё в большем великолепии. Теперь же оказалось – вот оно, чудо, которое редко с кем происходит, чудо, в которое никто никогда не верит, чудо, которого никто не понимает и не может понять без такого человека, как полковник Герман Курбатов.
Елена Сергеевна с благодарностью взглянула на него. Один раз она уже поменяла свою судьбу, уйдя от капитана Юрия Неёлова к полковнику Сабаневскому. Но и Сабаневского она уже переросла, и ей казалось, что он остался где-то там, позади, в своём штабе, где сидел в большом, мрачном кабинете, отделанным морёным дубом, чинно ходил по длинным гулким коридорам в генеральском мундире, и ему чинно отдавали честь.
– Я согласная… – выдавила она из себя, хотя поняла, какую непосильную ношу взвалила на свои хрупкие плечи.
– С одним условием, – уточнил Герман Курбатов, – вся литературная слава, без исключения, принадлежит Булгакову. Вам – всё, что останется.
– Да… – нервно кивнула Гэже, на мгновение закрыв глаза, чтобы собраться всю волю я кулак. – Я понимаю…
– Поэтому в ваших дневниках всё должно соответствовать… – Он помолчал. – Обо мне и обо всех странностях вашей жизни упоминать категорически запрещено, иначе вас не поймут, не примут и дело будет испорчено… к тому же это будет небезопасно…
– Да… – кивнула Елена Сергеевна и подумала, что в метафизическом плане государство сделало ей огромный подарок, официально зачеркнув всё, что не существовало в реалии, но это же и крайне возбудило её пытливость. – Всё лишнее, всё пустое я сожгу… Я согласна… – повторила она.
Она ещё хотела уточнить: почему «не примут» и почему «небезопасно», но вдруг поняла, что время испытаний не настало и что наступит оно очень нескоро, после… после… смерти Булгакова… И будет это время совсем не такое, как настоящее.
Это было прозрение, явно одобренное Германом Курбатовым. Елена Сергеевна с чрезвычайно огромным любопытством посмотрела на него. Но лицо его было непроницаемым, как занавес в театре, и Елена Сергеевна ничего не сообразила, осталось лишь ощущения предтечи. Если бы она знала, что Булгаков называет это состояние «тихими мыслями», она ещё больше удивилась. Впрочем, Булгаков однажды поделится с ней этими идеями, и это ещё больше укрепит их союз, словно он был скреплён не здесь, не на земле, а где-то выше, в иных мирах, и виной всему было полковник Герман Курбатов, который, как снег, нежданно-негаданно, свалился ей на голову.
– С этого момента вы не будете бедствовать, – сказал он на прощание. – Там… – он кивнул на её чёрный ридикюль, которым она нервно до неприличия щёлкала в течение их встреч, – всегда будет находиться сумма, соответствующая вашим пожеланиям. Но только для вас. Никто из посторонних в сумочке никогда, ничего не найдёт без вашего соизволения.
– Зачем?.. – с обидой удивилась она. – Я и так проживу…
Впервые Герман Курбатов поморщился, давая понять, что всё эти подвиги ровным счётом никому не нужны.
– Ну… так скажем, это условие договора, – сказал он, – чтобы вы не бедствовали и не волновались о хлебе насущном.
И Елена Сергеевна поняла, что мир, о котором говорит полковник, всё-таки существует, тайный, не вписывающийся ни в какую логику, и отныне это и есть смысл её жизни. И ей стало жутко, словно она стояла на его пороге, но права шагнуть у неё не было, словно жизнь её должна быть обычной, земной, с возможностью заглядывать за приоткрытый занавес, однако посвященной одной, высокой цели – странному роману, который ещё не написал Булгаков, а она должна была закончить его на свой страх и риск.
Единственно, Герман Курбатов не сообщил ей о существовании лунных человеков, приставленных в Булгакову, которые как раз и отвечали за литературную часть вопроса. Но это уже не имело большего значения, а было всего лишь частью плана.
На утро она проснулась с горечью на душе и одновременно с ощущением огромного счастья.
***
– Всё пропал! – истерически всплеснул руками Рудольф Нахалов. – Всё пропало! Он ударился в новую пьесу!
– Какую?.. – флегматично крякнул Ларий Похабов, обмакивая перо в чернильницу и ставя размашистую подпись на полстраницы.
Был конец месяца, они заработались в поте лица. Ларий Похабов был мрачен, как Мефистофель, прежде чем обратиться в пуделя.
– Зачем?.. – поморщился Рудольф Нахалов, делая на документе оттиск гербовой печати.
Он вспомнил, что «Мольер» – это намёк на горестное положение творца в минуту тирании. Булгаков явно играл с огнём.
– Решил свести счёты! – раскрыл ему глаза Рудольф Нахалов. – Ищет себе врагов!
– Если ты думаешь, что я по твоему наущению отверну ему голову, то ты крупно ошибся! – веско сказал Ларий Похабов, давая понять, кто есть кто в табеле о рангах в Управлении «Россия», департамента «Л», русского бюро.
– Да нет-с… – скукожился Рудольф Нахалов, показывая, что он верный пёс и наверх ничего не доносит, а если и что-то подобное делает, то не по совести, а по велению начальства, да и то так редко, что и о стыде-совести напрочь забывал из чувства служебного долга.
Ларий Похабов снисходительно кашлянул:
– Помочь мы ему ничем не можем. В рабочих инструкциях такая ситуация не прописана. Так что с нас взятки гладки. Разве что перевернуть мир вверх тормашками. Но… ради Булгакова этого никто делать не будет.
– А я о чём! – поддакнул Рудольф Нахалов, осторожно переводя дыхание.
Ларий Похабов важно подумал и сказал:
– Надо посоветоваться с Гоголем…
– Он уже один раз нас послал по дедушке! – напомнил Рудольф Нахалов с облегчением оттого, что есть на кого переложить ответственность.
– Вот в этом-то всё и дело, – горестно вздохнул Ларий Похабов и потянулся за следующим документом. – Хорошо, я сам с ним поговорю.
Их не оставляла надежда, что Булгаков рано или поздно образумится, возьмётся за ум, что было вполне реально, особенно после вмешательства в дело главного инспектора Германа Курбатова. Бросать проект в таком состоянии, когда фигурант вот-вот должен был разродиться, было глупее глупого. На рассвете они тайком читали то, что накарябывал за ночь Булгаков, хихикали сами над собой и пару раз тайком носили тексты Гоголю. Последний раз они им высокомерно отказал под предлогом того, что «сей статист имеет прогресс, но крайне медленный, и не учится на ошибках драматургии». Это-то их и воодушевило. Было за что зацепиться, за слова гения: «прогресс», а «драматургию» они опустили за ненадобностью.
Они не знали одного: главный инспектор по делам фигурантом Герман Курбатов имел больше информации о писателе Булгакове, в частности, ему было известно, что Булгаков в кармическом плане не способен дописывать романы от природы вещей, заложенных в него, что он быстро теряет вкус к большому произведению и не генерирует ощущения, а без ощущений, как известно, писателя нет. Нет чувств – нет текста! И никакой опыт не спасёт!
***
Булгаков вошёл в комнату и вздрогнул: посреди на стуле сидел человек в кожаном пальто с поднятым воротником. И хотя Булгаков сразу признал в нём старшего куратора первой категории Лария Похабова со стеклянным глазом, он развернулся и побежал на кухню за топором. Однако, странное дело, всякий раз когда он должен был свернуть на кухню, он неизменно попадал назад в комнату.
– Ну что… долго будешь бегать?.. – спросил Ларий Похабов, когда Булгаков в очередной раз вырос на пороге.
Его правый стеклянный глаз с растёкшимся брачком нехорошо блеснул в свете коридорной лампочки.
– Сколько надо, столько и буду! – буркнул Булгаков и схватился за табуретку.
– Однако слабоват ты будешь против меня, – лишь усмехнулся Ларий Похабов, который, кроме всего прочего, имел силу над вещами, и табуретка рассыпалась в руках Булгакова.
Булгаков отбросил ножку табуретки, которая осталась у него в руках, и отскочив к стене, встал в боксёрскую стойку, собираясь дорого продать свою никчёмную жизнь щелкопёра.
– Хочешь… – предложил Ларий Похабов тоном ленивого патриция, – я Гоголя позову?..
– Зачем?.. – тупо спросил Булгаков, приходя в себя и опуская руки.
– Он наставит тебя на путь истинный! – осудил его Ларий Похабов, отбрасывая прочь скандальную выходку Булгакова, как явную глупость.
– К чёрту путь истинный! – упёрто ответил Булгаков, тряхнув головой, как бычок перед дракой.
Хотя, конечно же, он любил Гоголя, как любят первой юношеской любовью. Но Гоголь ничем помочь не может, когда ты уже на гильотине, подумал Булгаков, ощущая всю тяжесть происходящего.
– Ладно… – в раздражении поднялся Ларий Похабов. – Рукопись я забираю! Черновики больше не жги, самому же пригодятся!
Была в его фигуре какая-то обречённая усталость, как у солдата на передовой, словно что-то произошло в его мире – глобальное, тёмное, мрачное, но он не хотел проговориться.
– А что со мной?.. – опешил Булгаков, посмотрев на рукопись.
– Долг тебе никто не простил, – поморщился Ларий Похабов, как от кислого. – Пиши роман о дьяволе и не вздумай начинать новый, который потрафит твоей душе, но не дастся тебе до конца. Только время потеряешь.
Фигуранту нельзя было открывать будущее. Это была аксиома кураторов, но по-другому воздействовать Ларий Похабов уже не мог: Булгаков проявлял упрямство и ни во что не хотел верить из-за дрянного характера.
– Почему?.. – возмутился Булгаков со всей гордостью, на которую был способен. – Что, поклясться на крови? – сморщил он в презрении правую щёку.
За окном весело зеленели деревья, да порой тарахтели машины. И никому не было дела, что здесь, на Большой Пироговской, 35, творились мрачные, страшные и неземные дела.
– Не надо! – остановил его Ларий Похабов, не имея права рассказывать ему о Елене Сергеевне, о вдохновении, которое придёт вместе с ней, о новой, короткой вспышке славы, и забвении на четверть века. – Перегоришь, как лампочка, – хмыкнул он, давая понять, что знает все творческие слабости Булгакова.
В этом был какой-то смысл, которого Булгаков не понял.
– Я не буду для вас ничего писать! – отклеился он от стены, не веря ни единому слову Лария Похабова, хотя для этого у него не было никакого резона, всё, что говорил Ларий Похабов, пока исполнялось с математической точностью на сто процентов.
Ларий Похабов странно посмотрел на него, как будто сонно, как будто издалека, с другой стороны реки, как будто хотел что-то сказать, но не сказал.
– И что вы со мной сделаете?! – насмешливо не уступил ему Булгаков.
– Увидишь… – пообещал Ларий Похабов. – Я даже не пугаю…
Он вдруг обмяк, словно безмерно устал.
– А я ни не боясь! – в запале нарывался Булгаков, но мгновенно вслед за Ларием Похабовым сдулся, как шарик, который проткнули иглой.
– Ну бывай, – почти дружески махнул Ларий Похабов и исчез, вовсе не оставив запаха окалины, что страшно удивило Булгакова.
Ещё больше он был раздосадован тем, что на этот раз обошлось без обычного, особо нудного и скрипучего увещевания, однако отсутствие оного было чертовски плохим знаком; и он не знал, что и думать: то ли это конец жизни, то ли лунные человеки на него плюнули, растёрли и забыли. Зачем тогда, скажите, им рукопись?
Он получил её через пару дней, изрядно почёрканную и сокращённую на две трети. Неделя у него ушла, чтобы усмирить гордыню и разобраться в претензиях Гоголя. В девяноста девяти случаев он вынужден был с ними согласиться. В конце рукописи было приписано: «По прочтении всенепременно сжечь! Н. Гоголь, 4 марта, 1852 года». Одна эта подпись стоила того, чтобы вся литературная и театральная Москва пала ниц. Кто может похвастаться, что с тобой работает сам великий Гоголь?! Всё зависит от точки отсчёта. Если точка отсчёта – всё человечества, это ещё не значит, что я шизофреник, тупо думал Булгаков.
Ещё три дня рукопись лежала у него в столе, и Булгаков смотрел на неё, как почку дьявола: то с благоговением, то с ненавистью, понимая, что не может нарушить волю гения, а потом все же швырнул в печь подальше от греха, здраво полагая, что Николай Василевич Гоголь, как и лунные человеки, следит за ним из каждого тёмного угла, и бог его знает, что он может сотворить в порыве гнева.
Всё это время он работал окрыленный и день, и ночь, вдруг поняв, что получил в подарок ощущение на уровне каждого слова и даже каждой точки в отдельности. Это было более чем странно, словно он чувствовал присутствие ещё одного человека, его внутреннюю, очень благодатную в литературном смысле цензуру. И схлестнулся с ним из принципа: не вылезай, бо убью, но под напором здравых аргументов гения потерпел поражение и научился ещё одному качеству: быть логичным по всему тексту, а не предаваться мелкому романтизму, который ничего не стоит по сравнению с жёстким прагматизмом стиля. Получается, сюжет был нарасхват, только успевай записывать ощущения.
С этого момента он стал писать гораздо лучше: жёстче, ёмче и качественнее, хотя ещё и без того совершенства, к которому стремился. И тоска хватала его душу, и терзала, как волк овцу. Конечно же, это были не лунные человеки, потому что они не были литераторами. Наверное, это последний довод королей, решил Булгаков, и думал, что Гоголь зря тратит на него время, но «Кабалу святош» не бросил из принципа, хотя, действительно, ненависть к недругам, которая клокотала в нём, потихонечку начала остывать, и текст выходил вялым и посредственным; а главное, что я не вижу в нем смысла, обречённо думал Булгаков, раз на меня не хотят делать ставку.
И если бы он был более дальнозорким, то понял бы, что это его качество, становиться равнодушным к тексту, и есть его порок, который преодолеть крайне сложно прежде всего из-за собственного характера, а всё потому что он видел конец произведения и ему становилось скучно, он терял вкус к работе и становился к ней безразличным, как подросток к соске.
Он понимал, что ему не хватает таланта к раскрытию большое полотно романа, что не умеет обобщать, что по природе склонен к камерности и может развернуться на пяточке размером с дискуссию двух людей, хотя оттуда его изгоняли всеми доступными способами! Но кто? Он долго думал и пришёл к выводу: что сам великий Гоголь или не менее великий Воланд. Кто из двух ломал его стиль и манеру, он не знал точно. Но подозревал, что от него требуют нечто такого, чего, он не понимал до конца, но уж точно не феерии.
Как он ошибался!
***
Гэже, то бишь Елену Сергеевну Сабаневскую, он не видел ровно сто лет и три года. Под напором бешеной и ревнивой Ракалии он напрочь забыл о её существовании, как, впрочем, и обо всех других женщинах вместе взятых.
И если бы не кривой Ларий Похабов и долговязый Рудольф Нахалов, которые маскировались под гостей, он так бы и просидел одиноко весь вечер на дне рождения у художника Моисеенко наедине со своими мыслями о своей несчастной литературно-театральной судьбе, которая не складывается, хоть тресни!
Наконец в голове у него лениво щёлкнуло, как семечка в чьих-то зубах, и Ларий Похабов предупредил суровым голосом надсмотрщика: «Не спать!» Булгаков встрепенулся и понял, что дело неспроста, что лунные человеки тут как тут, приглядывают, ловят рыбку в мутной воде, в том числе и на любовном фронте. Но это того стоило, потому что увидел рядом с собой за столом чрезвычайно красивую женщину: чёрную, восточную, с глубокими карими глазами весёлой ведьмы, женщину в бриллиантовой оправе, с червлёными золотыми серьгами и золотыми же кольцами на аристократических пальцах.
– Ах!.. – просто и естественно воскликнула Гэже (так он назвал её сто лет назад), – я прочитала все ваши романы!
– Не самое интересное занятие в жизни! – угрюмо буркнул он, потому что романов у него было раз два и обчёлся. А опубликованных – ещё меньше, так что хвалиться было нечем.
Гэже удивилась.
– Вы так непосредственны, – упрекнула она, – что диву даешься! Другой бы ахал от восторга!
Правая бровь её взлетела вверх, а на губах мелькнула короткая, заинтересованная улыбка.
Она знала Булгакова только со слов Белозёрской, которая его в грош не ставила. «Ах, котик, ну, какой он писатель? Сидит по ночам бумагу марает… я потом ею печь растапливаю. Только ты ему не говори, а то смертельно обидится», – говорила она, многозначительно поводя бровью, мол, любой автомеханик даст ему сто очей вперёд.
Поэтому она и пришла, чтобы разобраться, кто же на самом деле Булгаков, и нашла, что даже на первый взгляд совсем не так уж дурён, что на вид гораздо лучше, чем большинство представителей мужского пола, озабоченных сексом, деньгами и карьерами, и что у него такие же волчьи глаза, как и у полковника Германа Курбатова.
Сам полковник Герман Курбатов заявится к ней во сне и открыл карты со всей фантасмагоричностью, на которую был способен: «Ежели вы не передумали, а готовы идти до конца, и вам это надо, то отправляйтесь завтра же на день рождения к Моисеенко, где будет ваш подопечный!» Она поняла всё по-своему: деньги из волшебного ридикюля уже брала? Брала! Значит, заказ в силе, и отступать некуда.
Слово «подопечный» её покарябало, но она набралась храбрости и явилась с прекрасно уложенными волосами и в чрезвычайно модной сиреневой кофточке с рюшками и в чёрном бисере, который великолепно контрастировал с её оливковым цветом кожи и конечно же, с чёрными-пречёрными глазами.
– Непосредственность писателя – отвратительное качество, – упёрся Булгаков, имея в виду литературу, и тут же пожалел об этом, потому что привык к реакции возмущения Ракалия, от которой надо было защищаться всеми доступными способами, а здесь было совсем другое, явно не злобливое, хотя и в женском обличие, которое он последнее время считал весьма несовершенным, а после Ракалии стал ещё и побаиваться, как бормашины. Однако тут же устыдился того, что заподозрил Гэже в лицемерии: взгляд у неё был чистый и свежий, а Булгаков ещё не потерял вкуса к красивым женщинам, так как в этом вопросе находился в переходном периоде. У него даже слюнки потекли, как у опытного английского бульдога, и он зашвыркал ногами, словно собираясь за кем-то бежать, но, конечно же, не побежал, а пал ниц, то бишь моментально влюбился до потери сознания.
– После таких романов только и думаешь об авторе, – призналась она убеждённо и тайно, чтобы никто не заметил, коротко пожала ему руку.
Их нарочно усадили рядом – какая сила и почему, она не поняла, сколько ни выглядывала в многочисленной толпе гостей полковника Германа Курбатова. А потом о нём напрочь забыла, стоило ей было произнести заученную фразу: «Я прочла все ваши романы!» Это был элемент женской тактики, но Елена Сергеевна действовала, не осознавая своего коварства и улыбалась так, что у Булгакова сладко заныло сердце. И защитная вредность его отпустила перед её естественностью, и он моментально поверил. Он снова стал тем, кем был в юности, в его прекрасном Киеве, на Владимирской горке, тем юношей, которым себя представлял, когда боготворил всех, без исключения, женщин и считал их главной целью в жизни.
Он внимательно посмотрел на эту женщину и вспомнил ту иерархию, которой она у него занимала. А занимала она у него место под грифом «красивая брюнетка, с безупречным вкусом, с бархатной кожей и тонким запахом французских духов». Так его выдрессировала Белозёрская-Ракалия – бояться собственных мыслей. Ах, да-а-а… вспомнил он ещё: ни разу не поссорившаяся со мной. Это было более чем удивительно, ибо не было женщины, которая бы не стремилась накинуть на него петлю женского эгоизма; даже моя святая Тася. Может быть, всё только впереди, предполагал он, делая в душе первый робкий шаг к сближению, но тогда я в опасности, и с тревогой взглянул на Гэже.
– У меня манжетка развязалась… вы не поможете, – протянула она руку.
И пока он возился с её тонким запястьем, он вдруг понял, что у них начались отношения: то странное ощущение заботы о ком-то, которое он успел подзабыть за долгими годами супружеской жизни с Тасей и нервическими выходками Белозёрской-Ракалии.
Рядом с Еленой Сергеевной снова почувствовал себя мужчиной. И ему стало страшно за неё в этом безбрежно-суровом мире.
Глава 9
Москва. Последний роман души
Он сам себе поставил диагноз: психотическая депрессия, замаскированная литературными страданиями. Иными словами, у меня, понял он, заниженная самооценка на фоне непрекращающейся травли со стороны революционных властей и революционной же публики и если бы не способность писать, я бы в петлю полез, потому как делать больше нечего.
В этом состоянии он целыми днями напевал одну и ту же тягучую, как патока, мелодию: «Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна…» Тоска наполняла его, и он ложился, глядя в стенку, и лежал сутками, ничего не ев и не пив. А потом бесшумно и незаметно приходили лунные человеки, опоясывали его лоб энергией, насылали незлобливые вихри на макушку и тяжело вздыхали, сидя рядом в ожидании, когда Булгаков придёт в себя.
К счастью, у него не случилось ложной эйфории, которая предшествует самоубийству, и руки он на себя не наложил, ибо лунные человеки следили за ним и с этой стороны тоже, каждый раз, когда он тоске и печали шлёпал по коридору в туалет, пугали его всякими странными звуками и запахами: то ландышей, то смрадом неведомого жуткого зверя, то окалиной. Булгаков вздрагивал, испуганно таращился в темноту и переключался от тоски и печали на свой любимый конёк – женщин и на литературу. Воображение его начинало работать, как белка в колесе, и он, забыл о том, куда шёл, а шёл он в туалет, бросался к столу и писал, писал и ещё раз писал сутками напролёт.
В ней я перегорел, подумал он, я один-одинёшенек, я так устал, что жить не хочется, и только Гэже, моя радость и нежность, греет, как слабая пятиватная лампочка.
Но даже этого было достаточно, чтобы у Булгакова проснулся интерес к жизни. Поэтому Елена Сергеевна сама, не зная того, спасла его от суицида.
Он всё время знал о её присутствии где-то здесь, рядом, напротив, за столом или на диване, или в спальне, куда он привёл её, медленно, цепенея от страсти раздел, и они предались тому, к чему стремились – любви. Любви необычной: чрезвычайно нежной и доверительной, дарящая надежду в этом безумном одиночестве двух любящих сердец. Ради этого одного стоило жить и писать. И между ними в ту первую ночь возник союз, не здесь, на грешной земле, а на небесах! И Булгаков знал об этом, ибо лунные человеки оказались сердобольными няньками и раскинули ему в этом плане карты. Ему выпала червовая дама и червовый туз в прямом положении. А это означало любовь и бескорыстие.
Они сразу поняли, что созданы друг для друга, и это робкое, как паутина, чувство родило в них надежду на чудо, которое редко с кем случается в жизни.
Первая ночь стоила ему озарения: вот же она, Маргарита! – едва не воскликнул он, а я маюсь! И огромные куски текста вдруг стали рождаться в нём, как ноты оркестра, и он ловил партии с жадностью страждущего композитора в параллельной тональности: одну, вторую, третью. В нём проснулось яснозрение: он вдруг точно и определённо мог сказать обо всех достоинствах и недостатках своего текста в минорной тональности с тоникой до-диез.
А ранним утром, когда Гэже убежала к своему генералу, Булгаков тотчас бросился за стол в одних трусах, забыв одеться, и словно в лихорадке принялся освобождать душу. К полудню у него потекли сопли и открылся кашель. Но это было ничто по сравнению с тем, что у него появилась ужасная «женская часть романа», то чего ему не хватало для баланса сюжета, потому что Ракалия на эту роль явно не тянула, а Тася была далеко-далеко.
И он был счастлив! Он принял предначертанность жизни именно в такие моменты.
Писал до тех пор, пока не возникали длинноты. Тогда он бросал всё и ложился спать. Длинноты были признаком фальши. Это надо было слышать правым ухом, а левым – соразмерные квинты. Дисгармония приносила душевные страдания: депрессия наваливалась так, что мерк белый свет. Однако Азазелло тихонько хихикал, подглядывая в его тексты, а Коровьев показывал большой палец, ибо депрессия была элементом творчества, и казалось, что Булгаков исправился и дело на мази. Они радостно подпрыгивали каждый вечер в ожидании, когда он снова возьмётся за «Мастера и Маргариту», полагая, что Герман Курбатов, начальник департамента «Л», главный инспектор по делам фигурантов, зря ввязался в драку, что они и сами справятся.
***
Они стали встречаться спорадически.
«Из-за моего семейного положения…» – как она любила говорить, изумительно сияя тёмно-карими глазами.
И были рады его величию случая. По телефону она обычно говорила заранее кодовое слово, например, «шесть килограммов картошки», или «три луковицы». Это значило, что она прибежит вечером или днём, несмотря на то, что у неё был дом, детишки и бравый генерал с шашкой наголо, но всё равно выскочит под надуманным предлогом, и он шёл ей навстречу по Кропоткинской и Волхонке. Белая рубашка, полувиндзор на шее, в кармане пальто из драпа букетик первых весенних цветов. А встречались они или на Патриарших, или на Тверском бульваре, не очень оберегая себя от чужих взглядов.
И Бог хранил их!
Булгаков без всяких хлопот подарил ей тот изысканный интеллект, которого ей катастрофически не хватало в армейской среде, и быстро подтянул, в отличие от Таси, до своего уровня.
Однажды его пригласили на какое-то торжество. Сам генерал Сабаневский, человек с благородным лицом английского лорда, со снисходительностью к пролетарскому искусству пожал ему руку. Его усадили в самый дальний край огромного, как лётное поле, стола так, что он мог видеть только профиль Елены Сергеевны, когда она наклонялась или брала бокал вина. И он быстро заскучал. Справа и слева от него сидели два никчёмных человека. Один – артиллерийский офицер из действующей армии, по имени Николаша, который пил водку вне очереди по три рюмки кряду, а второй, капитан Арбачаков, – начал нести какую-то чушь о собственной значимости для контрразведки. Булгаков послушал его в пол-уха, подозревая, что его провоцируют на какое-нибудь высказывание, и вышел покурить на лестницу. В конце длинного тёмного коридора он увидел ярко освещенную кафельную кухню, где вдруг мелькнул дорогой силуэт, побежал туда чуть ли не сломя голову, одно это могло выдать их с головой. Но, должно быть, лунные человеки предусмотрели всё! И он застал её, стоящую под морским манометром в дубовом футляре, обнял и страстно и, как показалось ему, бесконечно долго поцеловал, отчего у него кругом пошла голова. И снова бог или лунные человеки хранили их, потому что где-то рядом громко разговаривала прислуга, которой надо было подавать котлеты и соус. А потом, когда они снова задышали в унисон, Гэже сунула ему платок:
– Помада…
И он даже не успев оглянуться из-за опасения быть разоблачённым, быстро пошёл по длинному тёмному коридору назад, не без сожаления вытирая губы, хранящие её запах, сунул с бесконечной нежностью платок в карман, вышел на лестницу, слыша, как Гэже непререкаемым тоном отдает распоряжение кухарке и официанту.
Ему вдруг сделалось легко и весело, он засмеялся на удивление окружающих и понял, что она его любит и что нарочно вышла на кухню, заметив, что он якобы идёт курить. И это стоило дороже всех сокровищ мира.
Он вернулся к столу, сел между артиллерийским офицером и провокатором их контрразведки, выпил водки и хорошо поел.
***
Елена Сергеевна писала в своём дневнике то, что не попало в официальную его часть.
«Однажды Миша, имея весьма таинственный вид, увлёк меня в Старопименовский переулок, оказывается, чтобы показать, как он разделается с Маяковским на биллиарде. Я знала, что он это делает только ради меня, потомку что недолюбливает Маяковского за то, что тот пренебрежительно отозвался о его пьесе «Дни Турбиных», мол, «это не пьеса, а страдания белым поносом». Естественно, доброхоты тотчас донесли. И Миша был зол на него все эти годы. Однако я сама попросила его и несколько раз напоминала ему, что хочу познакомиться с Маяковским, и мне было интересно, как оба вывернутся. Ничего экстраординарного не произошло. Они, обмениваясь пикировками, типа «как насчёт рябчиков» и «вдовы Зои Пельц», заказали пять партий.
Когда Миша меня представлял, Маяковский сказал мрачно, пронизывая меня тяжёлым, гипнотическим взглядом:
– Мадам, сейчас я разделаю вашего фрэнда под орех! Вы будете свидетельницей моего триумфа! – но посмотрел почему-то не на меня, а на Мишу.
Фрэнд – это было словечко из его турне по Америке. Таким образом он намекнул, что, мол, меня выпускают, а тебя, шавку, знаменитого писаку, драматурга и белую литературную сволочь, держат в золотой клетке.
Маяковский наклонился, целуя руку. Совсем близко я увидела большие, карие глаза магического типа, и на какое-то время попала под их обаяние.
Маяковский заметил и грубовато произнёс:
– Не бойся, я не кусаюсь…
Миша криво усмехнулся, перековеркивая фразу:
– И опять я дружил с поэтической мухой…
Намекая на его кокаиновую страсть и буйный нрав на людях.
Однако я поняла его фразу совсем по-другому: Маяковский не имел ни малейшего представления о запредельных формах жизни, о которой порой писали все парижские газетки, а отголоски разносились по всему миру. Несомненно, Миша имел в виду лунных человеков, знакомством с которыми тайно гордился, и жалел, что у нас об этом нельзя было говорить в открытую. Маяковский же понял всё по-своему. Слова Миши были камень в его огород либидо. Я подумала, что он убьёт Мишу, но он сдержался, только моментально стал суше и жёстче, и я увидела, как свирепеет его подбородок, похожий на неотёсанную глыбу камня.
Меня позабавила сама пикантность ситуации. В отношении нас с Мишей Маяковский или ничего не понял, или ему было ровным счётом наплевать, кто с кем дружит и кто с кем спит. И тут я вспомнила о его музе, Лиле Брик, и всё сложилось одно и к одному: он был отрешён от быта, поэтическая революция не наступила, хотя он отчаянно старался, и посему его, разочарованного, интересовала только его личная жизнь: его Лили, кокаин и, разумеется, скандальные громкие стихи, которыми он зажигал толпу, как агитационными листовкам-плакатами.
Пришла Лиля Брик в прозрачном платье, рыжая, кусачая, и сказала:
– Давай поспорим на победу?!
Вряд ли её привлекала литература такого типа, которую писал Миша, где надо долго и внимательно читать, чтобы много думать. И вообще, она была под влиянием Маяковского, у которого слова были, как топор, весом в полтонны, эмоциональнее, чем кипяток из чайника.
– Давай, – согласилась я, потому что в те годы любила зряшно рисковать.
Мне казалось, что в этом есть какой-то смысл. Потом, благодаря полковнику Герману Курбатову, я поняла, свою глупость: нельзя ходить туда, куда не ведут дорожки, а любопытство хуже смерти.
– Маяковский… – хитро сказала она, с любовью взглянув на его широкую спину и расставленные ноги, он как раз собирался нанести удар, и рука была заведена за спину.
– А я думаю, Булгаков, – естественно, ответила я, стараясь скрыть язву в голосе относительно её платья.
Официант, который нас обслуживал, едва не свернул шею. Может быть, отчасти меня выдала челюсть, которую я невольно выставила вперёд.
– Это почему? – с удивлением посмотрела на меня Лиля Брик своими карими, маслеными глазами, подкрашенными с явным намёком на ведьму. – Ведь очевидно же!
Казалось бы, огромный по сравнению с Мишей и физически сильный Маяковский должен победить одним махом. Но я-то знала, что Миша не оставит ему шансов при малейшей ошибке и ювелирно его обыграет.
– Потому что он ловчее и быстрее, – сказала я. – А ещё у него хороший глазомер.
– Ах… – наиграно воскликнула Лиля Брик, не слушая меня. – Вы что живёте вместе?!
– Конечно, нет! – быстро ответила я.
– Так я тебе и поверила, – повела ведьмиными глазами Лиля Брик. – Впрочем, мне всё равно! – мило улыбнулась она, и мы стали подругами.
– Я попросила Булгакова познакомить меня с Маяковским! – ответила я сухим тоном, чтобы прервать опасную тему.
И мы заказали бутылку «Магарача» и стали следить за ними. Вначале они играли, несколько лениво, потом в них проснулся азарт.
Последний раз я видела Маяковского среди публики в Институте народного хозяйства, где он читал свою «Паспортину». А здесь же, в небольшом накуренном зале, он был просто огромным по сравнению с ловким и субтильным Мишей.
Мы выпили по бокалу вина, от которого сразу же прочистились мозги, и я засомневалась в своей удаче.
– А вот так?! – воскликнул Миша и ударил не с таким сухим и звонким щелчком, как Маяковский, а почти что музыкально на ноте «ля», и чисто забил шар в правую дальнюю от меня лузу.
Маяковский болезненно дёрнул щекой и сказал:
– Ах… наш Херувим с Зойкой не победим!
Прежде чем ударить, Миша ответил иронично, задумчиво наведя на Маяковского свой белый взгляд волка:
– Как можно «взвихрить растянутые тягучие годы горя»?..[2]
– Можно! – горячо воскликнул Маяковский. – Если всем захотеть, то мы всегда на коне!
Несомненно, Миша намекнул на косноязычие Маяковского, но не стал педалировать, заставляя повиснуть фразу для размышления. Оказывается, они знали произведения друг друга наизусть. Это ли не было признаком опасного уважения друг к другу.
– Что такое хорошо, а что такое плохо?..
Маяковский натужно засмеялся, и его отпустило. Свысока своего роста он хлопнул Мишу по плечу:
– Это, брат, плата за место под солнцем![3]
Щёлк! И Миша забил пятый шар. Я уже знала, что Миша любит бить с оттяжкой, что он научился этому ещё в Киеве, в биллиардной у Голомбека в паре с его другом детства, Борей Богдановым, который застрелился. И что удар с оттяжкой, это признак мастерства белого офицерства. Миша под большим секретом рассказал мне, что воевал на Кавказе и даже был контужен гранатой в рукопашной. «К счастью, наши вовремя ударили! – сказал он так, как будто ещё раз сражался на поле брани. – Но об этом никто не должен знать, иначе ты погубишь меня».
Хотя, конечно, за глаза его давно называли «контриком», но подробностей его биографии, которые он скрывал, не знал никто. Чувствовали, что он белая ворона в стаи чернокрылых, и его не любили в приёмных.
Маяковский подошёл и отпил из бокала Лили Брик, не сводя с меня своего необузданного взгляда.
– Надеюсь, у тебя есть деньги?! – поиздевалась Лиля Брик, намекая на его проигрыш.
– Девочки, не скучайте! – усмехнулся Маяковский и снова ушёл играть.
– Я его бешеного никогда не останавливаю, – сказала Лиля Брик. – А он на тебя положил глаз! – весело тряхнула она рыжими кудрями. – Берегись! Он не отступится!
Я только глупо хихикнула, вовсе не представляя, к чему всё это приведёт. У меня возникла шальная мысль, спросить у Лили, участвовали ли она в групповом сексе. Но, конечно же, не спросила. Однако, казалось, она услышала, потому что озорно среагировала:
– Семейная жизнь сразу с двумя мужчинами имеет свои особенности. Главное, меньше ревновать… мужчинам… – добавила она и беспечно рассмеялась, хотя и не без смущения.
– Что так просто? – удилась я, подумав о Сабаневском, уж он-то не был виноват в моей распущенности, и мне сделалось стыдно, иначе бы я продолжила разговор на щекотливую тему. Кто ещё из твоих знакомых живёт в триолизме?
– Всё имеет свою цену. Мы с ним всё время ссоримся. Даже по пустякам. Я не могу смотреть, как он путает родительный и винительный падежи! Меня это бесит!
Целую минуту я забыла закрыть рот: оказывается, их волнуют такие мелочи.
– Брось… – сказала я, – любой корректор поправит…
– В том-то и дело, что он начинает кричать о том, что гениям всё дозволено!
– И что?.. – я посмотрела с этой точки зрения на Маяковского.
Был ли он гением, я не знала. Скорее, человеков, который любит создавать вокруг себя ажиотаж и вихри необузданных чувств.
– А то, что с ним трудно честно обходиться. Чтобы уговорить его на такие мелочи, я трачу массу времени!
– Это цена вашего союза! – согласилась я.
– Да какой союз?! Нет никакого союза! Есть добровольная жизнь в одной квартире.
– И всё? – удивилась я.
– И всё! – сделала она невинный вид. – У нас у каждого своя комната. Естественно, иногда встречаемся в одной постели по банным дням. Но это не так интересно, как кажется.
– Да-а?..
Казалось, я выдала себя с головой, интересуясь сексуальными подробностями.
– Да, много возни. В результате у меня оргазм по дюжине раз, – похвасталась она, произнеся слово «оргазм» нараспев, как неаполитанский речитатив.
– Что, так бывает? – удивилась я.
– Хм! – парировала она мою наивность. – Я нимфоманка! Если хочешь, приходи к нам в этот четверг, у нас как раз такой банный день.
– Нет, – ответила я, – это не для меня.
И подумала, что разделение произошло окончательно и бесповоротно, как раз при знакомстве с Мишей, но даже и до него я не воспользовалась бы её приглашением.
– Ну как знаешь, – сказал она игриво, поводя своими ведьмиными глазами.
И больше на эту тему мы с ней не разговаривали.
В этот момент Миша поставил шар на «губу», и Маяковский выругался:
– Опять ты со своими писательскими шуточками!
Дело было в том, что такой шар бить было ниже чести, это был заведомо лёгкий приз, и луза считалась закрытой. Можно было бить только последним, «конечным», шаром. А так как Маяковскому не везло, то это обстоятельство порядком сокращало его шансы на победу. И первую партию он проиграл вчистую, разразившись истерическим смехом. Заказал себе коньяку и стал бить так, что шары вылетали за борт. Лицо его сделалось красным, а глаза налились кровью.
– О-о-о… – заметила Лиля, – кажется, Володя закусил удила.
Она даже привстала и посмотрела на него.
– Когда он успел?..
– Что?..
– Принять марафет!
Я поняла, что Миша в опасности. Но, кажется, его забавляла откровенная злость Маяковского. Я подала ему знак, что пора уходить, но он и ухом не повёл.
– Вот, что… – надела пальто Лиля Брик, – толку здесь не будет! Я ухожу!
– Я с тобой! – сказала я и поднялась, давая понять Мише, что шутки кончились.
Он подошёл, хищно раздув ноздри, и быстро спросил:
– В чём дело?
– Вы сейчас подерётесь! – крикливо ответила Лиля Брик.
– С кем?.. С ним?.. – он весело и нагло оглянулся на Маяковского, видно, решив его добить окончательно.
Мне сделалось за него страшно.
– Ты будешь играть? – крикнул Маяковский. – Твой удар!
– Буду, конечно! – ответил Миша и вернулся к столу.
Пока он был занят, Маяковский пошёл за ними в коридор. И вдруг схватил меня сзади и грубо поцеловал в шею, а потом развернул, и Лиля закричала:
– Уйди, скотина!
И наотмашь звонко ударила его по щеке. Тут же рядом, как тень, возник Миша, который, очевидно, вовремя получил щелчком по одному месту. Маяковский нагло рассмеялся, глядя на него с высоты своего роста, и вдруг загремел с подкосившимися ногами, как мешок с костями.
Миша подхватил меня под руку, и мы убежали: Лиля Брик – в одну сторону, мы – в другую.
Позже Миша мне рассказал, что обладает тайным ударом, не рукой, нет, а правым плечом в грудь противника. Мало кто выдерживает такой тычок, у человека подкашиваются ноги, и он садится на пятую точку, некоторое время пребывая в прострации. Удар коварный, скрыты и неожиданный, но не смертельный».
***
«Он взялся сводить счёты со всеми своими врагами, выдумывая какие-то одному ему понятные истории, в которых было много драматизма, но не одной реалии.
– Миша, – сказала я ему, – это самое последнее дело!..
Он болезненно посмотрел на меня: в его глазах плавала тоска.
– Я не хочу скатиться до уровня проживателя жизни! – пожаловался он.
Ещё бы он послушался, делая всё по велению моей души, однако злость душила его, как тяжёлое похмелье, и он ничего не мог с собой поделать, иначе надо было сломаться и жить, как все другие, без мечты.
Иногда он разговаривал с углом комнаты и объявил мне, что лунные человеки, точнее, Азазелло в миру Ларий Похабов и Коровьев в миру Рудольф Нахалов тоже против его стряпни на эту тему. Им подавай высшие помыслы дьявола. А обычная жизнь?! Она проста и тошнотворна, соглашалась я с ним.
– Понимаешь… возьмём Юлия Геронимуса…
– Да… – поддакивала я, ибо любила слушать его рассуждения.
– Он посчитал мир такой, каким он его видит. Многие попались на эту удочку и прожили жизнь в неведении. Но… мы с тобой понимаем, что к чему!
– Да, – соглашалась я, припоминая полковника Германа Курбатова и его шутку с ридикюлем, но на самом деле, по прошествии времени, я начала бояться той неясной силы, которая стояла за ним.
Миша бросил лейтмотив апокалипсиса, но рукопись спрятал так, чтобы я не могла её найти. Я думаю, ему было стыдно за свою горячность, однако он её не забыл, а утаил в глубине души. Зато он уговорил меня записывать за ним на слух роман «Мастер и Маргарита».
– Маргарита – это ты! – объявил он, чтобы сломать мою стеснительность.
А так как он часто работал по ночам, то мне приходилось, клюя носом, записывать всё, что он скажет по этому поводу. Я предупреждала его, что надиктованная проза и проза записанная – две большие разницы, но он и слушать не хотел.
– У меня такого шанса никогда больше не будет. А потом я переделаю под обычную прозу. Мне главное, ухватить ощущения, – горячился он, – иначе они ускользают прежде, чем я успеваю записать!
Хорошо, Рюрик Сабаневский часто бывал в командировках, а с Дашей, мой горничной, я договорилась и платила ей за молчание полторы тысячи рублей за раз. Меньше не имело смысла, а больше – могло вызвать подозрение. Пару раз я брала тайм-аут и отказывалась даже подойти к телефону – так мне хотелось спать. Я отдыхала дня три, а потом снова бежала к нему.
И снова всё повторялось: днём он разбирался с моими корявыми строчками, а вечером я их читала и правила, ночью мы, конечно же, писали роман.
Вдруг я обнаружила по его горящим глазам и нервности, что он вернулся к апокалипсису.
– Миша… – сказала я, как можно спокойнее, – это никуда не годится!
Он окаменел на лету.
– Почему, ё-моё?!
И повёл своими волчьими глазами.
– Потому что это безнравственно!
Я вдруг ощутила знакомое чувство предтечи полковника Германа Курбатова, словно будущее время наступило, но определиться, в чём-либо конкретном, всё равно было невозможно. Это странное чувство долго мучило меня, словно я вижу, но не могу дать определение происходящему.
– Обоснуй! – разозлился он ещё пуще и отбросил ручку из цветного кварцевого стекла, которую называл «египетской палочкой дьявола».
– При чём здесь Москва?! – воскликнула я, намеренно не замечая его возбуждения. – При чём?
В тоске и отчаянии он хотел сжечь её в циклопическим пожаре. Я понимала его: ему отказали во всех издательствах без объяснения причин чёрного списка, в который он попал. Даже его верный друг – Юлий Геронимус бросал телефонную трубку, а Станиславский и Мейерхольд в грош не ставили его пьесы, Сталин же, казалось, забыл о нём. Но всё равно, говорила я, это не повод для всеобщего вандализма. Москва не виновата!
– А что мне прикажешь, расшаркаться, что я её люблю?! – удивился он.
– Как тебя объяснить?! – ответила я. – Ты неправ! Москва не виновата, что литературу используют в политических целях!
Он думал часа три. Ходил из комнаты в комнату, потихонечку от меня пил водку, а потом сказал:
– Пожалуй, ты права… Я не буду её жечь! Я нашлю на неё дьявола!
– Это другой разговор, – радостно и с облегчением согласилась я. – Это можно! Это художественно, и это стильно!
Он ограничился тем, что сжёг «нехорошую квартиру», реализовав своё эго. Но его патологическая озлобленность не давала ему вздохнуть свободно. И он принялся насылать дьявола.
В ту ночь он мне надиктовал, абсолютно забыв, кто надоумил его сделать текст архаичным.
«В ночь с пятницы на субботу, тринадцатого января, Азазелло разбудил тихий, но настойчивый стук в дверь.
– Кто там?.. – спросил он, отступая на шаг влево, чтобы в него не пальнули, если кому-то, не дай бог, вздумается убить его сквозь дверь, и взвёл курок огромного, чёрного револьвера о семи патронах.
Оказывается, что дежурная по этажу.
Азазелло с облегчением вздохнул, открыл дверь и, увидев испуганное лицо дежурной, незаметно снял курок и сунул револьвер в карман халата.
Дежурная, рыжая дама в теле, затараторила в темпе собачьего вальса:
– Вас звонит какой-то господин Хронин. Да так настойчиво, что я аж перепугалась!
– Не стоит… – остановил её Азазелло.
– Я так и поняла, – сказала она с признательностью.
Накануне её строго-настрого предупредил сам директор, Пантелей Быкадоров, чтобы она, не мешкая и не зависимо от времени суток тотчас звала постояльцев тринадцатого номера к телефону. Так они ему наказали и таково было условие, которое ему выдвинул Азазелло для пребывания в его третьеразрядной гостинице, из которой, однако, были удобные пути отхода, и даже через подвал, в Марфино, где, как известно, полно трущоб и оврагов. Вот она и прибежала, мятая и всклокоченная.
Шлёпая тапочками, Азазелло подался за ней по длинному коридору, взял трубку и спросил нарочито сонным голосом:
– Слушаю-с?..
В трубке что-то квакнуло, словно в большущей, гулкой канализационной трубе, и скрипучий голос произнёс:
– С вами говорит секретарь мессира Воланда. Вам надлежит, – гулко отдавалось эхом, – в трехдневный срок освободить «нехорошую квартиру» для проживания его светлости.
– Я понял, сир! – моментально взбодрился Азазелло, присел от старательности и щёлкнул пятками, как шпорами, чуть не поцеловав трубку, прежде чем положить её на рычаги, потом вручил изумлённой дежурной огромную шоколадку из чистейшего чёрного шоколада, иностранного производства, заметьте, которую волшебным способом извлёк из кармана, где спрятал огромный, чёрный револьвера о семи патронах, после чего военным шагом кавалериста удалился в свои роскошные апартаменты из дюжины комнат, которые делил с Коровьевым и котом Бегемотом.
Утро он, естественно, заспал и явился в столовую, когда там шёл пир коромыслом.
Оказывается, Коровьев и кот Бегемот всю ночь кутили, и под столом тихо перекатывалась целая батарея пустых бутылок. Оба были пьяны до невозможности, однако увидев мрачное и суровое лицо Азазелло по известным причинам дьявольского образа жизни моментально протрезвели и встревожено замолкли.
Кот Бегемот ходил на задних лапах, носил шубу и котелок, который имел свойство пропадать в самый неподходящий момент. Ещё кот Бегемот умел курить папиросы «Баръ» и играть в карты, в которых нещадно мухлевал, за что не раз был бит по носу, а хвост у него по этой же причине был драным, как старая мочалка.
Под утро они заказали кофей лювак с коньяком, и половой Вася Дёмкин, прислуживающий им, сбился с ног.
– А вот ещё… принеси-ка нам этак-с… что-нибудь такого-с… – с важностью говорил кот Бегемот квакающим голосом.
– Омлет с лобстером и чёрной икрой! – нашёлся Коровьев, который был большим знатоком по части вкусно поесть.
– И чёрный же арбуз на закуску! – в свою очередь добавил кот Бегемот квакающим голосом.
– Так, – мертвенно посмотрел на них Азазелло, – чтобы через пять минут были как стёклышко! – и отправился в ванную, а когда вернулся, то на столе красовалась огромная чаша с не менее огромным красным лобстером, на котором громоздилась пирамида чёрной икры, весом чуть больше шесть фунтов.
Коровьев сидел, развалившись в кресле, и пил арманьяк «Бако Блан», аки воду, а кот Бегемот лежал на диване и, нервно дёргая усами, грыз огромную клешню морского рака. Расплачивались они неизменно царскими червонцами, поэтому директору гостиницы Пантелею Быкадорову чрезвычайно нравилось иметь с ними дело. Он складывал червонцы в кубышку и прятал её под кровать, покуда однажды они не превратились в клубок змей и весело не закусали его до смерти, но это была уже другая история.
– Всё! Хватит сорить деньгами, идём на дело! – брезгливо сказал Азазелло, наливая себе пустого чаю.
– Наконец-то! – отбросил рачью клешню кот Бегемот и спустил ноги на пол, нашаривая лаковые туфли «ланзони».
При этом у него проявился огромный, мерзкий живот, поросший редкой, чёрной щетиной. На лапах же у него, с внутренней стороны, росли пуховые протоперья, а на хвосте была наколка «Не забуду революцию!» и завязанная фиглярная синяя ленточка в голубуй полосочку с намёком на тайные романы.
– Действительно, пожрать не дашь, – огорчился Коровьев с недовольной физиономией, но под тяжёлым взглядом старшего куратора Азазелло его длинное, вечно обиженное лицо ещё больше вытянулось, и он нехотя поднялся, вытянув руки по швам. – Чего изволите-с?..
Они ещё ничего не поняли и ни сном ни духом, ни в чём чёрном не подозревая своего будущего.
– Нехорошую квартиру» подчищать, – велел Азазелло, глядя на их недоумённые физиономии. – Сам мессир должен пожаловать!
– Сам мессир Воланд?! – восхитился кот Бегемот, глядя на вмиг заспешившего Коровьева, который в два приёма натянул полосатые штаны, рубашку не первой свежести.
Коту Бегемоту никто не ответил: он был всего лишь жалким подручным в грязных делишках. Поэтому в отместку, он тихонечко засунул в карман лапсердака кусок чёрного арбуза, заодно быстро, чтобы никто не заметил, отправил туда же три ложки чёрной икры и мяукнул от радости.
Когда они одним духом выскочили из гостиницы, у парадного их уже ожидал с включенным мотором скоростной автомобиль марки «фиат» чёрного цвета. Они назвали адрес «нехорошей квартиры» и вихрем понеслись.
Начать они решили с комнаты номер три, в которой проживала тётка Марьяничиха, с густым фиолетовым синяком под левым глазом, особа без возраста, курившая папиросы «Герцеговина Флор» и пившая водку наравне с Иванычем из пятой комнаты.
Они молнией взлетали на пятый этаж. Азазелло, как самый опытный и бывалый агент ГПУ, приник ухом к двери номер пятьдесят, послушал и сказал, обращаясь к коту Бегемоту:
– Готовься!
– Слушаюсь! – фыркнул кот Бегемот и с завыванием мартовского гуляки превратился вместе с шубой, котелком, который любил не вовремя пропадать, туфлями и драным хвостом с синей ленточкой в обычного чёрно-пречёрного кота, с химерично-изумрудными глазами, из которых с сухим треском, как бенгальские огни, сыпались искры.
– А потише нельзя! – укорил Азазелло и длинным, изящным ногтём на мизинце поковырялся в замочной скважине английского замка.
Замок покорно щёлкнул, и дверь открылась. Кот Бегемот ловко юркнул с образовавшуюся щель. За ним с важностью последовали Азазелло и Коровьев.
– Разрази меня гром! – зажал нос Коровьев, проходя мимо нещадно чадящей кухни, где тётка Марьяничиха из третьей комнаты как раз готовила на керосинке гуляш из требухи на льняном масле.
– Вай… – промяукал, путаясь под ногами кот Бегемот и намереваясь заглянуть на кухню, но получил пинок от Коровьева и влетел в третью комнату, запертую, между прочим, на огромный амбарный замок.
А Азазелло и Коровьев прямиком направились в седьмую, которая пустовала после съезда из неё Мастера и из которой ещё не выветрился дух высокой литературы.
Пока Азазелло возился с замком, из первой комнаты показал нос бледнолицый Меркурьев с изумлёнными глазами.
– Это что такой?! – безапелляционно спросил он. – Что это?! По какому праву? И кто вы такие?!
Дело было в том, что бледнолицый Меркурьев претендовал на расширение жилплощади и всячески охранял пустующую комнату от посягательств других не менее хитрых и коварных жильцов «нехорошей квартиры». В связи с этим он уже отнёс в домоуправление первой городской типографии немало подношений в виде самогона, водки, коньяка и закуски. Однако воз был и ныне там. Прокопий Чарторийский, председатель домоуправления, алкоголь покладисто выпивал, закуску съедал, но дело не двигал, здраво полагая, что труды ещё не окупились: шутка ли, целая комната в центре Москвы. И правильно, между прочим, делал, чутьё у него на этот счёт было отменным, как у любого мздоимца.
Ранним утром, когда ещё петухи спали, к нему явились трое необычного вида иностранца, и один из них, господин со стеклянным глазом, выложив перед изумленным Прокопием Чарторийским миллион американских долларов ассигнациями номиналом десять тысяч каждая, потребовал тотчас на бочку ордер и ключи.
В голове у Прокопия Чарторийского нервно защёлкал арифмометр. Он трясущиеся руки сам открыли сейф, сам достали квартирный ордер строгой отчётности и сами же списали туда всех троих господ иностранцев, не забыл поставить государственную печать и витиевато расписаться. А господин Азазелло, как он представился, сказал следующее:
– У вас есть возможность больше не работать до конца дней своих, если черед три дня вся «нехорошая квартира» перейдёт в нашу собственность.
– Как же-с?.. – по-старорежимному удивился Прокопий Чарторийский. – В ней же люди проживают-с…
– Об этом можно не беспокоиться, – ответствовал господин Азазелло. – Ваши труды окупятся с лихвой и положил на стол перед изумлённым домоуправителем огромный, как орех, бриллиант особо чистой воды.
Этого момента Прокопий Чарторийский ждал всю свою жизнь. Бриллиант особо чистой воды перекочевал в его тайный, глубокий карман пиджака, туда, где он обычно прятал заначки от жены, и теми же самыми трясущимися от восторга руки внёс всех троих господ иностранцев в большую амбарную книгу, теперь уже как владельцев всех семи комнат. Дело было сделано: Прокопий Чарторийский периодически прижимал бриллиант особо чистой воды локтём, чтобы убедить, что он никуда не делся, и потрясённый происходящим, долго и подобострастно тряс руку иностранцу со странной фамилией Азазелло, которого моментально стал бояться до икоты в желудке, ибо почувствовал, что господин иностранный подданный Азазелло мог одним движением мизинца левой руки превратить бриллиант особо чистой воды в обычный грецкий орех.
Азазелло брезгливо вытер руку о штанину, забрал ордер, ключи, и вся компания в крайней спешке покинула домоуправление первой городской типографии.
Через десять минут секретарша Прокопия Чарторийского доложила:
– К вам товарищ Меркурьев по личному вопросу.
Прокопий Чарторийский сделал недовольное лицо, спрятал бриллиант чистой воды, которым любовался, в тайный карман и сказал:
– Зови!
Бледнолицый Меркурьев влетел в кабинет, как пушечное ядро, и с порога закричал крайне обиженным голосом:
– Как же так, господин хороший!.. Я вам сколько водки принёс! Сколько вы у меня сил отняли?! А вы!..
– Спокойно, гражданин! Спокойно! Как ваша фамилия, говорите?
– Меркурьев! Васпис Вассианович!
Прокопий Чарторийский покопался в толстой амбарной книге и заявил:
– Гражданин Меркурьев Васпис Вассианович, вы занимаете у нас первую комнату площадью тринадцать с половиной квадратов. Правильно?..
– Правильно, – слегка опешил бледнолицый Меркурьев.
– Что вам ещё надо? О каких комнатах вы ещё хлопочите?
– Ну как же! – снова закричал бледнолицый Меркурьев. – У нас договор!..
– Я вас, товарищ, впервые вижу! – отрёкся Прокопий Чарторийский. – Покиньте кабинет и не мешайте работать.
– Я тебе покину! – пообещал бледнолицый Меркурьев. – Я тебе так покину, что ты надолго запомнишь и отправишься туда, где лета не бывает!
– Это вы зря, товарищ Меркурьев, – спокойно ответил Прокопий Чарторийский и вдруг на глазах вначале изумленного, а потому ещё больше побледневшего Меркурьев превратился в трёхаршинного козла с самыми натуральными, как у всех козлов, рогами, смотрящими однако, не вперёд, как положено, а назад, исключительно ради удобства боднуть бледнолицего Меркурьев со всей козлиной мочи в пятую весьма болезную точку.
И он вылетел из домоуправления, лишившись чувств. А когда пришёл в себя, то потирая соответствующее место и прихрамывая сверх меры, поплёлся домой, горько осуждая несправедливость судьбы и вообще всё, в глобальном смысле, человечество.
В тот же час он презрел свой свечной заводик, которому посвятил всю жизнь, презрел фокусы, искусство, которое не кормило, и дабы не ухудшать политическую карму, а токмо сказочно затеряться на необъятных просторах России, подался в Пятигорск, в давней своей поклоннице, Марцеллине Мартыновне, у которой стал гнать коньяк «Тамбук» из чистейшей местной водки, настоянной на кожуре ореха. А через три года стал подпольным миллионером Корейко, так что о своём свечном заводике больше не вспоминал, ни о чём не жалел, тем более о «нехорошей квартире» в центре Москвы, а предавался исключительно наслаждениям жизни с поклонницей и ещё с одним человеком ну очень приятной наружности.
Между тем, кот Бегемот знал своё дело. Он чудесным образом проник в комнату Марьяничихи и завалился на дерматиновый диван, словно жил здесь всю жизнь. Когда же она открыла своим ключом дверь и вошла, бережно неся гуляш из требухи на льняном масле, то обнаружила на диване огромного, чёрно-пречёрного кота, даже не кота, а целого котищу с чёрной щетиной на животе и полосатой ленточкой на изящно драном хвосте. Кот Бегемот спрыгнул и принялся умиленной ласкаться к Марьяничихе, обвивая её ноги хвостом с ленточкой и пуховыми протоперьями.
Марьяничиха, которая последний раз видела мужчину у себя в постели в октябре семнадцатого год, слегка окосела.
– Ой… да какой же ты славный котище, как тебя зовут?
– Бегемот! – ответствовал, как на духу, кот Бегемот, завывая, как все мартовские коты.
Казалось бы, одно это должно было насторожить здравого человека, но Марьяничиха, которая постоянно жила в пьяном угаре, восприняла речь кота как само собой разумеющееся явление природы.
– Бывают же говорящие коты! – удивилась она и отложила в миску коту Бегемоту порцию гуляш из требухи. – Ещё, золотце! Ешь!
– С божьей по-о-омощью! – промяукал кот Бегемот, который считал себя лучшим котом-актёром ещё Малого Царского театра, тут же вошел в роль и слопал на удивление Марьяничихи гуляш на льняном масле в один присест. – А водки нет?
– Нет водки, – горестно вздохнула Марьяничиха, которую никто не любил, кроме Иваныча из пятой комнаты. – Нет. Водка только у Иваныча.
– Пошли к Иванычу, – квакающим голосом предложил кот Бегемот, свойски подморгнув ей своими зелёными глазами, из которых с сухим треском, как бенгальские огни, посыпались искры.
И они пошли в пятую квартиру. Через пять минут там раздались звуки гитары и мяукающий голос кота Бегемота:
– Ах-х-х… не говорите мне нём! Не говорите мне-е-е о нём!
Мимо как раз пробегали запыхавшиеся Коровьев и Азазелло. Последний сказал, прислушавшись:
– Работает кот Бегемот, ну, и пусть отрабатывает свой хлеб!
Коровьев нехорошо рассмеялся в том смысле, что там, где пробежал кот Бегемот, делать честным гражданам нечего.
Они как раз направлялись во вторую квартиру. Азазелло был одет в заграничный, квадратный двубортный пиджак и в брюки с высокой талией в тонкую светлую полоску, напоминающую матрас, галстук с французским узлом на нём был ярким и броским, как у заезжего купца на ярмарке. Коровьев же был одет скромнее, как революционный студент: в косоворотку и пиджачишко со штопаным воротником, на ногах имел ношеные штиблеты с белым верхом и с потрескавшимися лаковыми носами, а в руках он тащил пухлый и тяжелый канцелярский баул.
– Варлен Егоров?.. – спросили они, войдя без стука, но с деланным почтением.
– Да-а-а… – поднялся из-за стола высокий и стройный молодой мужчина о семнадцати годах, начинающий помощник мастера офсетной печати.
Варлен Егоров был не от мира сего, мечтая не об огромной-преогромной любви, как все в его возрасте, а о захватывающих и неповторимых кругосветных путешествия, девушки волновали его в самую последнюю очередь. Но в условия голодной и революционной России он не мог реализовать свои честолюбивые планы стать профессиональным путешественником и поэтому страдал сверх всякой меры своей невостребованностью.
– Я, комиссар министерства по культуре и туризму, – представился Азазелло, – фамилия моя Киркин! – И словно прочитал мысли Варлена Егорова. – Вам предлагается сдать комнату с тем, чтобы отправиться в кругосветное путешествие!
– Как?.. – удивился Варлен Егоров, делая изумлённые глаза. – Прямо сейчас?..
– Да, – по-свойски мотнул головой Азазелло. – А чего тянуть?.. Я субсидирую ваш вояж на три года. Через три года вы можете вернуться и занять вашу же квартиру. Она будет забронирована на ваше имя на десять лет вперед.
– Какой счастье! – закричал растроганный Варлен Егоров. – Я и мечтать об этом не мог! Но у меня нет средств для такого путешествия! – испугался он.
– Не волнуйтесь, гражданин Егоров, – выступил вперёд Коровьев, изображающий революционного студента с потрескавшимися носками на туфлях. – Для этой цели мы выдаём вам деньги и аккредитив во всех банках Америки! – и потряс означенным баулом, который снял с плеча и с облегчением водрузил перед ошеломлённым Варленом Егоровым.
– А я поеду в Америку?! – изумился Варлен Егоров.
– Всенепременно! – твёрдо сказали они хором. – В Южную! А потом делайте, что хотите. Вами заключён договор с первым столичным революционным журналом в лице главного редактора Дукаки Трубецкого. Вы будете присылать ему свои путевые заметки, а он будет освещать ваше путешествие!
– Но так не бывает! – воскликнул растроганный Варлен Егоров.
– Бывает, – со всей определённостью заверил его Азазелло и выдал ему не только соответствующие документы, рекомендательные письма на семи языка, в том числе и на чамикуро, и пираха, что в дебрях Южной Америки, а и новенький заграничный паспорт, пахнущий типографией. – Езжайте в Одессу, там на пароходе «Изольда и Тристиан» вам забронирована двухэтажная каюта повышенной комфортности до Рио-де-Жанейро. Кстати, мой любимый город детства, – добавил он растроганным голосом. – Как только революция окончательно победит и народная власть станет истинно народной, я вернусь на родину и вас там непременно застану!
Азазелло достал батистовый платок, пахнущий шикарный французским одеколоном «Люкс», и прослезился.
Варлен Егоров ещё больше растрогался, накатал заявление на моментальное увольнение из проклятой типографии, которая ему давно встала поперёк горла, тотчас собрался и исчез. Надо ли говорить, что за год он исколесил всю и Южную и Северную Америку и наконец осел в поселке Ангикуни среди канадских эскимосов, но, к сожалению, пропал вместе с ними в ноябре 1929 года в эпическом похищении неизвестными существами межзвездного происхождения. Больше его никто никогда не видел.
– Ещё один! – радостно сказал Коровьев, закрывая вторую квартиру на замок.
– Приятно делать человеку приятное, – задумчиво высказался Азазелло. – Однако мы заработались.
И они, моментально переодевшись в привычную цивильную одежду, чтобы не выделяться в среде рабочего класса столицы, живо отправились пить пиво в ближайшую профсоюзную столовую печатников, в которую у них были специальные талончики для усиленного питания, а пиво они тайком наливали из большой баклажки, которую принесли с собой на длинном тонком ремне через плечо. И никто им не мог слова сказать или сделать поперёк замечание, несмотря на то, что на стенах висели огромные суперсуровые плакаты, на которых был нарисован благородный, как витязь, строгий, мускулистый пролетарий, выбивающий из рук худосочного, козлиноподобного существа кружку с пивом, а надпись снизу гласила: «Трезвость – норма жизни!»
Что же в это время делал кот Бегемот?
Он занимался религиозной агитацией. Да так успешно, что Марьяничиха из третьей комнаты, с густым фиолетовым синяком под левым глазом, моментально уверовала. А у её друга Иваныча вдруг прорезался бас-кантанте, и он стал петь псалмы, абсолютно не зная Псалтыря.
Кот Бегемот между тем оборотился в свой обычный человеческий вид с котелком, который любил не вовремя пропадать, положил левую руку на Библию и вещал твёрдым, квакающим голосом профессионального оратора, показывая правой лапой в облупившийся потолок:
– Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым всеми…
Потом они пили водку, закусывая гуляшом из требухи на льняном масле, и даже виртуозно играли на гитаре.
После этого кот Бегемот продолжал:
– Бога истинна, от Бога истинна, рождённа, не сотворённа, Единосущна Отцу, Им же вся быша!
Через три часа непрерывного чтения из Библии и других религиозных источников, Иваныч из пятой комнаты, с наколкой «круглого сироты» на безымянном пальце, заплакал, как дитя, чистыми, непорочными слезами Девы Марии, и был отправлен на Первый Московский ликёроводочный завод начальником дегустационного цеха, дабы бороться с алкоголизмом и тунеядством. Больше в живых его никто не видел.
А Марьяничиха из третьей комнаты, с густым фиолетовым синяком под левым глазом, вдруг по доброй воле в тот же час ушла босая в Реконьскую пустынь Новгородской области, где через три года сделалась самой ретивой в религиозном смысле настоятельницей, и её все боялись, аки огня.
– Итак… – сказал вечером Азазелло, укладываясь спать, – осталось две комнаты, четвёртая и шестая.
– Завтра… – сонно поддакнул кот Бегемот, – с божьей помощью!
И они уснули с чувством выполненного долга.
Утром же в пятидесятую квартиру грозно постучали трое при оружии. Надо ли говорить, что Азазелло был в кожаной революционной тужурку, и огромный правый карман у него нехорошо оттягивался под весом большого чёрного «револьвера» о семи патронах.
Коровьев же, изображая солдата, имел на себе шинель и папаху с красной лентой наискосок, в руках он воинственно держал винтовку с примкнутым русским штыком весьма острым даже на взгляд.
Третий из них страшно смахивал на обычного кота, но в красной, революционной кепке шофёра, в крагах на кошачьих лапах, а также с дивной революционной наколкой на драном хвосте.
Они вломились в шестую квартиру, где проживал студент-геолог двадцати одного года, Ерофей Огурцов, предъявили ему ордер на арест, надели наручники и вывели под конвоем, чтобы посадить в машину, именуемую в простонародье «чёрным воронком», и повезли в Бутырскую тюрьму, что в Тверском районе, на Новослободской улице. Однако, не проехав и квартала, машина сломалась. Кот Бегемот, которому особенно хорошо удавалась роль шофёра ОГПУ вышел, пнул колесом и сказал с огорчением:
– Пробили, сволочи!
Трудно было понять, кого он имел в виду: то ли местную шпану, то ли супостата покруче, замышлявшего недобрые дела против рабоче-крестьянской власти. Из глаз у него с укором и сухим треском, как бенгальские огни, посыпались искры неподдельного пролетарско-кошачьего возмущения. За ним, кряхтя, вылезли: Азазелло в кожаной куртке и Коровьев с винтовой наперехват с примкнутым штыком.
– Что будет делать? – подмигнул тугодуму Коровьеву Азазелло.
– Здесь мастерская недалеко, – громко молвил кот Бегемот. – Но один я колесо не допру!
Коровьев сообразил, что от него требуется:
– Я пойду с тобой! – заявил он таким же громким театральным голосом, словно обращаясь в зал, к зрителям в театре Мейерхольда, чтобы в свою очередь с пониманием подмигнуть Азазелло.
И пошёл.
Ерофей Огурцов сообразил, что это его единственный шанс. Когда комиссар в тужурке наклонился, чтобы якобы закурить, он тихонечко выбрался с заднего сидения и побежал, что есть мочи, словно это был его последний, как в глубоком детстве, забег, когда он ловко играл во дворе в «казаков-разбойников».
– Стой, каналья! – закричал Азазелло. – Стой! – И для острастки пальнул три раза в воздух.
Надо ли говорить, что одно это придало Ерофею Огурцову ещё большее ускорение по каким-то закоулкам-переулкам, буграм и канавам, и как уж, но скользнул в Голосовой овраг.
Ерофей Огурцов тотчас направил стопы к своему приятелю в гараж, где освободился от наручников и в тот же вечер на перекладных бежал из первопрестольной аж до самого Приморья, где стал начальником геологической партии и всю жизнь провёл в скитаниях и походах, ежечасно ожидая ареста, но годы шли, а за ним не приходили и не приходили, и постепенно он успокоился и даже женился на дочке местного вождя удэгейцев Акуанде, и пошёл род Огурцовых в далёкую сахалинскую сторону.
С Захаром Чучмарёвым дело оказалось сложнее.
– Я знаю, что вы задумали! – с хитростью спутал им все карты. – Завладеть квартирой! Правильно?
Захар Чучмарёв был тем самым последним извозчиком Москвы, о котором писали все газеты столицы, и до самого последнего дня, когда его перестали нанимать, не хотел расставаться со своим экипажем и лошадкой «Зеброй». В некотором смысле он даже был знаменит, но не узнаваем в толпе, потому всё своё хозяйство продал цыганам в Ордынской слободе и начал пить.
– Правильно! – кивнул Азазелло. – Как догадался?
– А здесь и догадываться нечего. Квартира-то пустая! И Марьяничиха и Иваныч не дерутся! – открыл он им глаза. – Эхо гуляет! Без отступного не уйду!
– Сколько же ты хочешь? – спросил Азазелло, приготовившись умертвить его одним из тех тайных, неземных способов «отнесённой смерти», которые в милицейской среде называется «висяк».
– Пять бутылок водки! – здраво подумал Захар Чучмарёв.
– Не-а… – с облегчением усмехнулся Азазелло. – Пять мало! Семь достаточно!
И они сели пить всей компанией. Вечером по пьяни Захар Чучмарёв залез на Шаболовскую телевизионную башню «Радиокомпании Коминтерна» и кричал оттуда благим матом «Боже, царя храни!» Его снимали три бригады альпинистов. Как только его ноги коснулись земли, его арестовали, препроводили в суд, где он получил три года заключения на магаданском мелкосопочнике «за белогвардейскую агитацию и за мелкобуржуазное поведение на башне Коминтерна», как было записано в его сопроводительном деле.
***
У Булгакова вдруг появилась тёмная сторона вопроса: Елена Сергеевна даже слышать не хотела о разводе со своим доблестным генералом, и Булгаков вначале не понимал, почему? Почему они живут как муж и жена уже полгода, а не женятся, как все нормальные люди?! Елена Сергеевна вовсе не желала уступать, как он её ни упрашивал, и даже злилась из-за его навязчивости, что было ей несвойственно от природы тихого и мягкого характера.
– Нет! – говорила она в указующей жесте Цирцеи, – как это будет выглядеть для Сабаневского. Его карьера… а дети… в чём они виноваты?.. В чём?!
Её мягкие, ласковые глаза на какое-то мгновение становились жёсткими, и Булгаков вынужден было соглашаться, понимая, что она трижды по три раза права:
– Ни в чём… – мрачно сворачивал он разговор.
– Но ведь и ты несвободен… – напомнила она о его закоснелом во всех смыслах браке с развратной Ракалией, как о старой болячке под заскорузлой коркой воспоминаний.
Это уже потом он сообразил, что она возьмёт своё втридорога за знакомство с лунными человеками, совершено не предполагая, что за ней стоит Герман Курбатов, главный инспектор по делам фигурантов такого уровня, как Булгаков. По закону Булгаков не мог жениться, пока Ракалия разъезжала по степям и весям огромной страны на своей жёлтой «торпедо». И был наивен в чистосердечии до крайнего неприличия приличного человека.
Он и думать забыл о Ракалии и давным-давно считая себя свободным, их связывал только штамп в паспорте, который портил ему настроение, всякий раз, когда он заглядывал в него. Вопрос развода можно было решить в течение суток, но сил не было заниматься этим вопросом. Да и где эта Ракалия? Где? Должно быть, в солнечном Крыму вишню собирает, как всегда, саркастически думал Булгаков.
– Действительно… – покорно, как барс в клетке, согласился он, отворачивался к стене, на которой висел ковёр с оленями.
Потом он шёл на кухню и выпивал рюмку водки ни сколько для того, чтобы опьянеть, сколько для равновесия духа, чтобы забыться и перенестись в свой счастливый литературный мир, полный грёз, и садился писать.
«Миша даже не представлял, какой я была в детстве и юности. У меня были сплошные комплексы. Я не могла общаться с людьми, они меня раздражали, я не понимала их: мне трудно было оценить значение их слов, мне казалось, что в них масса подтекстов, а у меня не было точки опоры, и я здорово мучилась. Юре Неёлову я благодарно за то, что он сумел разглядеть во мне личность. Но даже первое замужество не решило всех моих проблем, и только Сабаневский и рождение детей сделало то, чего мне не хватало от природы. Но… увы, только на время. Слава богу, тут и возник Миша. С его появление я обрела душевное спокойствие и равновесие духа. Он стал моим ангелом-спасителем, он словно знал обо мне то, чего не знал больше никто другой.
Его имя трепали в каждой газетёнке. Он говорил о неких лизоблюдах, которые докучают его, где угодно, куда бы он ни ступил и куда бы ни поехал. И я очень боялась за него, не в том смысле, что он наложит на себя руки, а в том, что он вспылит, наговорит на людях непотребное и его арестуют. В июле этого года я вынуждена была поехать «на Кавказ», «на воды», в Ессентуки. Рюрик достал путёвку и был категоричен: «Тебе надо отдохнуть! У тебя тени под глазами!» Если бы он только знал о природе их происхождении! Сам он со мной быть не мог по причине службы. А Миша тут же капризно заявил:
– И я с тобой!
– Ни в коем случае! – остудила я его пыл. – Санаторий военный, все друг друга знают в лицо. Сразу донесут.
– А может, я на квартире где-нибудь остановлюсь?.. – пал он духом, сделал плаксивую физиономию, как он умел, ровно настолько, чтобы разжалобить меня.
– Не будем рисковать, – заметила я сердечно. – Тем более, что через три недели я вернусь к тебе помолодевшей и похорошевшей.
– Ну разве что… – горестно вздохнул он, но я-то знала, что это честная и благородная игра, без прикрас и кокетства.
И уехала. Он даже не мог проводить меня, честно и открыто, как подобает влюблённому мужчине, а стал писать вслед письма, самые нежные и добрые в моей жизни. Не успела я вселиться, как мне тут же вручили первое из них с сухим цветком внутри. По привычке к мистификации он подписался женским именем – Розалия Патрикеевна. Он стал мистифицировать с горя, потому что утратил прямой контакт со своими лунными человеками и таким образом хотел вернуть их расположение. Конечно же, они никуда не пропали. Куда они пропадут с подводной лодки? Они просто перестали поддерживать его в открытую и перешли к тактике изнурения, чтобы он снова взялся за «Мастера и Маргариту», от которых его уже тошнило. Он писал мне: «Я на грани нервного срыва. МиМ убивает меня изо дня в день одним только своим существованием!»
Мне было смешно и горько. Наши отношения были уже не детскими играми. И впервые подумала, что надо на что-то решиться. Вечно так продолжаться не могло: я здесь, он – там, и мы даже не можем встречаться на людях.
Миша патологически любил наживать себе врагов.
Однажды к нам в гости нежданно-негаданно явились Юлий Геронимус и Дукака Трубецкой. Разумеется, я не видела их никогда в жизни, но сразу узнала по описанию Миши.
Один был чрезвычайно плотный, квадратный, как слон, имел огромный медвежий нос и плоский затылок с фирменным вихром на макушке. Больше всего он походил на Змея Горыныча из русских сказок.
Второй же маленький, тщедушный, с петушиной головой и с козлиной бородёнкой, имел фарфоровые зубы и приплюснутый нос драчуна. Миша говорил: «Нос сифилитика». А ещё он утверждал: «Это тот человек, кем хотел бы стать Юлий Геронимус». «Почему?» «Потому что думать не надо!»
Мне пришлось спрятаться в спальне. Я слышала их голоса, иногда подглядывая в щёлочку.
Вначале они спорили, потом мирились. Потом снова спорили и снова мирились. И так три раза кряду. Воздух накалился, как вулкан.
– Ты не понял меня! – кричал слоноподобный Юлий Геронимус, ворочая плечами, как паровоз колёсами. – Я желаю тебе только добра!
– Ничего себе «добра»! – перебивал его Миша. – Твои статейки остановили мои пьесы.
– Нет!
– Совпадение! – вмешался второй, тщедушный, Дукака Трубецкой, которому, по словам Миши, хитрость заменила ум. – А что мы могли! Что?!
И выпячивал тщедушную челюсть с фарфоровыми зубами, которые ему совершенно не шли, его бы больше украсили три кривых кариесных зуба, торчащих вперёд, как у акулы.
– Что угодно, но не топить меня! – вскочил Миша.
Я думала, он их убьёт!
– Сядь! Сядь! Да… если учесть, – жалобным голосом вскричал Юлий Геронимус, – что нам спустили директиву!..
– Кто?.. – делано изумился Миша, шатаясь, словно пьяный, и плюхнулся на место.
Но и так было ясно, кто: тайные подпевалы великого. Яснее не бывает, а его имя боялись произнести всуе.
– Известно, кто! – ушёл от ответа Юлий Геронимус, давая понять, кто из них троих идиот.
– Секретный отдел ОГПУ! – крикнул петушиный голосом Дукака Трубецкой и некстати блеснул зубами. – Вот кто!
– Молчи, дурак! – оборвал его Юлий Геронимус, испуганно оглянувшись по сторонам.
– Никто ничего не услышит, – насмешливо приободрил их Миша. – Это старинный особняк. Здесь стены полтора аршина.
– Всё равно светиться не надо, – резонно заметил Юлий Геронимус, одарив Мишу тяжёлым взглядом бывалого человека. – И у стен есть уши!
– Да уж… – иронично согласился Миша, – дожились!
– Будешь пить? – настырно спросил Юлий Геронимус.
– Буду, только не ваш палёный коньяк, а вино! – заявил Миша.
– Вольному воля, – как показалось мне, хитро согласился Юлий Геронимус.
Я поняла, что за эти годы Юлий Геронимус естественным образом потерял зависимость от Булгакова и стал втройне опасен. Но Миша был беспечен, как всякий настоящий мужчина.
Вдруг Дукака Трубецкой повёл носом и объявил, ввинчивая палец в потолок:
– Женщиной пахнет!
Юлий Геронимус вопросительно скосился на Мишу:
– Ты прячешь Белозёрскую?..
– Никого я не прячу! – нервно возразил Миша, невольно бросив взгляд в сторону спальни и выдав себя с головой.
– Не может быть! Это точно она! – решительно поднялся Юлий Геронимус, как слон в посудной лавке.
Мне пришлось выйти. Я сделал вид, что спала.
– О! – удивился Юлий Геронимус, выпучив, кофейные, как у негра, глаза, и демонстративно поцеловал мне руку. – Почем такой бриллиант?..
– Не твоё дело! – оборвал его Миша и нехорошо посмотрел на меня, мол, теперь всё пропало!
Дукака Трубецкой сально засмеялся:
– Булгаков, как всегда, в ударе!
Миша заревновал:
– Иди сюда!
И усадил рядом с собой подальше от Дукаки Трубецкого и Юлия Геронимуса, налив мне белого вина.
– Не пей вина! – попробовала я. – Оно отравлено!
Я произнесла это чисто интуитивно, словно от «тихих мыслей» лунных человеков.
– Да что ты! – возразил Миша и нарочно сделал большой глоток, мол, я никого не боюсь!
Я вспомнила, что у него насморк и что он не чувствует запахов, однако вино явно пахло мышами.
Юлий Геронимус поднялся с надутым лицом:
– Вы что, намекаете на нас?!
Лицо у него превратилось в маску клокочущего возмущения.
– Нет, конечно! – вспылила я. – Но в этом вине плавала мышь!
– Не может быть! – закричал Дукака Трубецкой. – Оно из магазина!
– Мы уходим! Вы нас оскорбили! – К моему удивлению, заявил Юлий Геронимус.
Они вышли, словно верховный суд, не оглядываясь, полные важности, как падишахи. Мише стало плохо буквально через минуту. Он начал задыхаться и хватать ртом воздух.
– Надо вызвать скорую! – схватилась я за телефон.
– Не-е-е… на-до-о-о… Посмотри там… – попросил Миша, – справочник по растительным ядам… Найди словосочетание «запах мыши»…
– Это болиголов, – прочитала я.
– Посмотри антидот, – простонал он явно через силу.
– Молоко с марганцовкой!
– Делай! – велел он.
И выпил три стакана кряду. Ему сразу полегчало.
– Почему они меня ненавидят? – спросил он с облегчением, угнездившись на диване.
– Потому что не могут до тебя дотянуться! – ответила я ему.
– Как это?.. – наивно удивился он.
– У них планка по щиколотку, а у тебя – на тридцать три метра выше!
– И это повод?.. – удивился он, очевидно, полагая, что собратья по перу должны терпеть гениев просто так, из любви к литературе.
– Ещё какой! Их много, толпа, а ты один, вот они и сбиваются в стаи.
– Что же мне делать? – жалобно посмотрел он на меня, мол, я ни сном ни духом и не хочу быть причиной чьих-то душевных страданий.
– Ничего, – легкомысленно сказала я. – Пиши романы. Прихлопни их, как муху!
– Одним ударом семерых! – рассмеялся он.
Я подумала, что Юлий Геронимус который всю жизнь, по рассказам Миши, пытаться разгадать его тайну, перешёл к мелким пакостям в газетах.
Однако события развивались совсем не так, как мы предполагали. В конце ноября Рюрик без стука вошёл в мою комнату и сказал:
– Дарью я уволил!
– А как же обед? – удивилась я, но как только взглянула на него, всё поняла: на нём лица не было, оно было каменным, как у Гоголя в конце Пречистенского бульвара.
– Найдёшь другую прислугу! – резко ответил он и победоносно вскинул голову, словно вглядывался в дальнюю даль.
Я поднялась, запахивая его любимый розовый пеньюар:
– В чём дело?..
Хотя можно было и не спрашивать.
– Я пригрел на груди змею!
– Ах-х-х… вот, что ты имеешь в виду, – сказала я абсолютно спокойно, понимая, что он в бешенстве.
Его глаза метали молнии. А рот был перекошен, как будто от хинина.
– Ты воспользовалась моей бесконечной любовью к тебе!
— Мы даже не спим вместе! – напомнила я ему, впрочем, весьма мягко, чтобы он не разбушевался, хотя я никогда не видела его в бешенстве.
– Тебя только это интересует! – отрезал он, полагая, что больно ущемит меня.
На больше, слава богу, он не был способен. Его польские корни приспособленца давали о себе знать.
– Если бы только «это»! – сказала я многозначительно, намекая на наше духовное охлаждение.
В этой жизни он любил только самого себя. Ему нужна была служба и тыл: дом, семья, красивая жена и умные дети. Единственно, чего у него не было, это полёта. Он был приземлён, как все вояки. Что требовать от человека, который привык жить по уставу?
– Ты воспользовалась моим бесконечным доверием к тебе! – снова начал он любить себя. – Я считал тебя маленькой девочкой… а ты!…
Я знала его слабую сторону. Он не был героем и видел во мне только свой собственность. Теперь этой собственности не было, поэтому он и сбесился.
– Представь себе, я уже давно выросла!
– Господи! – вознёс он руки, – если бы я только знал тогда…
– Когда?
– Когда женился на тебе!
Я поняла: он как взял одну ноту тогда, когда женился на мне, так и держал её, не замечая ничего вокруг.
– Прекрасно! – сказала я. – Я ухожу от тебя!
– К этому писателишке?!
– Не твоё дело! Я не твоя вещь!
– Хорошо!.. – холодно сказал он. – Уходи. Но детей ты не получишь!
– Ты не имеешь право!
– Я подам в суд и докажу, что ты асоциальна!
– У тебя ничего не выйдет!
– Выйдет! – заверил он меня. – И ты это знаешь!
Я поняла: из-за того, что он генерал и у него больше сил.
Он с хрустом развернулся на каблуках и вышел. Я услышала хорошо знакомые мне звуки, как он надевает на себя шинель, словно влезает в шкуру медведя.
– Ты куда?! – встревожилась я.
– Еду, чтобы застрелить мерзавца!
Он показал мне свой армейский пистолет.
– Ты этого не сделаешь! – загородила я ему дорогу.
– Я не хочу, чтобы моя маленькая девочка, попала в лапы этому подонку!
Я засмеялась. Кажется, истерически!
– Я люблю, как ты сказал, этого подонка!
– Давно?! – замахнулся он.
Я закрыла глаза.
– Очень давно, чтобы разобраться в своих чувствах!
– Люби на здоровье! – закричал он в исступлении. – Покойников тоже можно любить! – И, отшвырнув меня, выбежал из квартиры.
Я бросилась к телефону:
– Миша! Он убьёт тебя!
– Что он с тобой сделал?!
– Ничего! Я жива и здорова! У него пистолет! Он поехал к тебе!
– Ты ему сказала, что мы хотим пожениться?
Хотя всё было наоборот, мы даже поссорились на этой почве.
– Да! Но он не отдаёт детей!
– Надо подумать… – сказал Миша абсолютно спокойным голосом. – Такие вопросы в бухты-барахты не решаются!
– Ты уверен? – я тоже успокоилась.
– Разумеется! – ответил он. – Надо подождать! Ты сможешь ждать?
– Сколько? Год-два?
Кажется, я пала духом.
– Сколько понадобится! – ответил он так жёстко, что я даже обиделась. – Если наши чувства сильны, он проиграет в любом случае!
– Но он убьёт тебя!
– Можешь не волноваться! Не убьёт!
И я поняла, что лунные человеки и Герман Курбатов не допустят этого».
И действительно, начальник департамента «Л», главный инспектор по делам фигурантов Герман Курбатов, а по совместительству полковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, немедля вызвал кураторов писателя Булгакова и поставил их по стойке «смирно».
Ради такого случая Ларий Похабов сменил правый стеклянный глаз на вполне живой и зрячий, ибо не было нужды пугать и вводить кого-либо в заблуждение.
– Где вы шляетесь?! – грозно спросил Герман Курбатов, угрожая им вивисекцией, трепанацией и диссоциативной фугой.
– Ваша честь… – скромно выступил вперёд Ларий Похабов, – мы в курсе дела предстоящего конфликта…
– Что-то незаметно! – молвил Герман Курбатов так, что господа инспекторы поёжились и стали быстренько вспоминать все свои прегрешения и заходы налево. – Мне всё время приходится исправлять ваши косяки!
На самом деле, Герман Курбатов испугался того, что Булгакова элементарно убьют, а он, между прочим, вообще ничего стоящего не написал, так что Елена Сергеевна вряд ли справится с его черновиками, и дело не выгорит. А этого допустить было никак нельзя, ибо в России, положа руку на сердце, на тот момент не было более подходящей кандидатуры мистического толка, чем Булгаков. Гоголь вот уже почти семьдесят восемь лет лежал в земле. Оставался один Булгаков. Все остальные русские писатели, занятые элементарным выживанием и политическими дрязгами, не то чтобы не тянули на эту должность, но даже не понимали сути проблемы, не говоря уже о литературном даре. Ближайший писатель такого же уровня, продолжатель Бунина, должен был появиться на свет не раньше середины века. Ждать не имело смысла. Надо было всеми правдами и неправдами доводить проект до конца. А никто не обещал, что будет легко, укорил сам себя главный инспектор по делам фигурантов Герман Курбатов, и взял себя в руки.
– Мы как раз… – робко сказал Ларий Похабов, оглянувшись за поддержкой на бледного-пребледного Рудольфа Нахалова, у которого от страха подгибались коленки, – собрались выдвигаться…
– Что же вы намеревались делать?! – с ударным окончанием на последнем слове спросил Герман Курбатов, и оба поняли, чтобы они ни ответили, всё будет плохо и никуда не годящееся.
– Вмешаться и… предотвратить убийство… – неуверенным тоном ответствовал Ларий Похабов, но взглянув на свирепое лицо Германа Курбатова, добавил столько же неуверенно: – Может быть… тогда… – он подумал, что, может быть, настало время избавиться от Булгакова через дуэль?..
– Вы что, совсем спятили?! – сорвался на фальцет Герман Курбатов. – Никаких «может быть»! Думать надо, что несёте! – упрекнул он их со всей очевидностью главного инспектора. – Мне не по чину! А вы отправляйтесь! Надеюсь, вы справитесь?!
И бедные господа кураторы, которые поняли, что в противном случае им грозит отставка и забвение без выходного пособия, мгновенно испарились, дабы переместиться в квартиру Булгакова и произвести рекогносцировку.
Булгаков как раз надевал чёрный, соответствующий ситуации костюм, белую рубашку, чёрную же бабочку и думал: а не воспользоваться для пущего эффекта моноклем, дабы сокрушить решимость противника в зачатке и по всем фронтам без оконечностей. Да, но если он кинется драться, решил Булгаков, то монокль будет явно лишним; и ограничился лаковыми ботинками на тонкой подошве, но с острыми носками, которыми можно было ловко пнуть противника в копчик.
В довершении ко всему, он побрызгался французским одеколоном «Наполеон» и почистил зубы.
Ларий Похабов встал справа от двери, Рудольф Нахалов – слева. Булгаков их естественным образом не видел, а на запах окалины из-за суеты и обнажённых нервов забыл обратить внимание.
Сабаневский явился словно отчаявшийся дуэлянт: с пистолетом в правой руке и снежком в левой, которым освежал себе лицо, дышащее жаром вулкана.
Снег таял и, собираясь в капли, падая у него с подбородка.
– И-з-звольте-е! – сказал он крайне нервно, когда Булгаков открыл ему дверь, – извольте… встать! У окна!
– Пожалуйста! – отозвался Булгаков и развёл руками в знак: «Как прикажете».
И его голос необычайно холодный, в отличие от яростного и едва сдерживаемого Сабаневского, подействовал на того отрезвляюще. Однако, если бы только так на самом деле, а то ведь Ларий Похабов всего лишь подул на Сабаневского охлаждающей энергией, а Рудольф Нахалов от избытка старания махал перед его лицом руками, как ангел крыльями, отчего капли воды заползли Сабаневскому за воротник, и он поёжился. Это-то и несколько отрезвило его. Он решил, что не стоит сразу убивать Булгакова. Вначале я его помучаю! – подумал он, – как он мучил меня все эти годы. Но чем больше он тянул, тем быстрее падала его решимость.
Булгаков отошёл к окну, повернулся лицом в Сабаневскому, решительно застегнувшись на все пуговицы и убрав руки по швам. Ни к селу ни к городу он вспомнил своего друга детства, Борю Богданова, который перед тем, как застрелиться, тоже тщательно оделся; и он де чуть ли не причина его смерти. Но это была всего лишь рефлексия на мысли Рудольфа Нахалова, который использовал любую возможность, дабы изменить течение событий. К тому же способность к прогнозированию у лунных человеков была на три порядка выше, чем у людей. Можно было говорить о том, что они читали по подложке, исходя из которой Булгакова должен был пронять животный страх смерти, чтобы не провоцировать Сабаневского на резкие действия, но что-то пошло не так, и Булгаков осталось равнодушным, как угол дома на Большая Пироговская, 35. Казалось, Булгакову всё равно, умрёт он сегодня или нет. Его холодные, белые глаза смотрели на противника не мигая.
Трижды Сабаневский поднимал тяжёлый табельный наган, трижды целился в сердце Булгакову и трижды опускал оружие. Потом со словами: «Не смотрите на меня!» окончательно отступился.
Но даже если бы он надавил на спусковой крючок, выстрела не последовало бы, потому что Ларий Похабов ловко, как всякий неземной маг, изымал из барабана как раз ту пулю, которая должна была выстрелить, а кроме этого он извлекал ещё и боевую пружину. Так что даже если бы барабан нагана провернулся на следующую пулю, то выстрела всё равно не произошло бы!
Сабаневский, как и Булгаков, тоже ничего не боялся. Он в своё время навидался всякого, не раз глядел смерти в лицо и по традиции времени давно должен был бы погибнуть из-за польских корней, даже несмотря на свою демонстративную преданность народной власти.
– Прекрасно! – сказал Булгаков крайне спокойно голосом Рудольфа Нахалова, который был специалистом по психологии людей. – Давайте устроим дуэль! Но у меня нет оружия!
– Что же мне ехать за наградным? – неожиданно для себя, закончив на высокой ноте, спросил Сабаневский, тут же сдав главный редут решимости убить Булгакова.
Булгакову показалось это забавным. Он вспомнил свою предыдущую дуэль и впервые подумал, что Юлий Геронимус и Дукака Трубецкой сваляли дурака, что они были в сговоре и что дуэль поэтому и не состоялась. А с ядом не получилось, и поэтому они донесли генералу о нас с Гэже, понял он, но ни злобы, ни желания мстить не испытал. Отныне к низким людям у него не было абсолютно никаких чувств.
– Может быть, назначить на завтра? – предложил он крайне беспечно, словно речь шла о воскресном пикнике с девушками и вином.
– Что значит «назначить»?! – возмутился Сабаневский. – Дело должно решиться сегодня!
Он боялся перегореть и таким образом предать Люсю (как он называл Елену Сергеевну) и самого себя, которого безмерно жалел в этой шальной, страшной жизни.
– Как изволите… – сказал Булгаков, однако не выдавая своего облегчения.
– Ладно… – чуть заметно успокоился Сабаневский, ища куда бы присесть, – вы, между прочим, у меня жену увели!
– Пожалуйте, – указал Булгаков на кресло, сидя в котором, обычно писал романы.
Сам же сел на стул у окна, откуда ему хорошо было видно лицо Сабаневского.
– Я люблю Елену Сергеевну. Она любит меня. Мы хотим пожениться.
– Да! Но вы понимаете?.. – жалко спросил Сабаневский.
Он вдруг вспомнил, что Люся похорошела с полгода назад и приписал это себе, потому что дарил ей дорогие подарки и огромные букеты жёлтых роз. А оказалось, что причиной всего этого вовсе не он и что всё совсем не так. И с ненавистью поглядел на Булгакова.
– Понимаю… – в тон ему ответил Булгаков, ничуть не смутившись.
Он уразумел, что для Сабаневского это кошмар, обман, переворот всей жизни! Но ничем помочь не мог.
– Нет! – оборвал его Сабаневский, возвращаясь ещё в пущее состояние обозлённости.
Сабаневский, который боготворил Елену Сергеевну с того само момента, когда впервые её увидел в Смоленске в начале двадцать первого года, хотел высказаться о своей душевной боли, как он крепко любит свою жену, и готов любить до конца дней своих, но, взглянув на Булгакова, понял, что будет выглядеть глупо в его глазах, что Булгаков человек без совести, жалости и страха. Таким казался ему Булгаков в своей бабочке и чёрном костюме. Что-то мефистофельское было в нём, как образ злого духа. Ну да, да… подумал Сабаневский, он же писатель, стало быть, связан с ним!
– Со мной такое уже было… – вспомнил Булгаков Ракалию, о том, как она ловко наставляла ему рога с Юлием Геронимусом, но вместо злости испытал лишь одно большущее равнодушие.
– А со мной нет! И я в ярости! – поведал Сабаневский, но не стал раскрывать душу, ибо, оказалось, что его любовь-покровительство ничего не значила для Елены Сергеевны, а значит, она его безжалостно предала!
В свою очередь, Булгаков догадался, что Сабаневский чего-то не договаривает, скорее всего, того, что Гэже не на его стороне, а это была уже маленькая победа.
– Спрячьте оружие и поговорим, как нам выйти из этого положения! – предложил Булгаков.
– Никакого «положения»! – вскричал Сабаневский, однако наган убрал. – Я вам запрещаю видеться с моей женой! Только при этом условии я гарантирую, что она будет счастлива с детьми в семейном кругу.
– Да… конечно… – согласился Булгаков, однако решил поспорить из-за упрямства. – Но у Елены Сергеевны должен быть выбор. Вы, полагаю, не хотите сделать её несчастной до конца дней её?
– Мы сами решим этот вопрос! – резко, чтобы скрыть отчаяние, ответил Сабаневский. – Ваше мнение меня не интересует!
– Как вам будет угодно, – согласился Булгаков и у него мелькнула «тихая мысль» о том, что они с Еленой уже выиграли и что надо просто подождать.
– Я могу отослать её… – словно прочитал его мысли Сабаневский, – если вы не прекратите свои домогательства, к родственникам в Польшу.
И даже себе не поверил, ибо проект этот по многим причинам осуществлён быть не мог, и главными из них были политическая ситуация и его положение не особенно твёрдое в свете ареста ВЧК в девятнадцатом и спасение благим чудом. Это было всё равно, что расписаться в нелояльности к советской власти, что было крайне опасно и чревато трибуналом. Дальние же родственники, седьмая вода на киселе, его знать не знали и знать не хотели. Связь с ними была утеряна ещё со времён Костюшко, когда предки Сабаневского бежали в Россию.
Булгаков понял, что его банально пугают. Ему стало весело, но он не подал вида.
– Давайте сделаем так… – сказал он, намеренно делая генералу одолжение. – Утро вечера мудренее. Завтра вы примите окончательное решение. Можете мне его не сообщать. С вашей женой я больше видеться не буду. Я вам обещаю.
Он знал, что переиграл Сабаневского по всем статьям, ибо в любви к Елене Сергеевне и крылся залог их счастья.
И действительно, они больше не виделись и не звонили друг другу так долго, что Булгаков начал горевать: лежал, уткнувшись в стену, рисовал на ней пальцем узоры и представлял Гэже, то обнажённую, то в прозрачной ночной рубашке, в общем, во всех тех видах, когда она больше всего волновала его.
То, что Елена Сергеевна с лёгкостью ушла от первого и второго мужа, говорило о том, что она женщина с изъяном. Но я ставлю себе это на пользу, с беспечной легкомысленностью думал Булгаков, самодовольно улыбаясь в темноте, понимая, что они связаны не земными, а божественными силами, теми силами, которые просто так не даются судьбой, и это высшее.
С тех пор у него тонко и изысканно побаливала правая нога в том месте, куда он колол себе морфий.
Ларий Похабов и Рудольф Нахалов перепугались: не одно так другое, не дай бог, рецидив, не дай бог, узнает Герман Курбатов, головы полетят, как кегли. Если у них ещё теплилась какая-то надежда насчёт злополучного романа века, написанный хотя бы наполовину, потому что треть никого не устраивала, то теперь надежда таяла со скоростью геометрической прогрессии.
Они перепробовали все способы, начиная от третьего глаза, венца вокруг головы и незатейливых вихрей на макушке, ничего не помогало. Булгаков просто не обращал на их ухищрения никакого внимания, а горевал себе всласть, то напиваясь до бесчувствия, то голодая по трое суток, то с головой ныряя в нуднейшую театральную работу до одурения.
Они прятали стерилизатор со шприцом, иглами и пинцетом и саму бутылочку с морфием. Булгаков бродил по квартире, как сомнамбула, но находил спрятанное одним известным ему чутьём.
Поднаторел, кривился Ларий Похабов, но в душе испытывал гордость за то, что Булгаков при минимуме информации и средств природы обучался на лету тому тайному искусству интуиции, которым владели всего-то два-три процента людей во всём мире.
Тогда они пошли на хитрость. Договорились в пятом управлении медицинского обслуживания, и им по блату и под предлогом лечебной манипуляций выделили вагон дюже дефицитной энергии. И однажды ночью квартира Булгакова была наполнена ею от пола до потолка, и все вещи в ней теперь выглядели словно сквозь толщу воды. Лунные человеки насылали на Булгакова тяжёлый сон, и он пребывал в таком состоянии до утра, пока первые лучи солнца не разрушали энергию и не освобождали Булгакова из оцепенения. Но на третий сеанс случилась катастрофа. Булгаков проснулся среди ночи и завопил от ужаса. Вся энергия моментально испарилась.
Булгаков, бегая по квартире, кричал, вглядываясь в тёмные, мрачные углы комнат:
– Я вам ни какая-нибудь подопытная зверюшка! Я не хочу умереть от рака лёгких или поджелудочной железы!
Тогда они его ещё раз обхитрили, не желая ввязываться в дискуссию на медицинские темы: неожиданно зазвонил телефон, и Булгаков с вожделением страждущего услышал долгожданный голос Гэже:
– Ты ведь любишь меня, дорогой?..
Хотя Гэже никогда не называла его холодным словом «дорогим», эту тонкость Булгаков в ажиотаже пропустил мимо ушей.
– Да!!! – радостно закричал Булгаков. – Да!!! Сто тысяч раз да, да, да!!!
– Тогда сделай так, как от тебя просят. Хорошо?
– Хорошо… – покорился он и уже не вскакивал посреди ночи и не бегал, как полоумный, а лежал и сквозь веки наблюдал, как квартира наполняется энергий, словно водой из ведра.
Через месяц сеансов он стал чувствовать себя всё лучше и лучше и наконец с отвращением смотрел на бутылочку морфия. И Рудольф Нахалов убрал её от греха подальше.
***
Однако как бы ни были хороши лунные человеки, им не удавалось решить главную проблему: тоски и одиночества не только из-за того, что Булгаков не видел Елену Сергеевну, но и потому что занимался тем, к чему у него абсолютно не лежала душа – театром, либретто и другой прочей мелочёвкой, которую он сочинял опричь души одной задней левой и которая по определению не могла заменить ему литературы. Ему казалось, что его нарочно сунули в театр в назидание всем другим выскочкам, и он всё больше и больше чувствовал себя изгоем общества, человеком, которого использую не по назначению таланта, а как простого работягу от пера, понизив его статус до гострайтера; и бросил писать вовсе, с отвращением погрузившись в болото театральной жизни с её дрязгами, интригами и сплетнями, чтобы только заработать на хлеб насущный, быть, как все, и дождаться Елены Сергеевны.
Ах, как были рады этому обстоятельству Юлий Геронимус и Дукака Трубецкой. Уж они прямо-таки резвились от удовольствия и радостно кричали то там, то здесь в окололитературных кулуарах, делая многозначительное лицо:
– А наш-то… наш-то… ха-ха-ха… – хватались за отвислые животики.
– Кто?! Кто?! – спрашивали подпевалы, с жадным любопытством фигляров, распахивая рот с вставными челюстями и катарной гнилью.
– Легковес! Гений пера, разумеется! – переходили они в тональность качественного назидания.
– Да кто, господи?! – подпрыгивали от нетерпения, теряя рассудок.
– Булгаков… кто ещё! – раскрывали они глаза на суть таинственных вещей, в которых абсолютно не разбирались.
– А-а-а… – вспоминали с ухмылкой маразматика, – этот?.. стилист… морфинист… вот скотина!
– Ну да-с, господа-а-а! «Гамбургский счёт», господа-а-а! Теперь на нашей улице праздник! – соглашались они с просветленными лицами. – Исписался, бедняга! Ис-пи-сал-ся! Сошёл с ковра не по своей воле! – задирали палец и делали выразительную паузу с намёком на вполне земные силы, иезуитски вздыхая, забыв, что не стоят и строчки его прозы и что совсем недавно пытались его отравить и даже сгубили его личную жизнь, а теперь приплясывали на костях его литературы и беспрестанно лицемерили, полагая, что Булгаков пал, пропал и не возродится ни в кои веки. Однако встреч с ним всячески избегали, боясь осложнений, как все опытные фарисеи, дабы ещё прочнее утвердиться в своей позиции праведника, ибо не знали одного, что есть вещи, которые творятся закулисно и за которыми людям наблюдать не дано и даже догадываться не стоит, но последствия которых весьма страшны своей предопределённостью.
Впрочем, Булгакову было не до них. Он давно уже понял, что все друзья от литературы, которые плелись с тобой рядом, когда ты был безызвестен, за редким исключением, – сплошные завистники и двурушники, и только рады подставить подножку. Поэтому он ни с кем не общался и выискивал встречи только с его любимой и ненаглядной Гэже.
У него появилась ежедневная привычка в сумерках уходящего дня вскочить на подножку трамвая № 47, долететь до поворота на Кропоткинской и перескочить на № 43, но так, чтобы прямо на ходу и под его перестук и треньканье, добраться до Арбата, где уже было рукой подать до сквера, что на Поварской улице. Он очищал снег на «своей» лавочке, возле чёрных зарослей «своей» сирени. Садился, нахохлившись, как ворона, представляя, что Гэже сейчас выйдет, просто так, случайно, с детьми. Ведь должна же она когда-нибудь гулять, справедливо рассуждал он, и ждал, и ждал, как школьник своей первой любви, пока мороз не прогонял его с насиженного места. Тогда он брёл назад, потому что было поздно и трамваи уже не ходили. Приходил, растапливал печь, смотрел на пламя, которое крайне недружелюбно и, можно сказать, садистски уничтожало его рукописи, и садился работать, когда стрелки на часах становились «на караул», а потом засыпал, уронив голову на рукопись, и ему снилась Гэже тонкой, воздушной ночнушке.
Но однажды, когда он уж совсем замёрз и собрался было с безнадёжностью утопленника топать домой, от угла дом, в которой жила Гэже, отделилась фигура и покатилась как колобок. Он с полным безразличием наблюдал за ней, пока она не приблизилась и не спросила с волжским говорком:
– Вы будете писатель Булгаков?..
– Да… – спохватился он дрогнувшим голосом и вскочил, как перед высоким начальством.
– Вам письмо… – протянула она.
И он схватил его так, словно это была та единственная соломинка, которая выпала на его судьбу.
Женщина была маленькая, толстая, да ещё обвязанная по-деревенски крест-накрест клетчатым платком. Из-за этого глаз её не было видно, одни плоские губы.
– Барыня сказали, чтобы вы больше не приходили, а то простынете.
– Да, – восторженно согласился он. – Как она?..
– Болеют…
– Что с ней?! – испугался он.
– Думали, чахотка, но бог миловал, – степенно ответила женщина.
– Чахотка… – как эхо повторил он и подумал, что это всё из-за него, непутёвого.
– Мне строго-настрого запретили разговаривать с посторонними Я из-за вас места могу лишиться, – горестно поведала женщина.
Булгаков, сообразив, сунул его в варежку последние пятьсот рублей.
– Ой, спасибо, барин, – пожелала поцеловать его руку.
Он брезгливо выдернул.
– Храни вас господи! Мне на Молчановку, в магазин ведь надоть! – и покатилась себе, как мячик.
Он живо вернулся домой и только тогда при электрическом свете прочитал письмо Гэже.
Она писала: «Милый, милый, Миша! Я догадалась, что ты приходишь в сквер. Я так страшно скучаю. Я знаю, ты – тоже. Дашу уволили. За каждым моим шагом следят. Из дома я одна не выхожу уже три месяца. Декабрь с детьми провела в Загорске в военном санатории на полном пансионе. Весточку тебе даже не могла подать. Все мои связи с миром оборваны. Телефон перенесли в кабинет Рюрика Максимовича, а я не могу туда попасть. Кухарку мою больше не жди. Человек она ненадежный. Я ей плачу ежемесячно, она и молчит, но зыркает постоянно. Рюрик её из деревни выписал. Вокруг меня чужие люди. Духовная отдушина – ты и дети. Чем больше он упорствует, тем только хуже.
Целую тебя крепко, крепко, обнимаю всем сердцем. Люблю тебя. Жду с надеждой, что наше счастье состоится».
Булгаков спрятал письмо на груди и перечитывал его раз за разом, пока не выучил наизусть.
Глава 10
О Муза! Моя песня спета!
Он не видел её и не слышал её голоса бесконечно долгих десять месяцев. А литература у него походила на зубцы пилы: то вверх, то вниз.
И вдруг на фоне всего этого маленькая, скромная новость: Художественный театр ставит «Дни Турбиных», а в Ленинграде – «Мольера». Было чему радоваться! Булгаков воспрянул духом и даже самодовольно побрился, испытывая острый приступ напыщенности, ещё бы: всё случилось так, как он и предполагал, но сколько при этом крови было пролито и сломано душевных стрел.
Зазвонил телефон. В былые времена Булгаков бросился бы сломя голову, боясь, что на другой стороне линии спесиво кинут трубку, однако на этот раз дал себе насладиться долгими трелями, переходящими в панику, и только тогда взял и произнёс с хриплыми камушками в горле:
– Ал-л-л-о!
– Михаил Афанасьевич! Дорогой! – крайне нервно, на высшей точке кипения закричал Мейерхольд. – Где вас черти носят?!
– Я здесь! – спокойно ответил Булгаков, готовый тотчас перейти в нападение и припомнить Всеволоду Эмильевичу все его грешки по части этического отношения к автору по фамилии Булгаков.
– Мы начинам «Турбиных», и по всему Союзу – тоже! Средь зрителя страшный ажиотаж! Можно сказать, шторм воодушевления! А вы!.. – вскричал он на отчаянной ноте, должно быть, рвя на себе последние волосы.
Казалось, одно это должно было искупить его вину за то, что сколько бы до этого Булгаков ни звонил, он всё время бросал трубку. Но случилось чудо по имени Сталин, который всего лишь поинтересовался: «А куда это делся товарищ Булгаков? И почему так плохо с репертуаром?» Кое у кого коленки затряслись и случилось недержание мочи. Моментально вспомнили, да, действительно, есть такой автор, кажется, ещё живой.
– Отлично! – холодно среагировал Булгаков и крайне чётко сформулировал вопрос. – Что же вы от меня хотите, Всеволод Эмильевич?
Лично он хотел нагнуть Всеволода Эмильевича так, чтобы другим неповадно было.
– Как что?! – вывернулся на скользком дисканте Мейерхольд, давая понять, что между умными людьми порядочность в советское время – вещь непостоянная, не зависящая от человека, а проистекает из иных, высоких в моральном смысле сфер, определяющих нормы жизни, и кто этого не понимает, тот патологически туп. – Во-первых, – продолжал он лицемерно, – театр вам положил огромный аванс! Во-вторых, – добавил он наигранно весело, – за нами должок, который мы со всем нашим желанием тут же готовы оплатить с процентами, в-третьих, мы заказываем вам любую вашу новую постановку и тоже её финансируем авансом. Договор ждёт только вашей подписи! – В конце он не выдержал марки и снова скатился на дискант. – Приезжайте, дорогой! Приезжайте срочно! Мы к вашим услугам!
Должно быть, он действует по высочайшему повелению той самой силы, конкретной, предметной и реальной, которая когда-то дала соизволение на постановку пьес Булгакова, но не доглядела за шайкой-лейкой туповатых холуев.
Булгаков, который вот уже три месяца в тоске и печали перебивался с воды на хлеб и даже не зная, сколько у него денег в кошельке, вдруг оживился, вспомнил, что существует такое понятие, как еда и водка, сглотнул слюну, предвкушаю бутылку прекрасной крымской «Массандры», семидесятого года, круг «краковской» домашней колбасы с белыми крапинами, истекающими пряным запахом сала, и огромный биквитно-ликёрный торт в придачу.
Видать, их жизнь здорово ужалила, злорадно подумал он с неприязнью о театральном начальстве всех мастей, и выпалил, как из пушки:
– Выписывайте счёт, еду!
Кое-как оделся, выскочил, поймал такси и полетел, зная, что надо хватать удачу за хвост, пока она не опомнилась. У входа в театр его, нервно вышагивая, ждал старший помощник Мейерхольда – Мирон Берг-Арнаутский.
Булгаков бросил на ходу:
– Заплати, у меня денег нет!
Хотя деньги, конечно, были, но как хотелось подразнить и разнести в клочья всё это гнездо лизоблюдов, сил не было!
Дальше всё было, как в старой-престарой сказке. С ним разговаривали, как японцы, с нижайшим поклоном в пояснице: новый договор на огромную сумму, чуть ли не в миллионах, отдельная касса с кожаной сумкой, в которую упаковали тщательно пересчитанные деньги в банковских ленточках, сопровождающее лицо в милицейской форме с крайне хмурой физиономией, и всё то же такси, которое, оказывается, арендовано на весь день.
Булгаков, недолго думая, отправился банк, где положил часть суммы на свой счёт, а остальное потратил, разъезжая по магазинам в центре столицы и отводя душу покупками самых нужных и ненужных вещей.
И уже вкрай измотанный слюноотделением от своих же припасов, добрался домой во второй половине дня, налил стакан добрейшего, прекраснейшего белого вина «Мускат Блан» божественно-легчайшего аромата, выпил с лёгким вздохом и тут же пришёл в себя. Организм вспомнил, что такое приятная еда и наградил сам себя крайней выносливостью, пока Булгаков насыщался со скоростью дюже голодного писателя. В минуту передышки он решил позвонить Змею Горынычу, то бишь Юлий Геронимусу, несколько для того, чтобы пригласить подлеца выпить за успех мероприятия, сколько набить морду, чтобы тот задохнулся в своей ненависти и подлости, раз лунные человеки допускают такие служебные промашки и не мстят за него, честного и неподкупного писателя, и тут же сообразил, что не мстят именно по той причине, чтобы подлецы насладились его триумфом и околели сами собой от гигантской, супергигантской зависти. В этом крылся некий метафизический смысл, но Булгаков не успел разобраться, в дверь крайне требовательно, почти истерически, позвонили. Сердце у него пребольно ёкнуло, словно его проткнули иголкой, и он, ни секунды не сомневаясь, что явилась она – его любимая Гэже, Маргарита из ненавистного романа о дьяволе, понёсся открывать, теряя на ходу от волнения тапочки.
Однако к его огорчению, на пороге возвышалась никто иная, как незабвенная Ракалия, загоревшая, помолодевшая, с прекрасной во всех отношениях головкой, и, как всегда, стройная, словно кипарисовое дерево. Только от этой красоты попахивало необузданной натурой и всемирным пороком.
– А-а-а… – не мог скрыть разочарования Булгаков. – Привет… – и развернулся, чтобы податься на кухню, где выдыхалось белое вино.
Ракалия посмотрела на него так, словно тоже была рада видеть его, и спросила прежним голосом ангела:
– Ты не забыл, что я здесь ещё прописана?
Должно быть, она готовилась к тяжелому спору, но Булгаков её разочаровал.
– Я этого никогда не забывал… – остановился он на свою беду, прислушиваясь к давно забытому голосу, от которого у него в былые времена от восторга заходилась душа, а тело безотчётно требовало беспрестанного секса. Он давно сообразил, что она ловко подловила его на этом и попользовалась всласть.
– А ты ничуть не изменился! – молвила Ракалия на всякий случай заготовленную фразу.
Не может быть, подумал Булгаков, моментально вспомнив их совместное проживание, и каким он был дураком, что женился, бросив ради неё свою преданнейшую, ясноглазую Тасю. Впервые мысль о том, что секс, возможно, не самое главное в жизни, посетила его. А что самое главное, он за моментом не разобрался, но явно не секс, подумал он, и страшно удивился открытию.
И тут же у него за спиной в квартире произошла маленькая чертовщинка вообще без всякого щелчка в голове: откуда-то взялся сквозняк, неясные звуки донеслись из спальни, и явно протопал кот Бегемот со своими протоперьями на лапах и сине-голубой ленточкой на хвосте.
Ракалия, которая не желала знать и прежде, кто такие лунные человеки, болезненно-возмущенно встрепенулась по восходящей октаве:
– Ты не один?.. У тебя женщина?!
Лицо у неё исказилось злобой, и она одним махом вернула всё то, что послужило их разрыву, то есть ощущение душевной опустошенности и униженности. Булгакову стало физически плохо. Он вспомнил, что так и не выпил второй стакан вина, и готов был бежать на кухню, собирая по дороге тапочки, чтобы оставить её наедине с её вечным психопатством, но элементарно не успел, забыл, что Ракалия крайне действенна.
– А ну-ка!.. – она с маской гнева на своём прекрасном, загорелом лице отстранила его в сторону и уверенной походкой мстительницы пронеслась в спальню, воинственно срывая на ходу летнюю шапочку с вуалью.
– Ну?.. – иронично спросил он, сунув морду в спальню и наслаждаясь её конфузией, абсолютно позабыв о белом вине, чахнувшем на кухне.
Однако оплошал сам же на все сто двадцать пять процентов.
– А это что?! – обнаружила она в шкафу шелковый китайский халат, с бело-чёрными розами на красном фоне, единственную вещь, которая осталась у него от Гэже.
Халат всё ещё пахнул французскими духами «шанель-коко».
– Ё-моё! – выругался сгоряча Булгаков и с треском вырвал из её рук халат. – Тебя это не касается! – твёрдо посмотрел на неё своими белыми волчьими глазами. – Да, я не монах, здесь бывали женщины! Какое тебе дело?!
– Отныне, пока я твоя жена, можешь об этом даже не мечтать! – не уступила ему Ракалия и встала в позу руки в боки, готовая, если что, перейти к боевым действиям.
– По-моему, ты забываешься! – напомнил ей Булгаков причину из развода.
– Если ты об этом, – бесстыдно соврала она, – то глубоко ошибаешься, я не спала с твоим другом.
За два года они нисколько не изменилась, душа у неё так и осталась подобна гремучей смеси, которую даже лучше и не пробовать.
– Ба-ба-ба… – иронично повертел Булгаков головой, намекая на пустое сотрясение воздуха, и криво усмехнулся, тряхнув носом-бульбой.
– Да, именно так! – настояла Ракалия, с крайне искренним возмущением глядя на него.
Булгаков давно понял, что у Ракалии нет ни капли совести и что Юлий Геронимус обвёл его вокруг пальца и что долг платежом красен. У него снова зачесались кулаки.
– Прости, но я не верю тебе, – сказал Булгаков, поведя для очевидности свой прекрасным носом-бульбой, которым гордился с детства.
И Ракалия предпочла выскользнуть из двусмысленного разговора.
– Фу, как у тебя горелым воняет! – поморщилась она и распахнула форточку, в которую тут же полетел едкий тополиный пух. За спиной кто-то нарочито громко чихнул с кошачьим прононсом. Ракалия судорожно оглянулась. – Домового завёл?! – дёрнула она прекрасной головкой. – Ты всё ещё водишься с нечестью?!
Булгаков, который давно принюхался к запахам квартиры, только пожал плечами, окалиной воняло не только от кота Бегемота, но посвящать Ракалию в тонкости общения с лунными человеками он не собирался, она бы всё равно ничего не поняла и списала бы на счёт его писательского воображения, дабы однажды упечь в Кащенко и воспользоваться правами на квартиру и наследство, в том числе и на творческое. Так что с ней надо было быть крайне осторожным, подумал он.
– Сама ты нечисть, – вступился он за всю нечистую лунную братию, но дёрнулся от предупредительного щелчка, мол, не болтай лишнего, было бы перед кем бисер метать!
– Принеси мой чемодан и нагрей ванную! – скомандовала Ракалия, которая абсолютно ничего не заметила.
Булгаков притащил из коридора огромный, как гроб, чемодан.
– Ну а теперь… – требовательно сказала она, оборачивая к нему своё ангельское лицо, – поцелуй же меня! Свою верную и преданную жену, которая вернулась домой и готова составить тебе семейную пару. – И распростёрла руки.
Булгаков отшатнулся, как от покойника, однако же контролируя каждое движение, сделал шаг и, осторожно, как кипяток, быстро поцеловал её в щёчку, ускользая из объятий.
– И это всё, на что ты способен?.. – открыла она возмущенные глаза.
– Увы, – согласился он, поджав губы.
– А где твоя страсть?! Где воодушевление и все твои обычные притязания?! Где?! – воскликнула она.
Обычно ей достаточно было поманить пальчиком, и мужчина прибегал сломя голову. Так было всегда, от основания времён, но с Булгаковым не получилось, и Ракалия озадаченно посмотрела на него.
Булгаков глупо хихикнул. Сделал он это в надежде, что все споры на сегодня прекратятся и он сможет наконец сесть за работу. Его как раз ждала сцена на ялтинском молу, где кое-кто, скорее всего, директор крупнейшего московского театра, с которым Булгаков давно хотел разделаться окончательно и бесповоротно, должен был очнуться посредством сказочного перемещения из Москвы; кто именно, Булгаков знал, но боялся произнести его имя даже вслух, а всё больше склонялся к более прозаической и второстепенной фигуре из страха, что роман не опубликуют дюже пугливые московские издатели.
– Я тебя не люблю! – сказал он равнодушно, думая о романе.
Однажды он понял, что Ракалия в любом благополучии искала трагизм. Некоторое время это его привлекало. Они ходили по натянутой струне, и это ему очень и очень нравилось.
– Забудь! – остановила она его почти ласковым движением руки. – Многие пары живут без любви. Ну и что?.. – гордо задрала она острый, как утюг, подбородок. – Я теперь другая. Я всё поняла. И исправилась!
– Не похоже… – иронично процедил Булгаков и развернулся, чтобы уйти, – по-моему, всё, как прежде.
Он давно понял, что женщины в любовных делах, в отличие от мужчин, чаще пользуются разумом, а не чувствами, оттого у них получается, как в плохой пьесе, где нитки логики и невменяемости торчат во все стороны.
– Это только кажется! – ловко заступила она ему дорогу во всё той же манере командовать, пользуясь своим крепким телом, как шлюзом на реке. – Не бойся, я тебя не съем! Тебе нужная системная жизнь и регулярное питание, – фальшиво запричитала она. – Мы с тобой напишем новый роман! Кстати, ты прежний, об этой самой Маргарите, закончил?
Он взвыл, как волк на луну, и среагировал однозначно:
– Не твоё дело!
– Как это?! – крайне экспрессивно удивилась она. – Как это?! Имей в виду как прототип, я потребую свою долю! – заявила и выставила в разрезе платья длинную, стройную ножку пока ещё идеальной формы, с твёрдой, жёсткой коленкой молодой нимфы, готовую на любой подлость, лишь бы добиться своего.
– Иди ты к чёрту! – Взбешённый, он выскочил из спальни. – Я сыт по горло твоими фокусами!
Он понял наконец, что она обычная тётка, воспринимающая этот мир, как бесконечный секс с разными мужиками.
– Ты хоть при деньгах?.. – спросила она, ничуть не смутившись и нагоняя его, как волк косулю. – У меня кончились деньги. У меня совсем нет денег…
– Ну?.. – выпустил он воздух, чтобы не взорваться, как пороховая башня.
– Там человек… – мотнула она головой в сторону парадного, – нужно заплатить за бензин.
Булгаков выбежал, увидел у подъезда знакомую жёлтую «торпеду» и человека, заплатил и, как на ядре, вернулся назад. Когда он влетел на кухню, то обнаружил, что Ракалия выпила его вино и с жадностью голодной кошки поедала колбасу, нацелившись на бисквитный торт с ликёром.
– Может, тебя покормить?.. – кисло спросил он, испытывая не то чтобы жалость, а просто человеческое участие.
– Зачем?.. Я знаю, у тебя, как всегда, одна картошка, – сказала она с вызовом.
– Но хоть чай поставить?.. – закатил он в долготерпении свои волчьи глаза.
– Ох, как ты мне нравишься в таком состоянии, – вздохнула с вызовом Ракалия. – Чай поставить, – согласилась она.
Он посмотрел на неё и вспомнил, что долго не мог забыть призывного взгляда её серых глаз, а теперь понял, что под одной крышей с ней долго не протянет, получит в лучшем случае инфаркт, а в худшем – сумасшествие третьей степени.
– Вот что… – сказала она ему, поглощая колбасу вперемешку с кремом «шантильи», который снимала чайной ложкой, – я, конечно, девушка строгих правил, но можешь свою даму привести сюда и жить с ней в кабинете. Кто она?.. – допела она свой зубодробительный каверн.
– Э-э-э… – отреагировал Булгаков, – не затаскивай меня в своё мещанское болото.
– Если хочешь знать… – многозначительно сказала она, тряхнув для убедительности своей прекрасной головкой – Юлий Геронимус нарочно всё придумал, чтобы мы с тобой расстались.
Булгаков снисходительно посмотрел на неё. Её голодные скулы говорили о том, что она недели две питалась святым духом. Значит, её бросили и она примчалась сюда отъедаться, решил он.
– Он всё время делал мне фривольные предложения, – пожаловалась они невинным тоном и для убедительности наивно заморгала ресницами. – Я не говорила тебе, чтобы ты не ревновал…
– Брось… – с лёгким презрением отреагировал Булгаков. – Я же не ребёнок!
– Ну и отлично! – с надеждой встрепенулась она. – Заживёт новой жизнью! Ты будешь писать. Я буду тебя вдохновлять! – И требовательно схватила Булгакова за руку. – Ты меня ещё любишь?!
– Избавь!.. – Булгаков с искаженным лицом вырвался, цапнул из шкафчика бутылку коньяка и, дёргаясь, как паралитик, налил себе стакан.
– А мне?.. – заканючила она, жалобно наморщив лоб. – Твоей преданной и верной жене!
– У нас больше ничего не может быть! – окончательно разозлился Булгаков, глядя ей в лживые до предела глаза. – Живи в спальне, я буду жить в кабинете.
– Это всё из-за этой твоей новой пассии! – неожиданно холодно среагировала Ракалия.
Он снова завыл, как волк в пустыне:
– Как тебе объяснить?!
– Никак! Кто эта потаскушка?! – ударила она кулачком по столу.
– Не тебе судить о ней! – зарычал он.
– Кто она? Кто?! – вскочила Ракалия, замахнувшись чайной ложкой, как секирой.
Булгакову стало смешно и он твёрдо сказал, не уступая жене ни в чём:
– Елена Сергеевна!
– Кто?! – пошатнулась Ракалия, выпучив глаза.
И он увидел, какое у неё настоящее взбешенное, вовсе не ангельское лицо.
Ракалия откашлялась, как столетний курильщик, и выдала:
– Недаром эта вертихвостка всё время крутилась рядом!
– Она не вертихвостка! – заступился Булгаков.
Ракалия иронично надула губы и с ненавистью посмотрела на него:
– Подобрала-таки! А ты знаешь, что она о тебе говорила!
– Заткнись! – посоветовал Булгаков. – Твои инсинуации меня не интересуют!
Ракалия швырнула в него тарелку с остатками торта. К счастью, у Булгакова была великолепнейшая реакция. Тарелка с её содержимым размазалась по стене между буфетом и водяной колонкой.
– Ну да… конечно… – качнулась Ракалия. – Все мы святые! – И отправилась, пошатываясь, спать, добавив на ходу. – В спальню ни ногой, знаю я твои замашки! Не обломится!
***
Ровно через три дня, в течение которых они не разговаривали и даже не здоровались, а в голове у него щёлкнуло, как призраки пальцами, и в квартире раздалось три нервно-требовательных звонка.
Ах, подумал он нервно, и без всякой надежды побежал открывать. На него, обдав его облаком шикарных духов, как кошка, прыгнула Гэже и зацеловала до смерти.
– Я свободна, – прошептала она между поцелуями, – я почти свободна! Рюрик Максимович даёт мне свободу к праздникам.
– К праздникам, это когда? – промолвил Булгаков сквозь её слёзы и поцелуи.
– Это на октябрьские… – сказала она шёпотом, словно боясь сглазить. – Он сказал, что если я не одумаюсь, то к середине осени могу катиться на все четыре стороны. А я не одумаюсь!
– Ой… – вздохнул Булгаков с облегчением, – ты меня задушишь.
– У меня две минуты… – зашептала Гэже, пытаясь вырваться из его объятий. – Две минуты, и я должна бежать!
– Когда? Зачем? Когда мы снова увидимся?!
– Я не знаю… Я ничего не знаю… Я знаю, что наше счастье близко!
– Ах, вот как?.. – менторским тоном произнесла Ракалия.
Они заговорщически оглянулись. Ракалия стояла, прислонившись плечом к косяку и опираясь рукой о бок.
«– Ракалия как три дня вернулась, – сказал, посторонившись, Миша и сжал руку, чтобы я поняла, что мы единой целое и чтобы я ему верила.
Я внимательно посмотрела на Белозёрскую, особенно на её безоблачно-ангельское лицо, всё поняла и сказала:
– Миша… можно попросить тебя выйти… мне нужно поговорить с твоей женой…
Он взглянул на меня вопросительно, но зная мой характер, понял меня однозначно: я всё сделаю правильно, и он будет гордиться мной.
– Выйди, выйди! – в свою очередь насмешливо и одновременно с трусливо бегающими глазами сказала Белозёрская, – мы объяснимся.
Миша выбежал на кухню, и я краем глаза увидела, как он наливает себе коньяк.
– Вот что… – сказала я, глядя на Белозёрскую, – надеюсь, ты понимаешь, что тебе здесь делать нечего?!
– Ах… – дёрнулась она, – он настроил тебя против! – и надела маску лжи. – А ведь мы с тобой дружили! – прищурилась, как гарпия.
– Не обольщайся, мы о тебе за два года даже ни разу не вспомнили! – остудила я её пыл.
– Не может быть… – пала она духом. – Я всё время думала о нём…
«В постели с другим», – чуть не добавила я саркастически, но она и сама всё поняла.
– Раньше надо было, – уязвила я её.
– В моём положении… – вырвалось у неё.
– Дорога ложка к обеду, – напомнила я.
Она истерически хохотнула, задрав в потолок острый подбородок и истерически закрыв рот ладонью.
– Ты сделала аборт?.. – сообразила я, потому что, когда женщины так себя ведут, это однозначно.
– Ничего удивительного… – закатила глаза Белозёрская, намекая на темперамент Миши.
– От кого?! – всё же спросила я и невольно бросила взгляд на кухню.
Миша в волнении приканчивал бутылку.
– Ах, не всё ли равно… – сдалась Белозёрская, явно желая меня разжалобить.
Слава богу, не от Миши, поняла я и сообразила, что она старается меня шантажировать и что ей позарез нужны деньги. Что ещё?
– Хорошо… я куплю тебе квартиру, – огорошила я её, – и дам на первое время денег. Но… при одном условии: ты сегодня же подашь в ближайший загс заявление о разводе.
– Но я хотела… – лживо повела она глазами.
– Никаких «хотела», – прервала я её. – Здесь тебе ничего не принадлежит.
– Я хотела уточнить насчёт Маргариты… – с возмущением произнесла она, всё ещё не сдаваясь по мелочам.
– Выбирай, или Маргарита, или квартира! – снова оборвала я её.
Её тяжёлый лобик с поперечной складкой нахмурился, но соображала она недолго.
– Двухкомнатная… на Волхонке… – среагировала она на одном дыхании, под шумок проверяя мою реакцию.
Лицо у неё, как у всякой истерички, после достижения цели, сделалось умиротворённым, почти ангельским. И я поняла, что она добилась своего по максимуму и считает меня идиоткой, ну и бог с ней!
– Как тебе угодно… – сказала я, покопалась в своём ридикюле и выдала ей деньги. – Вот тебе аванс, а сейчас мы с тобой идём в загс, после развода ты получишь остальную сумму.
– Ну как скажешь… подруга… – едва не хихикнула от радости Белозёрская и спрятала деньги под юбку. – Поехали!
– Миша… – позвала я его. – Люба уезжает!
Миша вошёл, увидел Белозёрскую с вещами, и на лице у него появился космогонический вопрос, как? Как тебе удалось?!
– Миша… – сказала я деловым тоном, – мы покупаем твоей жене квартиру недалеко отсюда. – Будь добр, помоги вынести чемодан.
Он снова вопросительно посмотрел на меня, мол, чем ты меня ещё удивишь? И по его восторгу я поняла, что он восхищён мною.
– А сейчас мы едем в загс! Люба… – я взглянула на неё и угадала, что наибольшее впечатление на неё произвёл мою волшебный ридикюль, – подаёт на развод.
– Да… – несколько растерянно согласилась Белозёрская, – подаю… Ты же не хочешь со мной жить! – посмотрела она на Мишу. – А что делать?.. – скривила она капризный ротик, словно оправдывая себя, и до крови закусила губу.
Впрочем, кажется, она своего добилась с лихвой. И я готова была биться об заклад, что она с удовольствием задержалась бы, чтобы пошантажировать Мишу насчёт романа «Мастер и Маргарита», но деньги нужны были позарез, и Белозёрская нехотя, но всё же предпочла не бегать за двумя зайцами.
Одного она только не знала, что всё, что случилось, произошло по прихоти полковника Германа Курбатова.
Утром, когда муж уехал на службу, я с оторопью увидела в конце комнаты его, проходящим из стенки в стенку. Бросилась следом, чтобы поговорить о нашей с Мишей судьбе, но не успела, а на фортепиано нашла записку: «Ваш Булгаков в беде. Срочно разведите их и купите ему и ей квартиры». Зачем? Почему? И кому? Я ничего не поняла, всё ещё не привыкнув к лапидарному стилю полковника. А потом сообразила, что речь идёт о Мишиной жене, Белозёрской, и помчалась, хотя меня, как прежде, не выпускали, и это стоило мне не меньше ста тысяч. Зато теперь он был свободен и ещё одна преграда пала к ногам нашего счастья. Вторую квартиру мы купили позже, когда поженились и были рады вздохнуть свободно. Но это была пиррова победа. Всё было ужасно и страшно. Человек не должен знать своего будущего!»
***
Опять начались дикие срывы падений и взлетов, вымученные тексты и гениальные страницы, хотя, казалось, все невзгоды позади, ничего уже не мешает в жизни, можно писать, как никогда, быстро и ясно, чётко, а главное, много.
Он даже понял прежние свои ошибки в новом свете открывшихся истин и бросился переписывать да не просто так, а сразу набело, и почувствовал, что текст у него получается таким, каким он его давным-давно хотел видеть, то есть с шедевральным блеском, да еще в высшем пилотаже созвучия. И наслаждался крутыми виражами и парадоксами. А потом наступал упадок; тогда он слонялся по квартире или ехал в театр и бил там баклуши, удерживая себя, чтобы не закатить скандал администрации на пустом месте. Но сил не было, и это его спасало от доносов и врагов, ибо все видели, что он медленно, но верно умирает как писатель.
Самым тяжёлым было генерация идей, ибо надо было найти то, что не существовало в природе вещей, что и позволяло погодя угодить в яблочко. И здесь надо было действовать ювелирно тонко, и было много брака, который приводил его в дикое состояние ненависти к самому себе.
И вдруг все предыдущие тексты, которые он сжёг, сработали на сюжет, и когда он открылся через «нехорошую квартиру», а потом и – через Маргариту, Булгаков начал писал самые настоящие чистовики, (хотя темы были несопоставимые); да так быстро, будто не только лунных человеков, но и главный инспектор по делам фигурантов Герман Курбатов вместе с Гоголем стояли у него над душой. Почему-то ему казалось, что они-то больше всех заинтересованы в романе «Мастер и Маргарита» и что это детище и их всей жизни. Однако «тихие мысли» не приходили, и Булгаков потихоньку успокаивался в метафизическом плане и уже не ждал стука в потолок с ощущением висельника, но и не получал того, что получал прежде – чувство безбрежности мира, из которого можно было черпать и черпать. В отчаянии он вопрошал: «Но где же вы, чёрт побери?!» И получал ответку в виде звука, который рождался непонятно где, без направления, без всякого пролога, и это было совсем не то, на что он рассчитывал, а рассчитывал он как минимум не на опосредованную консультацию Гоголя, а на прямой диалог. Впрочем, и без консультации мэтра он понимал, что роман получается, пусть кусками, но получается, пусть диалогами, но всё равно – складывается, что удалось ухватить то звучание, которое редко у кого выходит даже после столько лет мучений; да и в звучании ли только дело? Однако со временем он пришёл к выводу, что это и есть главный критерий гениальности, и находил, что всё более и более приближается к его постоянному состоянию, когда мозг работает, как часы, чётко, ясно и радикально.
И он научился выходить за привычные рамки камерности, число персонажей росло с быстротой лавины, и порой он не успевал внести их в сюжет, и некоторые задумки просто забывал, хотя он фиксировал их карандашом на отдельном листе, а утром мучился, разбирая каракули. Но идею создания картотеки отвергал всякий раз, как её предлагала Гэже. Ему претила сама мысль системной и кропотливой работы, ему казалось, что он потеряет чувство текста, то ощущение свободы духа, которое всегда присутствовало в нём.
– Не лезь! – бурчал он. – Это мой роман! Я по-другому не умею. Не сковывай меня ничем.
И мучился, мучился, мучился, потому что тут и там, и там и тут возникали несостыковки, и он понимал, что их гораздо больше, чем он обнаруживал. Я, может быть, вижу, думал он, но не понимаю, что вижу.
Он подозревал, что провалы в чувственности приводят к тому, что он не может писать толково, так, чтобы слова звенели на требуемой ноте. Время шло, и он то возгорался от идей, то перегорал, утрачивая то нервное состояние ясности мышления, которой владело им, и ни водка, ни коньяк, ни вино – ничего не помогало. И он садился на новом балконе на втором этаже и бился, бился головой о стену. Тогда приходила Елена Сергеевна и говорила с укоризной, как мама: «Ты опять себе шишку набил».
Однажды он проговорился в полном отчаянии:
– Ты бы сходила к лунным человекам, узнала бы, в чём я провинился?
– А куда идти, дорогой, – поцеловала она его в злополучную шишку.
– Если бы мы были в Киеве, то – в Царский сад, в «Набережный банк», – вспомнил он свою нежную, горячо любимую жёлто-чёрную, как груша, Тасю. – А в Москве я даже не знаю! Да и существуют ли они вообще?! – добавил он, уносясь в горестные воспоминания.
И тотчас в большой комнате, служившей ему кабинетом, раздался страшный звук, они вбежали и обнаружили, что толстая, и казалось вечная столешница обеденного стола из цельного дуба, лопнула ровно пополам, словно топор прошёл сквозь масло. Булгаков страшно побледнел и сказал:
– Это они!..
– Кто? – спросила Елена Сергеевна, хотя, конечно же, всё поняла.
– Никогда не надо сомневаться, друг мой, никогда… – поцеловал он её в родные глаза. – Зато у нас теперь стол с отметиной, которую не проигнорируешь! Надо работать и работать!
Елена Сергеевна едва удержалась, «чтобы не рассказать сгоряча, что я в курсе дел, что знаю всё-всё-всё, что их ждёт и что ничего уже нельзя переделать, но, памятуя о строгом предостережении полковника Германа Курбатова, я мягкотело молчала. Это было маленьким, но вынужденным, предательством. Как мне хотелось открыться перед Мишей, как мне хотелось сообщить, что он должен пережить, и что он всё равно почти что напишет роман, однако я дала слово, которое надо было держать пуще самого крепкого слова, потому что тогда бы это стало клятвопреступлением. И мне было чрезвычайно совестно, потому что это было предательством перед мужем, но поступиться клятвой, данной полковнику, я не могла и смела, потому что это было что-то высшее и таинственное, название чему у меня не было. С душевной болью я оправдывала себя тем, что у нас ещё много-много времени впереди и Миша соберётся с силами и роман получится и засверкает гранями его таланта, а мне не надо будет мучиться, и я верну злополучный ридикюль Герману Курбатову. Но время шло, а Миша всего лишь нервно втягивался в роман и так же нервно отступал, не веря в него до конца и не видя цели, временами даже не понимая, что пишет, словно его рукой водил кто-то абсолютно иной и абсолютно чужой человек, и от этого он страшно нервничал и мучился, ибо не хотел ничьей воли. Старое прагматическое мышление врача всплывало, как семь смертных грехов, о которых он и думать забыл, и страшно мешали ему настроиться. Он намеренно культивировал в себе рабочее состояние, но это не спасало от спадов. А потом оказалось, что всё дело в мясном питании, и я лепила ему пельмени, а он, поев и напившись крепкого чаю, приходил в нужное состояние духа и чрезвычайной ясности мышления. И тогда роман приобретал чёткие очертания лунного простора. И Миша уже знал, что это шедеврально и что у него формировалась точка опоры».
– Хорошенькая, пока молодая, только мордочка хищная… – бормотал он, словно просыпаясь.
– Что?.. – среагировала Елена Сергеевна, подавая пирожки с рубцом, которые он любил.
– Романтизму нет, – улыбался Булгаков, провожая её томным взглядом любовника.
Она ускользнула от него, чтобы уйти на кухню, а когда оглянулась, он уже бросил в пламя не только роман «Мастер и Маргарита», но и «Записки покойника» заодно.
– Что ты делаешь?! – в ужасе воскликнула Елена Сергеевна.
– Не твоё дело, – буркнул он, в нервном ожесточении разрывая роман «Записки покойника» ещё и пополам.
Распахнул печную дверцу с отвратительным скрипом и всё что мог, пихнул прямо на горящие угли.
Рукопись съежилась, как будто живая, как будто защищаясь от неразумных действий, затем верхние листы стали вспыхивать, подхватывались удесятерённой тягой в трубе и взлетать, чтобы превратиться в надзвёздный пепел.
Елена Сергеевна, чтобы не видеть всего этого с громким стоном выбежала в спальню и, съежившись, забилась в угол постели.
Булгаков в какое-то мгновение с сожалением в душе схватился за кочергу с тем, чтобы вернуть беловик рукописи назад, но увидел, как буквы и слова, которые он выводил ручкой, прежде чем исчезнуть, отделяются от бумаги и, словно живые корчатся в пламени. Булгакову сделалось страшно и горько, однако он силком заставил себя захлопнуть печную дверцу и запретил себе думать о романе. Тяга с противным, неземным воем сожрала его, вынесла в трубу и тотчас развеяла над Москвой. И он подумал, что она таким образом мстит ему за то, что он хотел сжечь её в циклопическом пожаре.
И он пошёл и напился водки, не закусывая ничем, даже его любимыми огурцами с запахом укропа из большой, холодной банки. А на рассвете проснулся от резкого цветочного запаха и, пошатываясь, словно пьяный, встал, опущенный на землю, чтобы работать и ещё раз работать над примитивными, нудными текстами и ораториями либретто. А ещё он спросонья решил начать писать новый, абсолютно новый вариант «Записки покойника», в котором он страстно желал разделаться со всеми своими врагами как в литературном, так и в театральном мире, чтобы она все пропали, сгинули, разлетелись во все стороны и никогда больше не появлялись в его жизни, а он бы сделался свободным и беспристрастным, как гуру.
И что же?!
К его изумлению на столе лежала та же самая рукопись романа «Мастер и Маргарита», которую он истребил в печи, ко всему прочему, с размашистой, витиеватой припиской рукой Лария Похабова: «Рукописи не горят! Запомни это! Пиши роман!» Как только он прочитал её, она покоробилась и исчезла, а вместо неё появилась другая: «Долг тебе никто не простил!» Это уже было чрезвычайно-убийственным нарушение всякой реальности, и Булгаков грохнулся в тяжёлый, длительный обморок, страшно напугав Елену Сергеевну.
– Что там… что там?.. – спросил он первым делом, придя в себя и, как сомнамбул, водя рукой в пространстве.
– Миша, ты только не пугайся… – слёзно попросила Елена Сергеевна, – там… там, – замялась она, – там твой роман, который… – она не сдержалась и схватила его за руку, как капкан, – который ты на накануне сжёг!
– А «записки»?.. – встревожился он.
– И «записки» тоже, – осторожно, как тяжелобольному, сообщила она.
– Слава богу… – простонал он, оглядываясь на всякий случай вокруг, словно проверяя реакцию лунных человеков.
И он неожиданно для себя вздохнул с огромным облегчением и засмеялся, как одержимый. Спонтанный прилив сил воодушевил его.
Однако этим дело не кончилось. С того самого памятного утра у него с правой стороны, там где лопатка, снова появилось вечно тёплое пятно. Исходя из всего предыдущего опыта, Булгаков сообразил, что это наглые происки лунных человеков и что отныне его ещё больше силком подкачивают энергией. Но он в ожесточении на весь белый свет твердил, как полоумный: «Шиш вам всем! Шиш!» И хотя Ларий Похабов и Рудольф Нахалов называли его мастером-стилистом, сомнения всё больше охватили его. Он понимал, что бессилен, что не может придать роману «Мастер и Маргарита» тот абсолютный шедевральный блеск и стиль, которыми роман, без сомнения, должен был обладать.
– Господи! Господи! – твердил он. – Оставь меня в покое! Дай мне умереть!
***
«Странные вещи происходили вокруг. Приходили странные люди. Миша их называл «наблюдателями». К его удивлению, выспрашивали у него насчёт романа и исчезали прежде, чем я начинала возмущаться: «Да что же такое?!» Я укоряла его: «Не надо ничего говорить, ведь ты же не знаешь, от кого они пришли!» «От ОГПУ», – отвечал он насмешливо. Но я-то знала, я-то просто чувствовала, что это не так, что с нами что-то происходит в хорошем смысле этого слова. И моя душа наполнялась надеждой и я думать боялась, что полковник Герман Курбатов ошибся, а вдруг существует ещё кто-то, кто любит нас?
Был какой-то военный в странной русской шинели без хлястика, был рыбак с удочками, три раза ошибавшийся адресом, была модистка, заглядевшаяся на него в магазине. Он таинственно улыбался и говорил мне: «Это они… они… они…» И я знала, что он имеет в виду существ из лунного мира, которые приходили посмотреть на него и оценить его писательскую состоятельность. И со всеми он участливо говорил, и со всеми откровенничал. И сильно пугал меня своей доступностью с незнакомыми людьми.
А зимой тридцать четвертого я вдруг увидела на заиндевевшей витрине букинистического магазина, что на улице Горького, 23/60, книгу «Мастер и Маргарита» в яркой оранжевой обложке и с незнакомой фотографией Булгакова, которая ещё, несомненно, даже не была отснята. В страшном изумлении я расторопно вбежала, нарочно громко стуча каблучками, и, кажется, гневно потребовала принести книгу: «Которая ещё не вышла! Как вам не совестно!», – самонадеянно воскликнула я.
Мысль о том, что роман никак не мог попасть в чужие руки, даже не пришла мне в голову, ведь я самолично спрятала его в самый нижний чемодан в кладовке. Об этом чемодане знала только я одна.
Продавец не без смятения принёс, но, естественно, не роман «Мастер и Маргарита», а каких-то «чёрных ангелах», и таращился из-под очков на меня крайне изумлёнными глазами.
– Такой книги нет, – произнёс он, заикаясь, – и не может быть. Она никогда не издавалась!
Я закрыла глаза и мысленно добавила: «В нашем мире!»
– Но как же! Я же видела? – нервно возразила я, не понимая, что это знамение, предвестие, что книга УЖЕ существует где-то там, в других сферах! А надо мной просто посмеялись! Только, конечно, не полковник Герман Курбатов. Я ему полностью доверяла.
Но объяснить это кому-либо я не имела права. И села в большую лужу.
– Вам показалось, мадам. Я знаю, все книги, которые выходят в Москве и её пределах! – не без смущения от моего напора возразил продавец. – Можно посмотреть по каталогам?.. – вкрадчиво добавил он.
– Я вам не мадам, а гражданка, – сухо сказала я, разозлившись на саму себя. – Не надо по каталогам!
И тут же успокоилась. Я поняла вздорность своего положения. Ах, да полковник Герман Курбатов, подумала я, ах, да сукин сын! Хотя это нельзя было утверждать со стопроцентной очевидностью. Конечно, это же не он, конечно, это кто-то другой, проказливый шутник с бульваров иных миров, которые я никогда не увижу, догадалась я.
– Извините… – пробормотала я в полном смущении.
– О романе… как вы сказали? – ещё больше сконфузился продавец и болезненно улыбнулся.
У него была болезнь Бехтерева. Он не гнулся и был сухим, как гороховый стручок.
– «Мастер и Маргарита»… – с болью в душе сказала я и, кажется, выдала себя с головой нетерпением.
– Нет, – показал он не только головой, но и всем телом, – нет, у нас такой книги точно не было… – кротко сказал он, на всякий случай заглянув в толстую тетрадь.
– Извините… – совсем остыла я и вышла страшно обескураженная.
Произошло то, чего я совершенно не ожидала, я даже обиделась на полковника Германа Курбатова. Уж, казалось, он-то должен был оградить меня от таких несуразных потрясений, даже если им там, в других мирах, неймётся и они выпустили Мишин роман, который не дописан? В том, что я видела его роман, я нисколько не сомневалась. Значит, там уже всё сбылось, догадалась я, а здесь мне просто показали, как, и ничего в этом особенного – нет! И это в стиле лунных человеков и полковника Германа Курбатова. Но ничего, ровным счётом ничего, не объясняет, поняла я.
– Вы можете нам оставить заявку!.. – крикнул вслед продавец. – Мы вам доставим, как только она появится
– Нет, нет, спасибо… – закрыла я дверь и ещё раз взглянув на витрину.
Естественно, книги там уже не было, вместо неё рыжим огнём горела совсем иная книга со странными намёками на истечение времени манжетки с чёрным бисером, намёк был более, чем очевиден. Надо ли говорить, что я всего лишь лишний раз усомнилась в реалии мира. Впрочем, о полковнике Германе Курбатове я до сих пор помнила, хотя прошло три года да и злополучный ридикюль исправно выдавал деньги, стало быть, сомневаться в фантасмагории, происходящей в нашей жизни, не имело смысла. И эта милая невинность с книгой в витрине всего-навсего напоминание о том, что Герман Курбатов всегда рядом и контролирует договор. Ах… вот как, сообразила я, меня проверяют на веру…
– Да я в вас верю! – горько крикнула я в пространство. – Не пугайте меня больше!
И какой-то прохожий в зипуне обошёл меня стороной, поглядывая, как на сумасшедшую. Иди, иди, с насмешкой подумала я, я не кусаюсь.
Я не стала рассказывать Мише об этом странном происшествии, и оно постепенно забылось бы, если бы я не внесла его в дневник. К сожалению, все эти записи мне ещё предстояло уничтожить. Я ни минуты не забывала, что мои дневники должны пройти самую строгую самоцензуру. В отличие от Миши, я не была борцом и не собиралась спорить с сильными и загадочными мира сего. Мне было достаточно одного волшебного ридикюля, и одного слова полковника Германа Курбатова».
***
Герман Курбатов в форме полковника Рабоче-крестьянской Красной Армии вызвал старшего куратора Лария Похабова, поставил его перед собой и сказал ему сухо, чтобы сразу, без оконечностей, донести суть проблемы:
– Дело с романом «Мастер и Маргарита» надо прекращать!
От таких разговоров с начальством Ларий Похабов обычно впадал в ступор и у него на пару секунд отвисала челюсть. Как раз накануне он возродил роман из огня и был горд собой оттого, что у него всё ещё теплилась надежда на благополучное завершение проекта, который по всем статьям мог быть знаковым в его карьере куратора, не говоря уже, вообще, о великой русской литературе, значение которой никто не ставил под сомнение. Великие мужи прошлого с помощью лунного мира оберегали её от пошлостей и графоманства.
– А как же Булгаков?.. – Ларий Похабов сделал вид, что не понял, хотя, конечно, уже готов был к такому повороту событий: слишком долго они тянули этот проект, чтобы у начальства не возникли вопросы.
Ему было жаль писателя, которого они между собой для краткости называли Мастером, да и по их мнению, он достиг большого совершенства, и у него был потенциал, и мучился он над текстом, как никто иной, что было обычно в такие знаковых, если не сказать, эпохальных проектах в судьбоносные времена.
– Увы… – тяжело вздохнул Герман Курбатов, отводя взгляд вроде бы по пустякам, например, из-за мухи на окне, – решение принято наверху и обсуждалось весь последний год! Мы долго взвешивали все «за» и «против», и пришли к выводу, что Булгаков не способен написать роман «Мастер и Маргарита»! Увы…
Он закрыл глаза, как будто читал молитву. Но молитву читать было бессмысленно. В лунном мире она не была действенна.
– Я понимаю… – промямлил Ларий Похабов. – Жаль, что роман не будет дописан.
Его формальная позиция понравилась главному инспектору по делам фигурантов, Герману Курбатову, это было знаком внутренней дисциплины, и он лишний раз убедился в правильности выбора кандидатуры Лария Похабова.
– Будет! Будет! – удивил Лария Похабова Герман Курбатов, крепко сжав тонкие губы и перекинул ногу на ногу. – Этим займётся его жена!
– Елена Сергеевна?.. – удивился Ларий Похабов, стоя по стойке «смирно», и невольно выпучил глаза так, как выпучивал их в состоянии естественного изумления, хотя был мастером камуфляжа высочайшей квалификации. Но сейчас была важна естественность. Герман Курбатов любил естественность и не терпел криводушия. Ларий Похабов знал об этом.
– Другой жены нет, – резонно заметил Герман Курбатов.
– А?.. – скромно поперхнулся Ларий Похабов и сообразил, что Герман Курбатов знает о спасённой рукописи романа. Это стоило ему трёх вагонов энергии, и он на свой страх и риск залез в долги, но теперь рукопись лежала в кладовке, в коричневом дерматиновом чемодане, куда её спрятала Елена Сергеевна, и дело, в общем, не было проигранным. Значит, в принципе, я поступил правильно, подумал Ларий Похабов, хотя действовал не по инструкции, а на свой страх и риск чисто интуитивно.
Донести мог только Рудольф Нахалов. Ларий Похабов и раньше замечал за ним грешки сексота, но не придавал им большого значения, ибо тандем у них был старым и неизменным. Ну и что, что он донёс: Ларий Похабов работал безукоризненно, исключительно только на благо департамента «Л», то бишь в конечном итоге на человеческую культуру, и в этом плане был непогрешим.
– Спишете на наследственность, – криво ответил Герман Курбатов, давая понять, что ему самому претит выносить подобного вида приговоры.
Такие решения всегда были неприятны. Однако они шли в русле существующей системы, весьма жёсткой по сути и прагматичной до мозга костей, и те из лунных человеков, которые работали в двух мирах сразу, естественным образом испытывали душевное разложение, что считалось вредностью профессии и приводило к трансцендентным девиациям.
– Когда? – не без дрожи в голосе спросил Ларий Похабов, хотя вопрос был явно лишним.
– В самое ближайшее время! – строго посмотрел на него Герман Курбатов, зная, что Ларий Похабов любит своевольничать и тянуть резину, хотя, по большому счёту, это и не было критично.
– Есть! – тотчас щёлкнул каблуками Ларий Похабов, ощутив подвох.
– После этого будете вести работу с его женой в том же самом ключе, – поведал Герман Курбатов. – Роман должен быть дописан и отредактирован за четверть века.
Ларий Похабов с облегчением, но так, чтобы не заметил Герман Курбатов, вздохнул. Всю вторую половину разговора он ждал эту фразу: они с Рудольфом Нахаловым остались у дела. Это было главное. Значит, к ним претензий нет и можно продолжать в том же духе наращивания результатов, хотя они и были мало очевидны, растянуты во времени и, казалось бы, ничтожны, но результат мог явиться неожиданно.
Ларию Похабову стало стыдно, он знал, что чуть-чуть, но всё же не дорабатывает, и решил, что дожмёт Булгакова в самое ближайшее время.
Казалось начальник департамента «Л», главный инспектор по делам фигурантов, Герман Курбатов, всё понял, потому что криво усмехнулся.
Однако Ларий Похабов тоже был не лыком шит.
– Но… она… – смел возможным робко напомнить он, – она не писатель?..
Тем самым он хотел показать, что разбирается в тонкостях ремесла, и невольно задел тайные тревоги Герман Курбатов: ничто так не страшило никого, как будущее с её неопределённостями, которыми занимались совершенно другие службы. Рекомендации, которые они выдавали, легли в основу решения о Булгакове. Это надо было понимать в буквальном смысле: от его романа зависло самое ближайшее будущее русской литературы и вероятность её знаковости в период падения вкусов.
– Вот это и есть ваша основная задача, – на басовитых нотах произнёс Герман Курбатов и снова перекинул ногу на ногу. – Проявите гибкость мышления! Поможете ей! Сдвиньте координаты проекта! Измените психологию фигурантов! Энергии не жалейте! Вам будут выделены средства, и вы получаете расширенные полномочия! В вашем распоряжении любые соседствующие проекты, можете привлекать известных писателей, которые могли бы полезны в этом вопросе. Елена Сергеевна должна общаться с творческими людьми. Да! – вспомнил Герман Курбатов. – Обязательно застрахуйте её ото всех возможных и невозможных неприятностей! За этим следите строже всего!
– Есть… – ещё раз отозвался Ларий Похабов, который даже не имел возможность перемяться с ноги на ногу; в голосе у него прозвучали нотки уныния, – есть после смерти Булгакова работать с Еленой Сергеевной. Разрешите вопрос?
– Спрашивайте, – благоволил Герман Курбатов, хотя не любил долгих разговоров с подчинёнными.
– А почему сам Булгаков не может его дописать?
Привлекать известных писателей можно было только втёмную, эффект от таких проектов падал в тридцать три раза. Легче было Булгакова сохранить.
– На основе анализа ваших отчётов и проведенных работ Совет Департамента пришёл к выводу о не перспективности дальнейшего сотрудничества с писателем Булгаковым, – ещё раз повторил Герман Курбатов. – Вы же всё перепробовали?
Герман Курбатов встал, словно его одолевала скука, и, как аист, выбрасывая длинные ноги, прошёлся к окну, заложив руки за спину. Ларий Похабов, подобно светофору, следовал за ним взглядом, не смея повернуть головы. Герман Курбатов отдёрнул штору и посмотрел с высоты третьего этажа вниз. В голом августовском сквере одиноко, как голодный школяр, сидел младший куратор Рудольф Нахалов.
На самом деле, главному инспектору Герману Курбатову было очень и очень горько: заканчивался большой этап в его жизни, длиной целых одиннадцать лет. Этап неудачный и провальный. Самая-самая последняя надежда была на Елену Сергеевну, но это ещё было писано вилами на воде, и Герман Курбатов нервничал, естественно, не подавая вида подчинённым. Скверно разворачивающиеся события приводили не только к большим душевным потерям. Цивилизация качнулась, крен оказался угрожающим, и меры принимались по всем направлениям, литература не была исключением.
Тут ещё.
– Так точно… – гаркнул, признаваясь в своих грехах Ларий Похабов и невольно вспомнил не только все выходки и издевательства Булгакова над собственным детищем, но и не только то, что бросил его писать, а занялся сведением счётов со всеми своими обидчиками в различных своих произведениях, в том числе и в романе «Записки покойника». Одно название чего стоило! Так можно было загреметь под фанфары, и мы не поможем, тягостно думал Ларий Похабов, как впрочем, и его аховый помощник, Рудольф Нахалов.
– Рано или поздно его обязательно втянут в какую-нибудь контрреволюционную историю, – поморщился Герман Курбатов, словно угадывая мысли подчиненного, – к этому всё идёт.
– Я полагаю, что мы можем защитить его от такого разворота события, – скосился на него Ларий Похабов, гордый за самые передовые технологии лунного мира.
– Вряд ли… – Герман Курбатов тяжело посмотрел на Лария Похабова, словно определяя степень его лояльности. – В принципе… – сказал он без всякой надежды, – можете его напугать любым доступным вам образом. Но только последний раз! Объясните без оконечностей, что его ждёт!
Они крайне редко применяли сказочные методы спасения, дабы не нарушать земного течения жизни. А в истории с Булгаковым к этому всё шло. И надо было испрашивать лицензию для такого вида работ. Но даже локальное вмешательство не поощрялось и было предметом разбирательств на самом высоком уровне. Мелкие аномалии списывались на ошибки очевидцев, а крупные, затрагивающие глобальные процессы, проводили по статье «зашоренность земной науки и населения». Никто не должен был знать о существовании лунного мира и его роли в земной цивилизации, чтобы эта самая цивилизация в конечном итоге не уселась на шею и не свесила ножки. В истории Земли такое уже бывало.
– Я понял, – сказал Ларий Похабов, не смея выдать дружеских чувств относительно Булгакова.
К ним привыкаешь, подумал он с болью в сердце, как к земным детям.
– Инструкцию о дальнейших действиях получите в канцелярии, – сухо сказал Герман Курбатов, закругляя разговор.
– Есть! – ответствовал Ларий Похабов, ловко щёлкнул каблуками и вымелся из кабинета начальства в самом подавленном состоянии духа.
Герман Курбатов наблюдал из окна.
– Ну что?.. – вскочил Рудольф Нахалов в Ильинском сквере напротив, где в пруду плавали чёрные лебеди, а кот Бегемот безуспешно ловил на обед пескариков, используя в качестве улочки свой ободранный хвост, и уже порядком замёрз.
Ларий Похабов в двух словах уныло пересказал содержание разговора с главным инспектором Германом Курбатовым.
– Это конец… – обескуражено пробормотал Рудольф Нахалов, хотя Булгаков сделал буквально всё, чтобы подвести их к такому тяжелому решению.
Рудольф Нахалов испытал то же ощущение, что и Ларий Похабов. За долгие годы они невольно подружились с Булгаковым и стали почти друзьями.
– Получено разрешение испугать его самый последний раз, – вяло, не веря даже самому себе, сказал Ларий Похабов.
– Надо открыть ему все карты! – горячо заговорил Рудольф Нахалов, хотя понимая, что уж они-то с Ларием Похабовым перепробовали все варианты.
– Не всё, конечно, – кисло поправил его Ларий Похабов. – О роли Германа Курбатова он не должен знать, а вот Дукака Трубецкой нам поможет.
– Ты думаешь провернуть эту комбинацию? – воодушевился Рудольф Нахалов.
У них были готовы несколько вариантов, и они так часто оговаривали их, что обоим порой казалось, они их уже реализовали и забыли, а Булгаков, как всегда, не реагирует.
– Это наш единственный шанс испугать его, – поморщился от его энтузиазма Ларий Похабов.
Уж он-то знал, что от планов до их реализации огромная дистанция и на ней запросто можно потеряться. Но промолчал, боясь сглазить, ибо даже лунные человеки не были абсолютно всесильны.
***
Когда ему без объяснения причин отказали в третий раз и все его работы в театрах страны благодаря «Главреперткому» пошли коту Бегемоту под хвост, он понял, что ему осталось одно-единственное оружие: отомстить всем этим подлейшим людишкам через роман «Записки покойника». Жаль, что я не знаю, кто мне гадит в правительстве, исходя желчью, думал Булгаков, я бы и его прописал, как самого гадкого и продажного фарисея. Он понимал, что после такого романа он не жилец не только в физическом, но и даже в лунном мире лунных человеков, потому как и там достанут; он отряхнул пыль с ног и стал писать так, когда человеку всё равно, что подумают о нём сильные мира сего.
Он сунул спасенный чудесным образом из огня роман «Мастер и Маргарита» Елене Сергеевне и сказал, мысленно относясь к лунным человекам и главному из них, Ларию Похабову:
– Спрячь! Спрячь его, чтобы я не соблазнялся! И не отдавай, пока я очень и очень не попрошу!
– Ладно, – опешив, кивнула она, мысленно благословляя его за то, что он разозлился и взялся наконец-то за дело.
И спрятала так, что и сама забыла куда; конечно же, в коричневый дерматиновый чемодан, в самый низ кладовки, под одежду, обувь и швейную машинку.
У него ещё теплилась надежда относительно пьесы «Пастырь» о Сталине, которую он вынашивал последние пять лет. Написать её было пара пустяков, однако он небезосновательно подозревал, что наветники нашептывают Сталину только плохое. Но кому я нужен?! Кому?! – ломал он голову, полагая, что Сталин мудр, дальновиден и великодушен.
– Если пьеса пойдёт, – с непонятной надеждой говорил он Елене Сергеевне, – то наши дела не то что поправятся, а круто полезут в гору.
– А как же «Мастер и Маргарита»? – напомнила она не без опасения вызвать вспышку его раздражения.
– А… – беспечно, как показалось ей, махнул он, – не до неё. Потом как-нибудь.
Елена Сергеевна хотела сказать, что «потом» уже не будет, что жизнь кончается, но не сказала, связанная по рукам и ногам клятвой полковнику Герману Курбатову, и тайком пила на кухне баварские сердечные капли.
Булгаков же по ночам и строчил то пьесу о Сталине, то роман-разоблачение о театре. Мысль о том, что «Мастер и Маргарита» ждёт не дождётся его пера, терзала его весь светлый день, а ночью всё повторялось, словно кто-то преднамеренно не давал ему вернуться к «Мастеру и Маргарите» и рассчитаться с долгом.
Когда пьеса «Пастырь» была закончен и даже прочтена и одобрена в МХАТе, а весть об этом мгновенно разнеслась по театральной Москве, и к Булгаковым в гости вдруг явился никто иной как «маленькая острозубая скотина», как называл его Булгаков, золотушный Дукака Трубецкой, с козлиной бородёнкой, с выбитым передним фарфоровым зубом и густо-лиловым синяком под левым глазом. Вид у него было взлохмаченный, как после чудовищной трёпки, а воняло от него по-прежнему знакомый запахом батумской тюрьмы.
– Поговорить надо… – произнёс он заговорщически и проскользнул, совсем, как лунные человеки в минуту волнения, мимо изумлённого Булгакова в кабинет.
С гордым видом Дукака Трубецкой достал из-за пазухи бутылку прозрачного, как слеза, самогона и со значением поставил на стол рядом с рукописью дешёвой, ширпотребовской пьесы.
Елена Сергеевна сделала круглые глаза и побежала готовить закуску. При всей одиозности фигуры Дукаки Трубецкого, его посещении было знаковым, просто так он не являлся бы и не посмел бы явиться после попытки отравления болиголовом.
Чёрт знает, а вдруг он принёс хорошую новость, суеверно уступил Булгаков и едва не перекрестился, глядя на его испитое лицо циррозника.
– Ты ведь стремишься в Батуми?.. – с ехидными нотками спросил Дукака Трубецкой, высыпая карандаши из стаканчика художественного стёкла и подув в него для проформы, будто бы ему было не всё равно из чего пить.
– Ну да… – покривился Булгаков на его самовольство, – чего надо-то?
Пьеса о молодом Сталине была последней соломинкой, за которую он инстинктивно ухватился. «Или пан или пропал», – сказал он Гэже, имея в виду что позиция общества к нему настолько враждебна, что дальше некуда, и лишь только пьеса о Сталине способна была переломить обстоятельства. В этом плане идея Булгакова была идеальна: одним выстрелом убить трёх зайцев, восстановить доверие Сталина, его политического антуража и реабилитироваться в глазах безапелляционно настроенного народа, выбив тем самым из рук врагов все главные козыри предубеждения. Начнётся новая жизнь, воодушевлённо думал Булгаков, рисуя в воображении рукоплещущие волны масс.
– Поздравляют, – смело воскликнул Дукака Трубецкой, делая вид, что не замечает натянутого отношения к себе, – от всей души! – Демонстративно и со значением налил в стаканчик самогона и выпил одним махом, поцокав языком в знак его высоких вкусовых качеств, посмотрел на Булгакова, а потом визгливо спросил, – ты до сих пор ничего не знаешь?.. – льстиво заглянув в глаза Булгакова.
Самое время было выкинуть Дукака Трубецкой за порог, но Булгаков сдержался, лишь поморщился и удивился.
– Чего не знаю?.. Гэже, – отвернулся с презрением к дешёвым фокусам Дукаки Трубецкого, – дорогая, принеси что-нибудь закусить! – крикнул он.
Он решил, что Дукака Трубецкой припёрся клянчить денег. Деньги были, но давать их Дукаке Трубецкому не имело абсолютно никакого смысла. Пусть его Юлий Геронимус кормит, подумал Булгаков, своего денщика.
Елена Сергеевна принесла варёную баранину, горчицы, хлеба и стаканы. При ней Дукака Трубецкой таинственно замолчал и принял многозначительный восточный вид, означающий: при женщине о делах ни слова.
– Выпьешь с нами? – нарочно спросил Булгаков, чтобы озлить Дукаку Трубецкого.
– Нет, я такую гадость не пью, – ответила Елена Сергеевна с укором и взглянула Булгакова, мол, не перебери, и ушла.
– Я же понимаю… – сладострастно поморщился ей вслед Дукака Трубецкой. – Молодая жена и всё такое…
– Э-э-э… – с угрозой предупредил его Булгаков, – не про твою честь! Что случилось-то? – И на правах хозяина разлил по стакан самогон, нацеливаясь на баранину с горчицей.
– А ты точно не знаешь?.. – загадочно посмотрел на него Дукака Трубецкой и тоже потянулся за закуской, от которой исходил сладостный запах специй.
Его подбитый глаз смотрелся, как светофор на тёмной дороге. Булгаков начал что-то подозревать, например, проказу у половины Москвы.
– Сейчас ткну сюда, – пообещал он, показав на горчицу.
– Утонул… – прожевывая кусок мяса, торжественно шмыгнул носом Дукака Трубецкой. – Утонул на святках!
– Когда?.. – понял Булгаков причину прихода Дукаки Трубецкого и моментально прочистил осипшее горло.
Ну да, обычно они везде шлялись вместе, а нынче Дукака Трубецкой – один. Как я сразу не догадался, подумал он, цепенея от траурных мыслей.
– В прошлом годе, однако, – непонятно почему с укором сказал Дукака Трубецкой, – катаясь на Клязьме.
Булгаков с изменившимся лицом налил себе самогона, не предлагая Дукаке Трубецкому, и выпил. Он вспомнил, как пришёл к Юлию Геронимусу зимой в женской шубе и поиздевался над ним всласть за его беспомощность в литературе. Ему стало совестно. Таких, как Юлий Геронимус, пруд пруди, и ещё столько же в окрестностях Москвы, что ж всех презирать? Презиралки не хватит, подумал он сокрушенно.
– Мне никто ничего не сказал!.. – упрекнул он с каменным лицом.
Он не хотел раскрывать то, о чём подумал: всё же Юлий Геронимус был его другом, пусть аховым, пусть говновеньким, но другом, которых в жизни не так уж много.
– Так вы ж… на ножах… – выжидательно посмотрел на него Дукака Трубецкой, скосив голову, и бесхитростно поскрёб себе морду лица.
И Булгаков неожиданно для себя купился на этот дешёвый приём: ему стало жаль прошлого, друзей, с которыми разошёлся и больше никогда не увиделся, оказывается, до могилы, и, конечно же, Тасю, которую самозабвенно любил. Всё кануло в небытие! Ему стало страшно. Жизнь была безжалостна, как карцинома.
– Ты… это… не форси! – возразил он с горя, давая понять, что всё это полнейшая ерунда, друг он всегда остаётся другом, почитай, до конца жизни.
– О… о… о… – юродствуя, простонал Дукака Трубецкой и завихлял для острастки плечами, намекая на попытку отравления, Ракалию и прочие инциденты типа дуэли и сплетен за спиной Булгакова. Кое-кто на это купился и вовсю шустрил в правительстве перед Сталиным, дабы только опорочить Булгакова.
Но Булгакову было не до его шуточек. Он хотел спросить, помог ли кто-то Юлию Геронимусу, что сейчас дюже модно, или он сам прыгнул за борт в чёрную, ледяную воду, но не спросил. Какая разница, подумал он, «внутренняя эмиграция». Но почему? Мысль о том, что Юлия Геронимуса банально убили, поразила его. За что? Уж куда меня сподручней, подумал он, и ещё раз удивился судьбе, которая имела очень странные, если не сказать, нелепые предпочтения.
– А-а-а… – с пониманием отозвался Дукака Трубецкой, открыв плоский, как у леща, рот с выбитым зубом и заскулил в своём вечно идиотском сарказме. – Я неделю пил!
– Где похоронен? – спросил, не слушая его, Булгаков.
– На Донском… Да… – вспомнил Дукака Трубецкой и поморщился, потому что здорово напился и подрался с гробовщиками, а они его нещадно побили черенками от лопат.
– Гэже… – позвал Булгаков, – Змей Горыныч умер…
– Да?.. – удивилась она, заглядывая в кабинет. – Туда ему и дорога, чёрту толстому!
– Не говори так… – моментально расчувствовался Булгаков, глядя на её прекрасное лицо, дышащее заботой и любовью.
– Миша… – остановила она его, не обращая внимания на Дукаку Трубецкого, – сколько он тебе гадостей сделал? Сколько?!
– Много… – сморщился Булгаков, – много… ну а что же теперь?.. – Давая понять, что о покойнике ни единого плохого слова.
– Дело хозяйское, – сделала она возмущенное лицо на его бесхарактерность, – я бы не простила! – и ушла, гордо тряхнув головой с красиво закрученными кудрями.
Дукака Трубецкой опять же с чисто восточным порицанием посмотрел ей вслед: женщина есть женщина, что с неё возьмёшь?
– У меня план, – заговорщически наклонился он к Булгакову, делая вид, что всецело на его стороне.
– Что ещё за план? – инстинктивно отстранился Булгаков, потому что ни под каким соусом не доверял Дукаке Трубецкому, низкому, золотушному человеку.
– Сделать ноги в Турцию… – возбуждённо зашептал Дукака Трубецкой.
– Ты что, спятил?! – ещё больше отшатнулся Булгаков, чувствуя, как у него самопроизвольно кривятся губы. – Я знаю, что ты провокатор, но не до такой же степени!
– Я?! – сделал обиженный вид Дукака Трубецкой. – Провокатор?! Я, может, и завидовать твоей славе, но никогда на тебя, в отличие от некоторых, не доносил!
Булгаков знал, что они его ненавидели за один талант. Он ещё ничегошеньки приличного не сделал, а они уже загодя враждовали и плели за его спиной заговоры.
– Ну всё! Хватит! Забирай свой самогон и вали!
Обсуждать скользкую тему с человеком, который запачкан с головы до ног, было не с руки да и просто опасно.
– Я-то уйду, – почему-то обрадовался Дукака Трубецкой, блеснув фарфоровой улыбкой с выбитым зубом, – только ты можешь быть следующим. Не утопят, так застрелят!
– Топай, топай… – миролюбиво процедил Булгаков, дёргая своим прекрасным носом-бульбой, – пока цел.
– Ладно… – с достоинством согласился Дукака Трубецкой, – как хочешь.
И пошёл к выходу. Булгаков – за ним, и главное, уж потом сообразил, что без всяких щелчков в голове, словно лунным человекам было всё равно, вляпается он в дерьмо или нет, что это и есть главная интрига Дукаки Трубецкого.
Около двери Дукака Трубецкой снова горячо зашептал, прижимаясь к Булгакову, как бумажка к клею.
– Найдёшь Ираклия Вахтангишвили и отдашь ему это письмо! – и сунул в руку Булгакову конверт.
– Иди к чёрту! – дёрнулся Булгаков, и конверт отлетел в угол.
– Ладно… пока, – разочарованно молвил Дукака Трубецкой, блеснув лиловым глазом, – только когда за тобой придут, вспомнишь мои слова!
Как классик жанра и главный редактор журнала на Садово-Триумфальной, Дукака Трубецкой говорил суть только в конце сцены. В этом была его натура. Но до трагизма он не дотягивал ввиду хилости конструкции души.
– Бывай! – сказал Булгаков и вытолкал его взашей, а потом стал искать злополучное письмо.
Оказывается, оно провалилось за тумбочку, где, как на чердаке, было полно пыли и запустения.
Булгаков вскрыл конверт, чтобы узнать, к чему приговорил его Дукака Трубецкой, однако письмо было на грузинском языке.
– Что-о-о… такое? – удивилась Елена Сергеевна.
– Не знаю, – повертел письмо в руках Булгаков, – Дукака Трубецкой оставил.
– А что там написано?
– Без понятия, – пожал он плечами.
– Выбрось! – посоветовала Елена Сергеевна.
И вдруг того самого момента план побега показался Булгакову до умопомрачения простым, а главное, естественным: они приезжают, находят шкипера Гочу, падкого до денег, арендуют его шаланду до Трапезунда, и дело в шляпе. Одно название «Трапезунд» звучало для Булгакова как музыка.
– А если же с ним не выгорит?.. – спросила Елена Сергеевна.
– Тогда можно обратиться и к Ираклию Вахтангишвили, – мечтал Булгаков. – Письмо Дукаки Трубецкого весьма кстати…
Елена Сергеевна только осуждающе покачала головой, но остановить Булгакова не могла.
***
«И Миша что-то задумал, ночью стал приставать ко мне со странными разговорами.
– Я вот думаю… – сказал он почти весело, – почему мне не везёт?..
– Потому что ты крайнее меньшинство, – ответила я.
– А как бы мы в Париже хорошо с тобой зажили? А?..
Я посмотрела на потолок, по которому пробежали огни от машины за окном, и ответила:
– И не думай! Тебе здесь пробиться надо. А в Париже у тебя новые враги появятся!
Он с недовольством хмыкнул и замолчал. Я поняла, что он не даст уснуть, пока не обсудит со мной проблему своих неудач.
– В Париже… я бы мог писать, не боясь ничем, – помечтал он, как о заварной булочке.
– Чтобы моментально стать антисоветчиком, – ехидно резюмировала я.
– Можно было дописать трилогию «Белой гвардии»… – не слушая меня, погрузился он в мечты.
– Кого это интересует? – искренне удивилась я. – Кого?! Миша?!
– Меня… – спокойно ответил он.
Но я-то знала, что он весь клокочет внутри, потому что фантазии его были кривыми и романтическими.
– А что в Париже? – возмутилась я. – Что? Толстого там уже нет. Он в Москве. Здесь ты пишешь, потому что зол, а там? Там другие люди, она потянут тебя в своё болото и заставят делать то, что им нужно, а здесь тебя забудут, как всех других, бросивших родину.
Он помолчал, не ожидая от меня таких слов, а потом мечтательно сказал, не поверив:
– Нет… ты не права… Париж!!!
Он явно витал в облаках и не понимал ситуации.
– Я права… – напомнила я ему, – я так права, что посмею тебе напомнить о лунных человеках!
– К чёрту лунных человеков… – пробормотал он угрюмо, – всю жизнь мне сгубили!
– Тихо ты! – оборвала его я, имея в виду, что они слышат каждое наше слово.
– К чёрту! – намеренно громко сказал он, глядя в самый дальний тёмный угол комнаты.
– Однако без них ты вообще ничего бы не сделал! – ехидно напомнила я и едва не проговорилась о полковнике Германе Курбатове, но вовремя прикусила язык.
– У меня и без них всё получится! – самоуверенно заявил Миша. – У меня прекрасные мозги!
Почему-то я была уверенно, что именно так говорить нельзя, что самоуверенность наказуема, как порок, и стоит на втором месте после вранья.
– А тебе не кажется, что они ювелирно вправили тебе эти самые мозги? – ехидно спросила я.
– Не кажется! – отреагировал он живо. – Нет! Вот возьму письмо! – пригрозил он так, что я поняла, обязательно возьмёт, даже несмотря на все мои протесты.
– И не вздумай! – возмутилась я. – А вдруг это провокация?!
– А если не провокация?! – сел он, опершись на подушку, и в лунном свете лицо его казалось мертвенным. – Если всё реально! Если у нас появился единственный шанс?! Заживём! Деньги есть!
– Если ты о моём ридикюле, то забудь! – остудила я его пыл.
Я вынуждена была рассказать ему о моём способе добывания денег и о полковнике, но только в ракурсе этой проблемы, не более. Ещё неизвестно, как к этому отнесётся Герман Курбатов?
– Тебе жалко… – отвернулся он к стене.
– Миша… – горячо зашептала я, – для тебя мне ничего не жалко! Но сам подумай! Кому мы там нужны?
– Ты – мне! Я – тебе! Напишу романы! Издам! – предался он мечтам, – нам будет рукоплескать мир!
– Ты здесь допиши «Мастера и Маргариту»! – твёрдо сказала я ему. – Ведь сколько лет мучаешься!
– Оттого и мучаюсь, что не могу! – вспылил он. – Не моё это! Не понимаю я его! Я всё время сползаю в насмешливость и ехидство! Мне это надоело! Я хочу нормального, полновесного романа, с любовью и отношениями. А здесь на фоне революционного бардака какая-то мистика! Полнейший абсурд!
И он рассказал мне, что накануне к нему во сне приходил главный инспектор Герман Курбатов и потребовал: «Прекрати сводить счёты! Убери все известные фамилии и экивоки на личности». «И я понял, что опасность реальна, как никогда», – сказал он мне очень серьезно.
– Я тебя уверяю, – вспомнила я слова полковника Германа Курбатова, – твой роман станет бестселлером мирового уровня!
Большего я не могла ему сказать. Я и так сказала слишком много.
– Ха-ха-ха! – раздельно рассмеялся он. – После моей смерти! – добавил уныло, и как в воду глядел.
Сердце моё облилось кровью. Теперь я знала, что так будет всегда, как только мы затеем разговор о романе «Мастер и Маргарита», что я начала страдать, как никто иной, и что это мой крест до конца дней моих. Роман, вокруг которого крутилось столько страстей, сделался камнем преткновения для странных сил, которые для большинства людей в обыденной жизни незнакомы.
– Спи! – сказала я. – Утром придёт машина!
– Да… – пробормотал он, повернулся на бок и уснул».
***
«Утром, казалось, что мы забыли этот разговор. Я пытливо посмотрела на него, но лицо у него было весёлым и беспечным. Он брился и уже был весь в дороге и новых приключениях. Ну слава богу, подумала я, авось пронесёт.
В десять за нами пришла машина, мы сели и поехали на Курский вокзал.
С нами ехали: главный художник Тарас Паникоровский, третий режиссёр Вольф Баракин и администратор Максим Агапитов. И мы не знали, кто из них соглядатай власти.
Все трое в купе через вагон, а мы – в мягком.
Максим Агапитов, рыжий молодой человек с чернеющими зубами, сказал:
– Приходите, у нас «хванчкара» есть! – он дёрнул сеткой, в которой звякнули бутылки.
– Всенепременно, – мимоходом среагировал Миша, подсаживая меня в вагон.
Я поняла, что никуда не пойдёт, а будет обсуждать со мной план побега. Мороз пробежал у меня по коже.
– Приходите, приходите, – сказал Тарас Паникоровский, человек, обременённый заметным брюшком и перхотью на ушах.
Незаметно для Миши, он волочился за мной, когда я порой приходила к Мише в театр. Я всегда делала вид, что его не замечаю, и не позволяла ему перейти границы приличия.
Третий режиссёр, высокий, интеллигентный Вольф Баракин, подал Мише чемодан. Миша сделал всем ручкой, и мы пошли в купе.
Миша явно нервничал, подталкивая меня, хотя старался не подавать вида, но я-то хорошо его знала.
Однако, к моему удивлению, мы молча поужинали курицей, которую я взяла, и легли спать. Миша пить вино не пошёл. Я поняла, что всё-таки взял злополучное письмо Дукаки Трубецкого и готовился к самому худшему.
Утром он выглядел хуже смерти, не спал в ожидании ареста. Но к нашему удивлению, поезд медленно и даже нехотя миновал Новочеркасск, где мы стояли полчаса, затем – Ростов-на-Дону, и Миша заметно повеселел, ибо здесь было самое удобное место взять нас за цугундер в случае чего. А когда мы стали приближаться к Батайску, то вообще заказал чаю и бубликов.
И вот мы сидим, пьем чай, хрустим бубликами, как вдруг Миша посмотрел в окно и сказал упавшим голосом:
– Это точно за нами…
Я посмотрела: по перрону озабоченно поглядывая на наш вагон шли двое в кожанках, косоворотках и армейских сапогах. За пазухой у них было по револьверу. Мы перестали жевать и с ужасом уставились на дверь. Через мгновение в неё требовательно постучали.
– Открой… – мотнул головой Миша, – у меня отказали ноги…
Я поднялась и открыла. Во мне не было ничего, кроме пустоты. Всё было кончено.
– Булгаков Михаил Афанасьевич? – спросил тот, который был русским, – и Елена Сергеевна Булгакова?
– Да… – простонал Миша, – это мы…
– ОГПУ по ростовской области! – предъявил бумагу.
Второй был грузином, с буйной шевелюрой из-под кепки.
– Проходите, – выдавил Миша, – и подвинулся в угол, к окну.
Они вошли, сели на скамью к Мише, очень культурно и даже стеснительно, что меня удивило. Русский, фамилию которого я запомнила: Григорий Моногаров, спросил:
– Когда вы в последний раз видели главного редактора журнала Дукаку Трубецкого?
Миша, бледнее смерти, ответил:
– Позавчера, часов… во сколько? – повернулся он ко мне, выигрывая время, чтобы прийти в себя.
– К вечеру… – сказала я тоже неспешно, – в шестнадцать… а пять он ушёл…
– А где вы были утром? – быстро, как на допросе, спросил Григорий Моногаров
– В поезде… – удивился Миша и даже пошевелился, ибо дело, кажется, было не в злополучном письме.
Григорий Моногаров осуждающе, как мне показалось, посмотрел на грузина, мол, чего ты выдумываешь?
– Я тебе сразу сказал… – укорил его грузин почти без акцента, но с характерным эмоционально жестом.
– Сегодня в пять часов утра он был убит возле дома выстрелом в голову, – сказал Григорий Моногаров, твёрдо глядя на нас и, вероятно, проверяя нашу реакцию.
– Ё-моё! – вырвалось у Миши. – Не может быть!
Я же промолчала, только прижалась к окну. Мне было страшно.
– Зачем он к вам приходил? – спросил грузин со своим эмоциональным жестом рукой.
– Он принёс весть о смерти Юлия Геронимуса, директора первого столичного издательства, – сказал Миша, – который утонул год назад в Клязьме.
– Да, да мы в курсе, – остановил его грузин. – Это понятно. А зачем приходил?
Миша побледнел и выпучил глаза. Я испугалась, что его хватит удар.
– А не передавал ли он от вам письма или какие-нибудь бумаги? –помог ему Григорий Моногаров.
– Передавал… – сказал Миша и достал злополучное письмо из папки с пьесой, которая лежала на столе.
Григорий Моногаров твёрдой рукой открыл конверт, вытащил письмо и с недоумением сказал, протягивая его грузину:
– Это по твоей части…
Вид у него был крайне озабоченный.
– А что случилось?.. – наконец выдавил из себя Миша.
– Минуточку… – остановил его Григорий Моногаров и вопросительно уставился на грузина.
Чем больше его товарищ читал письмо, тем больше его лицо выражало недоумение.
– Это сказка… – пожал он плечами. – Ха!
– Сказка?.. – удивился Григорий Моногаров.
– Ну да. О медведе и муравье. Медведь пришёл к муравью и стал испрашивать у него совета, как ему лучше провести зиму…
– Подожди… – остановил его Григорий Моногаров, – а дальше?..
– А дальше подпись главного редактора и приписка: «Главному редактору детского издательства «Сцавлани» Ираклию Вахтангишвили».
– И всё?! – удивлению Григория Моногарова не было предела.
– А что ещё? – потряс письмом грузин. – Я таких сказок в детстве много читал. Ха! – он чисто по-грузински дёрнул рукой, мол, какие ещё разговоры?!
– Так… – поднялся Григорий Моногаров, видно, он был старшим, – письмо мы изымаем на экспертизу. – А вам, товарищи литераторы и театралы, счастливой дороги!
– До свидания! – культурно-вежливо сказал грузин, надел в дверях кепку и ушёл вслед за Григорием Моногаровым.
– Слава богу… – простонала я и посмотрела на Мишу.
– Я ничего не вижу, – ответил он, – я ослеп…»
***
«Это стало началом конца. Я сразу поняла, о чём предупреждал полковник Герман Курбатов.
Внезапно в купе вошла проводница и вручила нам телеграмму-молнию.
Я прочитала: «Главрепертком» отменяет пьесу «Батум» тчк. Экспедиция отменяется тчк. Возвращайтесь тчк.»
Сталин тоже предал нас! Но это уже было неважно, это было каплей в море нашего страдания.
Миша сказал, глядя на меня невидящими глазами:
– Всё кончено! Возвращаемся в Москву! Надо срочно дописать роман!»
***
– В чём дело? Что произошло? – гневно спросил Герман Курбатов, хотя, конечно же, был в курсе дела.
– Всё было на мази… – от страха перешёл на жаргон Ларий Похабов, – он должен был только сильно испугаться… письмо мы подменили… Но…
– Не продолжайте… – как от кислого, сморщился Герман Курбатов.
Ему было невыносимо больно услышать то, что он должен был услышать.
– Организм не выдержал… – добавил Ларий Похабов с горестным выражением на лице.
– Да… – взял себя в руки Герман Курбатов. – Вы знаете, что делать дальше?..
– Так точно!
– Действуйте! – отвернулся Герман Курбатов.
Ларий Похабов щёлкнул каблуками и быстро, по-военному, вышел. Герман Курбатов посмотрел в окно. Внизу, перед домом, на лавочке, как школяры, сидели двое: Рудольф Нахалов, младший куратор, в старом клетчатом пальто и зимней фуражке с опущенными отворотами, и кот Бегемот с траурной ленточкой на драном хвосте. Котелок, который имел свойство пропадать в самый неподходящий момент, был при нём.
Все трое понуро вздохнули и направились в сторону Новодевичьего кладбища, туда, где должен был быть похоронен Булгаков. Служебной машины им не полагалось по уставу.
***
«Миша понял, что жизнь подошла к логическому концу. И началась гонка со смертью. В нашем распоряжении было полгода. Мы спали по два часа в сутки. Днём Миша диктовал мне текст. Потом правил его. Я переписывала набело. Он делал вставки, и всё начиналось заново. Если учесть, что нас отрывали на медицинские обследования, консилиумы и авторитетные комиссии, то времени оставалось совсем мало. В день удавалось написать не более десяти листов. Ночью он меня будил, и я записывала текст. Тело его быстро слабело, но воля оставалась прежней, и он спешил.
Теперь ничего не имело значения: ни власть Сталина, ни презрение толпы. Не к этому ли Миша стремился? К свободе духа!
Когда он понял, что смерть близка, то сказал:
– Дай мне слово, что ты допишешь роман!
– Даю, мой друг, даю… – заплакала я.
– Нет, ты дай так, чтобы я поверил! – потребовал он.
– Я тебя никогда не брошу… – сказала я сквозь слёзы, – всё будет так, словно мы здесь всегда с тобой вместе! Как прежде, вместе!
И он поцеловал меня».
***
«Прошло много лет: война, пустые надежды, обновление. Мишин роман наконец увидел свет. Я была счастлива!
Вчера ко мне приходил полковник Герман Курбатов. Он долго глядел мне в глаза, сжимая мою ладонь. Молча поцеловал мне руку и ушёл. Я поняла, что у меня не более трёх дней. На рассвете я, совсем, как Миша, сожгу дневники, оставлю только то, что будут читать люди. На второй день пойду в театр на Петровке, посмотрю «Лебединое озеро», вернусь, лягу и умру на рассвете, думая о нём, о моём Мише…»
Конец.
Начат 12 июля 2018, закончен 27 августа 2020 г.
Послесловие:
Вы думаете, история Булгакова закончилась? Нет… господа! Она только, только-только начинается, ибо оковы сброшены, окна растворены и солнце наполнила чертоги нехорошей квартиры. И там зарождаются новые тайны. Там летает Маргарита и Мастер направляет путь. Там, где живет вечная любовь, там, где ей нет ни начала ни конца, появятся новые лица и новые герои открою нам горизонты тайн мироздания и новые истории ждут не дождутся нас.
[1] Российская ассоциация пролетарских писателей.
[2] «Баня» Маяковского.
[3] Намёк на «Кабалу святош» Булгакова.