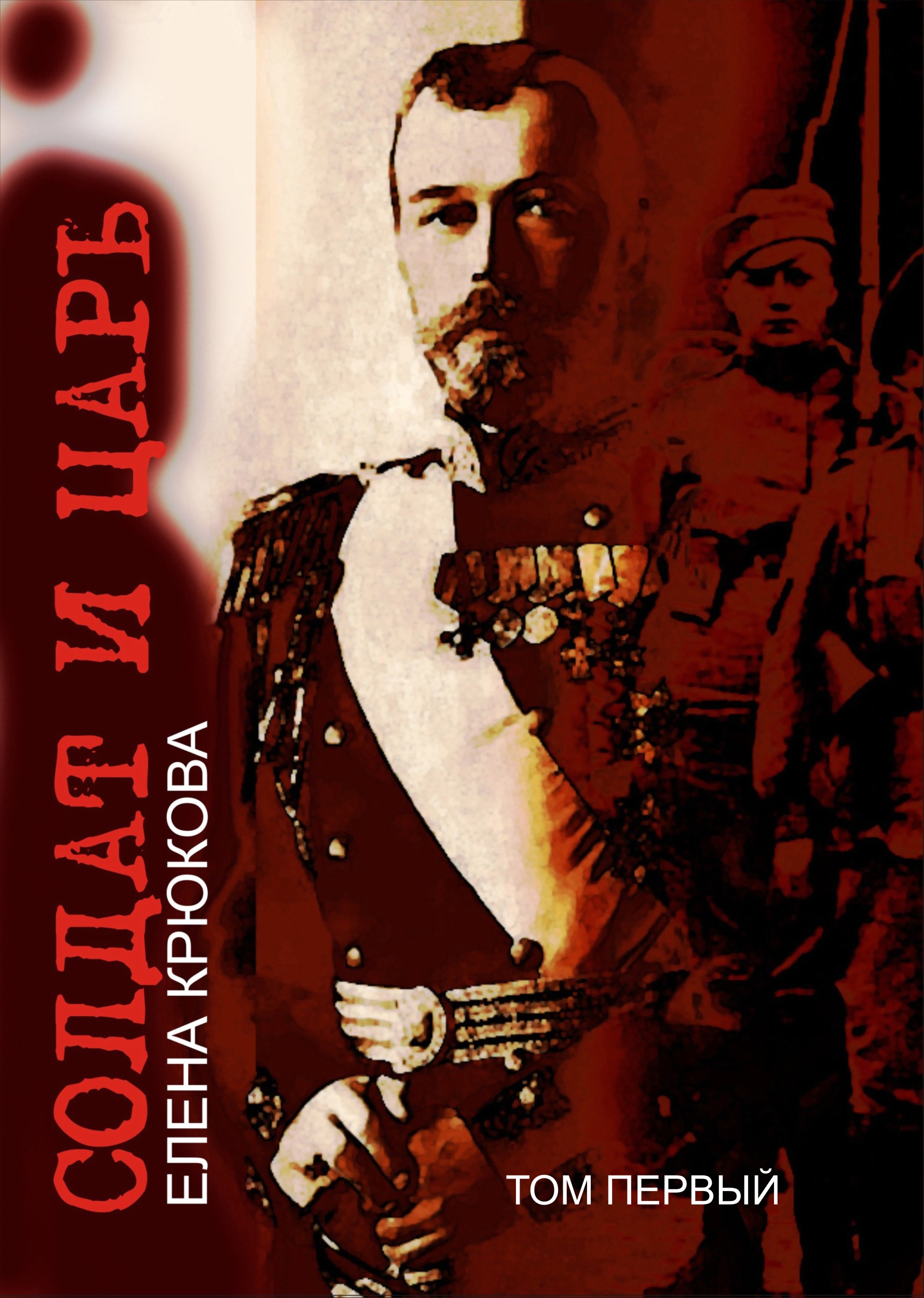ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«Отъ вокзала, навстрѣчу мнѣ, промчался бѣшеный автомобиль и въ немъ, среди кучи товарищей, совершенно бѣшеный студентъ съ винтовкой въ рукахъ: весь полетъ, расширенные глаза дико воззрились впередъ, худъ смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы краснаго башлыка… Вообще, студентовъ видишь нерѣдко: спѣшитъ куда-то, весь растерзанъ, въ грязной ночной рубахѣ подъ старой распахнушейся шинелью, на лохматой головѣ слинявшій картузъ, на ногахъ сбитые башмаки, на плечѣ виситъ внизъ дуломъ винтовка на веревкѣ… Впрочемъ, чортъ его знаетъ — студентъ ли онъ на самомъ дѣлѣ.
Да хорошо и все прочее. Случается, что, напримѣръ, выходитъ изъ воротъ бывшей Крымской гостиницы (противъ Чрезвычайки) отрядъ солдатъ, а по мосту идутъ женщины: тогда весь отрядъ вдругъ останавливается — и съ хохотомъ мочится, оборотясь къ нимъ. А этотъ громадный плакатъ на Чрезвычайкѣ? Нарисованы ступени, на верхней — тронъ, отъ трона текутъ потоки крови. Подпись:
Мы кровью народной залитые троны
Кровью нашихъ враговъ обагримъ!
А на площади, возлѣ Думы, еще и до сихъ поръ бьютъ въ глаза проклятымъ краснымъ цвѣтомъ первомайскія трибуны. А дальше высится нѣчто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности, — нѣчто сбитое изъ досокъ, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное, цѣлый домъ какой-то, суживающійся кверху, съ какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты: два рабочихъ крутятъ прессъ, а подъ прессомъ лежитъ раздавленный буржуй, изо рта котораго и изъ зада лентами лѣзутъ золотыя монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старыхъ, донельзя запакощенныхъ солдатскихъ шинелей, сколько порыжѣвшихъ обмотокъ на ногахъ и сальныхъ картузовъ, которыми точно улицу подметали, на вшивыхъ головахъ! И какой ужасъ беретъ, какъ подумаешь, сколько теперь народу ходитъ въ одеждѣ, содранной съ убитыхъ, съ труповъ!
…Часовые сидятъ у входовъ реквизированныхъ домовъ въ креслахъ въ самыхъ изломанныхъ позахъ. Иногда сидитъ просто босякъ, на поясѣ браунингъ, съ одного боку виситъ нѣмецкій тесакъ, съ другого кинжалъ».
Иванъ Бунинъ. «Окаянные дни». 1919 годъ
Они и тутъ, въ Домѣ Свободы, жили такъ, какъ жили всегда.
А всегда они жили такъ: любили другъ друга и заботились другъ о другѣ.
Что такое любовь, они знали точно: это — приказать испечь къ вечеру пирогъ, нынче Оличка именинница; вышить гладью подушечку-думку для мама́; склеить для папа́ бумажный корабликъ; перевязать ушибленный палецъ Бэби; записать въ дневникъ о томъ, какъ прошла охота и сколько звѣрей и птицъ въ лѣсу было убито, и чаще всего счетъ шелъ на сотни, — сотни оленей, сотни кабановъ, сотни косулей, глухарей, барсуковъ, тетеревовъ, медвѣдей, волковъ и лисицъ, — а потомъ, еще чернила не высохли, когда писалось о безсчетныхъ звѣриныхъ смертяхъ, приписать, быстро и нервно и восторженно: «Милая моя женушка, до чего же я люблю тебя!»
Любовь — это была молитва утренняя, лишь съ постели прыгъ, еще наливалась холодная вода въ ванну, еще горничныя тащили чистыя, хрустящія полотенца, а они вставали къ иконамъ въ ночныхъ рубахахъ и молились — съ любовью, въ любви и за любовь; и молитва вечерняя, когда отходили ко сну, и важно было въ этой сонной, разслабленной, уже теплой, какъ теплый, нагрѣтый сковородками съ пылающими углями матрацъ, нѣжной молитвѣ произнести имена всѣхъ, кого любишь, и попросить у Господа имъ всѣмъ — невѣроятнаго, вѣчнаго, немыслимаго и несомнѣннаго счастья.
Они жили въ помощи и любви, во всечасномъ врачеваніи другъ друга, и плевать было на то, что въ двадцати верстахъ отъ ихъ дворца умираютъ отъ голода дѣти, а въ ста верстахъ — взорвали вокзалъ на желѣзной дорогѣ, а въ пяти тысячахъ верстъ поднялись на возстанье заводскіе угрюмые люди, — царь самъ подписалъ указъ, чтобы зачинщиковъ разстрѣляли, кто же виноватъ, что они такіе неразумные: имъ выдаютъ заработанные рубли, ихъ дѣтямъ наряжаютъ господскія елки, они, какъ и мы, ходятъ молиться въ теплую, золотую, медовую, ароматную церковь, — чѣмъ не жизнь! Развѣ противъ такой жизни возстаютъ!
А имъ со всѣхъ сторонъ говорили: милые, надо уврачевать народъ; дорогіе, надо полюбить бѣдняковъ; чудесные, солнечные, изящные, — оглянитесь, опомнитесь, надо помочь тѣмъ, кому плохо, гадко, страшно!
А они отвѣчали: развѣ мы не помогаемъ всѣмъ, развѣ мы не молимся за всѣхъ? Святая обязанность царей — за всѣхъ, за каждаго молиться!
И имъ — вѣрили.
И они вѣрили сами себѣ.
И, вѣря, блестѣли полными счастливыхъ слезъ глазами; надѣвали другъ на друга бальныя платья, какъ парчовыя церковныя ризы; танцовали, будто осыпали подарками бѣдноту; украшали другъ друга, чтобы итти къ обѣднѣ, алмазами и рубинами, жемчугами и серебромъ, аквамаринами и перламутромъ, — они сами, всѣ, каждый изъ нихъ, были живыми молитвами и еще живыми святыми мощами; они звучали, плакали радостно, текли горячимъ елеемъ, благоухали и драгоцѣнно переливались въ свѣтѣ свѣчей, и они — молились, и на нихъ — молились; а если ихъ и проклинали, это было, конечно же, недоразумѣніе: молитва вѣдь настоящая, истиннѣе молитвы нѣтъ ничего въ цѣломъ свѣтѣ. Молитва искупаетъ все и врачуетъ всѣ раны. Молитва пребыла при рожденіи, пребудетъ при смерти и останется рѣять въ небесахъ и по смерти; значитъ, они дѣлаютъ все вѣрно, они остаются вѣрны себѣ и Богу своему.
Вотъ что главное.
…а то, что съ одной стороны — красные, съ другой — бѣлые, какая разница? Гдѣ между ними отличіе, какое? И тѣ бьются за счастье, и другіе — за счастье. И тѣ безжалостны, и другіе — казнятъ. У бѣлыхъ льется красная кровь, у красныхъ бѣлѣютъ на морозѣ отъ смертнаго ужаса лица. Вездѣ одно золото, и одинъ жемчугъ, и одинъ навозъ, и одна парча, и одинъ огонь изъ пулемета. И наказанье за преступленіе будетъ одно: другого ужъ точно не будетъ.
И возстанетъ родъ на родъ, и царство на царство, такъ и въ Писаніи сказано, а развѣ противъ Писанія кто пойдетъ?
А будутъ ли опять, вернутся ли цари, если имъ, вотъ имъ, нынѣ живущимъ, суждено лечь подъ пули, лечь въ землю? Кого посадитъ на тронъ эта громадная, лютая, святая земля?
А можетъ, она вовсе и не святая, Ники?
…о Аликсъ, не гнѣви Господа. Перекрестись. Помолись. О чемъ ты говоришь. Молись за Россію. Молись за всѣхъ насъ. Распятому — молись: Онъ и на Крестѣ висѣлъ, отъ боли корчился, а — за разбойниковъ молился. Нынче же будешь со Мною въ Раю, такъ онъ сказалъ разбойнику, висѣвшему на крестѣ праворучь. Можетъ, они всѣ, красные комиссары, эти солдаты недокормленные, злые, эти командиры, что кроютъ насъ шепоткомъ казарменнымъ матомъ, все-таки — когда-нибудь — не сейчасъ — далеко впереди — тамъ — въ туманѣ дикихъ лѣтъ, въ тучахъ и снѣгахъ иныхъ вѣковъ — будутъ — съ нами — въ Раю?
***
Главнаго — боялись. Главнаго — уважали.
Михаилъ частенько раздумывалъ надъ тѣмъ, какъ устроенъ человѣчій пчельникъ. Въ пчельникѣ главная — матка; въ человѣческомъ ульѣ, большомъ или маломъ, всегда долженъ кто-то главнымъ быть.
«Кто-то хочетъ быть царемъ… Кто-то… мокнетъ… подъ дождемъ…»
Иногда слова въ головѣ Лямина сами начинали складываться въ стройные звонкіе ряды. И изъ того ряда нельзя было выкинуть слово; выбросишь — а оно опять лѣзетъ. Хотѣлось эти слова спѣть. Однажды онъ взялъ и запѣлъ. На него Матвѣевъ оглянулся — они въ-бродъ рѣчушку лѣсную переходили. Ляминъ! Пѣть — отставить! Подъ ноги гляди, въ илѣ завязнешь! Есть отставить пѣть, товарищъ командиръ.
Замолкъ, а пѣсня внутри звучала. Потомъ утихла, утухла.
Главныхъ бываетъ много. И тотъ главный, и этотъ главный. Вотъ надъ ними Петръ Матвѣевъ. А вотъ рядомъ — комиссаръ Панкратовъ. А надъ ними — Тобольскій Совѣтъ рабочихъ, крестьянскихъ и солдатскихъ депутатовъ. А надъ Тобольскимъ Совѣтомъ — кровавый, бѣшеный Уралъ. А надъ всѣмъ Ураломъ и Сибирью — Московская ЧК. Яковъ Свердловъ, онъ тоже главный. А надъ Свердловымъ — Ленинъ, оно и коровѣ понятно. А надъ Ленинымъ кто? Кто — надъ Ленинымъ?
«Значитъ, Ленинъ и есть теперешній нашъ царь. На время? Насовсѣмъ?»
…Михаилъ развѣшивалъ на веревкѣ стираныя портянки — Пашка постирала, — а въ подсобку всунулась встрепанная голова Сашки Люкина. Сашка вродѣ навеселѣ: бѣлки блестятъ, скулы розовѣютъ, языкомъ плететъ.
— Э-эй, Миня! Кончай хозяйствовать. Главный тя къ сабѣ требуетъ!
Михаилъ поправилъ на веревкѣ портянку.
— И что?
— Не што, а дуй! Видъ у него грозный!
— Я ни въ чемъ не провинился.
— Энто ему будешь объяснять!
Ляминъ продѣлъ голыя ноги въ сырые сапоги, передернулся отъ холода и пошелъ вслѣдъ за Люкинымъ. Затянутое иглисто-сѣрой, перламутровой паутиной мороза окно слѣпо глядѣло ему въ спину.
…На двери главнаго висѣла мѣдная табличка: «КВАРТИРА ПЕТРА МАТВѢЕВИЧА ТОВАРИЩА МАТВѢЕВА, ПРЕДСѢДАТЕЛЯ СОЛДАТСКАГО КОМИТЕТА». Солдаты надъ той табличкой смѣялись. У какого гравера заказывалъ? Много ли заплатилъ? И чѣмъ — керенками или золотыми слитками?
— Боецъ Ляминъ!
— Такъ точно, товарищъ командиръ!
— Поѣдешь со мной въ Петроградъ?
— Въ Петроградъ? — Ляминъ изумился. — Товарищъ…
— Да мнѣ одному негоже ѣхать. Безъ охраны.
Ляминъ испуганно глядѣлъ на бывшаго царскаго фельдфебеля, потомъ на носки своихъ нечищеныхъ сапогъ.
— Это меня… охранять?
— Тебя, тебя.
Михаилъ стоялъ, выше Матвѣева ростомъ. Внизу передъ нимъ нервничалъ, переминался съ ноги на ногу меленькій сѣренькій человѣчекъ, съ виду вовсе и не главный, а такъ, мелкая сошка. Ледащій, безъ фуражки ясно видна на темени жалкая лысинка. Носъ потно блеститъ. Крошечные свинячьи глазенки бѣгаютъ быстро, соображаютъ. Мишка поймалъ глазами глаза Матвѣева. Свинячьи глазки отчетливо сказали ему: «Соглашайся, неохота мнѣ другихъ попутчиковъ въ отрядѣ искать».
— Да я…
— Да ты, да ты. Это приказъ!
— Да мы до Петрограда знаете сколько будемъ ползти?
— Поѣздъ идетъ себѣ и идетъ. А ты ѣдешь. Разговоры! — Щучье личико побѣлѣло. — Отставить!
Ляминъ подобрался, втянулъ и безъ того тощій животъ. Матвѣевъ глядѣлъ на мѣдную пряжку ремня.
— Возьмите съ собою лучше Александра, — сглотнулъ, — Люкина. Люкинъ — бойкій. Онъ, въ случаѣ чего, отобьется. Отстрѣляется.
— А ты стрѣлять не умѣешь? Руки не тѣмъ винтомъ ввинчены?
Мишка крѣпко прижалъ руки къ бокамъ, вытянулъ ихъ вдоль туловища. Бодро выгнулъ спину.
— Умѣю, товарищъ командиръ!
Матвѣевъ медленно, какъ тяжелый крейсеръ вокругъ пустыннаго острова, обошелъ вокругъ Лямина.
— Люкина, говоришь?
— Такъ точно!
— Отказываешься, стало-быть?
Мишка разозлился.
— А вы что, меня хлопнете за отказъ?
Сдерзилъ — и зажмурился: что надѣлалъ! Внутри мальками, заплывшими въ мелкоячеистую сѣть, бились смутныя мысли о Пашкѣ Бочаровой. О царской дочкѣ не думалось. Или ему такъ казалось.
Матвѣевъ внезапно разсмѣялся. Громко и сердечно. Крѣпко хохоталъ, ажъ слезы на глазахъ выступили; и глаза — кулаками вытиралъ.
— Да не хлопну! Ишь… хлопнете! Ты муха, что-ли! Боецъ Ляминъ! Ишь, смѣлый! Зазноба у тебя здѣсь! Знаю!
Ляминъ голову опустилъ. Шарилъ глазами по натоптаннымъ половицамъ.
«А Пашка скоро придетъ къ нему съ ведромъ и тряпкой. Полы мыть».
— Да вѣдь не только вы знаете.
— Весь отрядъ знаетъ! Боишься, что она тутъ безъ тебя подъ кого другого ляжетъ? А?!
Ляминъ головы не поднималъ. Уши покраснѣли, онъ чуялъ стыдный жаръ.
— Ничего я не боюсь. А только не поѣду.
— Ступай. — Петръ Матвѣевъ махнулъ рукой, какъ муху отгонялъ. — Люкина — покличь!
— Слушаюсь, товарищъ командиръ.
…Въ Петроградъ, къ Ленину и Свердлову, отправились, вмѣстѣ съ Матвѣевымъ, Сашка Люкинъ и молодой боецъ Глѣбъ Завьяловъ. Въ отрядѣ шутили: святая троица передъ вождями предстанетъ! Думали — надолго отлучатся, а вернулись на удивленіе скоро. «Пять минутъ, што ли, васъ Ленинъ-то принималъ?! Али вмѣсто поѣзда — на пушечномъ ядрѣ прилетѣли?! А какой онъ, Ленинъ, лысый? Съ усами? Али бреется? А Свердловъ — што онъ? Што нащетъ царей-то они баяли? Долгонько мы тутъ за ними будемъ ходить? Мы не тюремщики! А насъ тюремщиками задѣлали!»
Люкинъ сбросилъ грязную одежонку. Растопили баню. Матвѣевъ и солдаты помылись. Имъ поднесли косушку. Сашка сидѣлъ на кровати, разставивъ ноги, съ голой грудью, размахивалъ пустымъ стаканомъ, разсказывалъ.
— Тряслися мы долго. Ажъ кости всѣ заныли. А поѣздъ такой, тамъ народу, што сельдей въ бочкѣ! Всѣ другъ на другѣ сидятъ, ѣдятъ и спятъ. Ну чо ржешь, Игнатка?!. другъ на другѣ, оно такъ и было. Утомилися шибко! И запасы закончились.
— А чо, у бабъ въ вагонѣ горбушку отымали?
— Язви ихъ, энтихъ бабъ! Ну, бывало, и прижимали какую бабу…
— Прижимали? Ах-ха-ха! Поживились, выходитъ!
— Да дай ты разсказать. Мы-то тутъ вотъ сидимъ, и што? Думамъ: никакихъ большаковъ въ Питерѣ нѣтъ! Намъ што комиссаръ Панкратовъ втолковывалъ? Што большаковъ изъ Петрограда давнымъ-давно выгнали въ шею! А кто выгналъ? Непонятно. И мы — вѣримъ! А вѣрить-то нынче никому нельзя!
— Чо жъ значитъ, Панкратовъ — предатель?
— Тише ты! — Люкинъ на дверь покосился. Потеръ кулакомъ голую грудь. Поежился. — Опосля баньки-то разымчиво сперва было, а теперь — охолодалъ! Вонъ онъ, морозецъ-то. — Кивнулъ на окно, сплошь обложенное слоями льда и инея, — даже двора не различить было въ инистыхъ наплывахъ. — Панкратовъ — не предатель, а такой же человѣкъ, какъ мы всѣ! Повѣрилъ. Вотъ ты бы што, не повѣрилъ, если бъ табѣ сообщили — Ленина убили?
— Эхъ ты, какъ это такъ… Ну, повѣрилъ бы! А потомъ — опять же не повѣрилъ!
— А повѣрилъ бы, ежели бъ бумаги прибыли?
— Ну, бумаги… Тутъ бы — да…
— Или по телеграфу бы табѣ отбили?!
— Да ну, ты, Гришка, не мѣшай, пущай Санька далѣ свое вранье плететъ…
— Мы когда узнали, што Временное правительство скинули? Вѣрно, въ октябрѣ. А потомъ — кто во што гораздъ! Мы тутъ, въ Сибири, вдали отъ энтихъ столицъ… Богъ знатъ што сибѣ навыдумывали… Правъ Матвѣевъ, што насъ подмышку собралъ да туда повезъ!
— Ну ты, ты скорѣй про Петроградъ давай. Что Питеръ этотъ? на что онъ похожъ? и правда — столица?
— Столица, столица, безстыжія лица… Ну а какъ же! Вылѣзли мы на вокзалѣ изъ вагона. Чешемся. Вши, растудыть ихъ. Матвѣевъ сибя по карману хлопатъ: денежки я взялъ съ собою, ищемъ баню, пропаримся до костей, поганцы сдохнутъ! Баню — нашли. Чудеса! Стѣны зеленымъ мраморомъ выложены, съ синими и бѣлыми прожилками! Я такого камня даже на Уралѣ въ раскопахъ не видалъ. Многоцѣнный! Ну, дворецъ чистый. Ковры на ступеняхъ. Перила тожа мраморныя, бѣлые лебеди. А мы-то въ грязныхъ сапожищахъ. Подымамся, какъ по лѣстницѣ Якова въ рай. Въ предбанникѣ шкафы слоновой кости. Съ нумерами — на кажной дверцѣ! И тамъ вѣшалочки. Шинельки мы развѣсили. Раздѣвацца надо до портовъ, а мы стѣснямся.
— Ха, ха! Обнажились?
— Пришлося! Париться жъ въ портахъ не будешь! По тазику съ желѣзными ушами намъ выдали. Замѣсто шайки. А ищо по вѣнику березовому. А ищо — по куску синяго мыла и по вехоткѣ. Вехотка такая огромадная, што табѣ бородища у попа! Я въ ей чуть было не запутался. Въ залу шагнули — паръ клубами! Мужики питерскіе голые, кто блѣдный какъ плѣсень, кто — алый весь, распаренный уже. Стоятъ передъ тазиками. Плещутся. Изъ двухъ крановъ вода хлещетъ: изъ единаго — ледяная, изъ другого — кипятокъ. Я чуть не ошпарился! Палецъ чуть подъ струю не сунулъ! Воды набрали, стоимъ, озирамся. Петръ шайки все ж углядѣлъ. Вонъ, кажетъ, въ ихъ вѣники запариваютъ! И мы туды свои вѣники сунули. Духъ! Пьянѣй вина. Я Матвѣеву — спину вехоткой теръ. У его на спинѣ, ребята, родинки — крупнѣй сытаго клеща!
— Ха, ха-га-а-а-а!
— А еще чо у него крупное, а? Иль тамъ все мелкое?
— Да не перебивай ты! Надраились вехоткой до того, што кожа заныла. Хрѣнъ стоитъ, какъ морква! Глѣбъ на дверь парной киватъ: вотъ таперя можно и туды! Взошли. Мужики на лавкѣ на верхотурѣ сидятъ. Ровно куры на насѣстѣ. Печка — на желѣзную дверь задраена, съ засовомъ, чисто корабельный трюмъ, машинно отдѣленіе. Засовъ тотъ чугуннымъ крюкомъ отодвигаютъ, понизу шайку становятъ… ковшомъ зачерпываютъ — и разъ! — печкѣ въ пасть — водицы! Испей, матушка! Я засовъ отдернулъ, ковшъ за ручку ухватилъ, она нарошно длинная, деревянная, штобъ, значитца, ладони не обжечь. Воды — отъ души плеснулъ! А мнѣ кричатъ: ищо, ищо давай! Я плещу. Ищо, ищо! — вопятъ. Я въ тую печку такую кучу воды залилъ — ну, думаю, хватитъ, а то задохнемся тутъ всѣ! И вотъ пошло! Поѣхало! Паръ такой — ажъ всѣ косточки выворачиватъ! Забралися мы наверхъ, на лавкѣ угнѣздились. Ждемъ! И нахлынуло. Такъ задрало! Петръ намъ кричитъ: вся кожа полопацца! Глѣбъ хохочетъ: если живъ останусь, Сашку вздую!
— А мужики што?
— А мужики рядкомъ сидятъ, похохатываютъ! Вѣниками хлещутся! И мы тоже вѣнички-то схватили да давай наяривать! Эхъ… хорошо!
Сашка зажмурился, какъ слизнувшій сливки котъ, вспоминая питерскую баню. Съ койки на табуретъ пересѣлъ.
— Да ты поближе къ дѣлу валяй!
— Къ дѣлу?
— Къ Ленину!
— А я жъ про што! Ну, значитъ, попарилися мы вволюшку. Изъ залы вывалились. Полотенцы намъ банщикъ несетъ, чистыя.
— А ты бы хотѣлъ — грязныя?!
Пулеметчикъ Гришка Неѳедовъ, по прозвищу Искра, сидѣлъ босикомъ, въ рукахъ сапогъ: начищалъ сапоги промасленной тряпкой.
— Ничо бы я не хотѣлъ! А хотѣлъ бы… навѣки тамъ остацца. До того расчудесно!
— Банщикомъ, што ль?
— А хоть бы и банщикомъ!
— Ха, ха, ха…
— Дальше слухайте! Остыли. Одежку напялили. Вонючая она, опосля дороги-то. Банщику Матвѣевъ — на чай далъ, ровно какъ половому. Онъ кланялся, смѣялся, а зубы — бѣлые! На улицу спустились, вечерѣетъ, ночевать негдѣ. Мы съ Глѣбкой на Матвѣева смотримъ. Он — главный! Значитъ, самый умный. Приказа ждемъ! А онъ на насъ такъ хитро глядитъ и говоритъ: идемте, молъ, прямо въ Смольный, тамъ наши братья-солдаты, неужто не пустятъ сибиряковъ переспать? Да за милую душу! Долго искали, гдѣ тотъ Смольный. Нашли!
Ляминъ стоялъ у замороженнаго насмерть окна и всѣ рѣчи Сашки слушалъ затылкомъ. Ногтемъ наледь ковырялъ.
— Являмся. Внизу — охрана. Мы имъ: тута Совнаркомъ? Здѣся, намъ въ отвѣтъ! Мы: а Ленинъ, Ленинъ тоже тутъ? Обсердились. Штыки выставили. «А вы кто такіе будете?» — допрашиваютъ. Матвѣевъ всталъ во фрунтъ, руку къ фуражкѣ приложилъ: «Отрядъ Совѣцкой власти изъ города Тобольска подъ командованіемъ Петра Матвѣева въ Петроградъ прибылъ!» Энтотъ, питерскій, ему тожа честь отдалъ. «Документы!» — ладонь вывернулъ. Ну, мы ему наши удостовѣренья. Онъ опять козырнулъ. Но все-таки насъ на всякай случай ищо разъ глазами — обвелъ. Какъ ледяной водой изъ шайки окатилъ! Мы виду не подали. Время опасное. Подъ подозрѣньемъ — всѣ! Дверь съ натугой распахнулъ. Дверь — тяжеленная! Какъ золотая рака, гробъ святой!
Слушали уже тихо, не перебивая. Ляминъ пересталъ скрести оконный иней.
— По колидорамъ идемъ. Руки ртами грѣемъ. Задрогли, январь-то въ Питерѣ — злѣй сибирскаго, тамъ же вѣтрило съ Финскаго залива какъ задуетъ — такъ духъ изъ тя вонъ, всѣ потроха отмерзнутъ, не то што рожа. По лѣсенкѣ взошли, опять мѣрямъ сапогами громаднющій колидоръ. Конца ему нѣтъ. И тутъ энтотъ, што велъ насъ, какъ вкопанный сталъ передъ бѣлой дверью. А дверь — подъ самый потолокъ. А потолокъ — башку задери, шею вмигъ сломашь! Передъ дверью — часовой. Энтотъ, нашъ, козырнулъ, на насъ указалъ: вотъ, молъ, энти — изъ Сибири! Сибирь, одно слово — волшебное слово. Часовой пошелъ, доложилъ. Въ окнахъ уже тьма. Пять вечера, а однако, глазъ наруже выколи. И мятель, вижу, завихрилася. Глѣбка шепчетъ мнѣ: эй, Сашка, неужто они тутъ такъ до ночи-полночи и сидятъ? бѣдняги…
Глѣбъ Завьяловъ на колѣняхъ стоялъ въ углу, передъ сундукомъ; онъ на сундукѣ ножомъ вензеля отъ скуки вырѣзалъ. Ножъ на полъ со звономъ бросилъ. Всѣ оглянулись, зароптали.
— Не такъ! — крикнулъ Глѣбъ. — Что все перевралъ! Басенникъ!
— А какъ ты сказалъ? Ну, какъ?
Люкинъ, сидя на табуретѣ, вызывающе подбоченился.
— А вотъ такъ: до ночи правительство наше работаетъ на насъ, дыкъ они жъ герои!
Солдаты смѣялись.
— Такъ герои или же бѣдняги?
— Дальше шпарь, Сашокъ!
— Ну. Ждемъ. Дверь пріоткрыта. Вижу въ проемъ: чернай аппаратъ, отъ него по паркету — проводъ. Ножки кресла вижу. На паркетѣ — бумажка валяцца. Чьи-то руки ее бацъ — и подымаютъ. Голоса слышу. Матвѣевъ кашлятъ, нервишки! Глѣбка спокоенъ, какъ баранъ среди овецъ. Часовой выходитъ: «Велѣно пропустить!» Заходимъ. Робѣемъ, што ужъ тутъ. Кресло кожаное. Стулья вѣнскіе, съ гнутыми спинками. Столъ. На столѣ — кипа бумагъ и чай въ стаканѣ, съ подстаканникомъ.
— А Ленинъ, Ленинъ-то идѣ жъ?!
— Вотъ брехунъ, никакъ не подберется…
— Щасъ подберусь! Попередъ Ленина — изъ-за стола — на насъ глазами зыркъ, зыркъ — чернявый такой, малюсенькій, весь бородой вороной заросъ, мохнатый, очкастый… пучки волосъ торчатъ надъ однимъ ухомъ, надъ другимъ… ну чистый песъ дворовый! А костюмчикъ чистенькій, аккуратненькій. Воротничокъ бѣлый, снѣга бѣлѣе. А очки я разсмотрѣлъ: не очки энто, а какъ энто… во, писнэ! Чернявый энто свое писнэ на носу — пальцемъ подтыкатъ. А оно сползатъ все и сползатъ. Садитеся, энто намъ, товарищи! Вы, гритъ, изъ Сибири? Изъ Тобольска? Дыкъ я жъ васъ жду! Какъ такъ ждете, я ничо не понимаю, осовѣло на Петра гляжу! А Петръ мнѣ: сопли подбери, энто Яковъ Свердловъ, я ему телеграмму… еще раньше… отбилъ…
— А-а, вонъ что…
— Такъ то жъ не Ленинъ, то жъ Свердловъ! А игдѣ Ленинъ?
— Погодь ты! Не гони лошадей! Свердловъ намъ: царей охраняете? Матвѣевъ: такъ точно, товарищъ предсѣдатель ВЦИК! Свердловъ: а заговоръ у царей имѣцца? Ну, штобы сбѣжать изъ-подъ нашихъ ружей? Матвѣевъ ажъ побѣлѣлъ, весь банный румянецъ какъ корова языкомъ слизала. Нѣтъ, громко такъ рапортуетъ, не имѣцца! Все тихо-спокойно! Свердловъ обо всемъ разспрашиватъ — Матвѣевъ отвѣчатъ, какъ въ церковно-приходской школѣ китихизисъ. Будто бъ нарошно готовился! А я стою и думаю: а пожрать чего-нить у нихъ тутъ можно? Може, угостятъ странниковъ? И Глѣбка, смотрю, съ голоду набокъ валицца. Глядитъ на чай. Стаканъ на блюдцѣ, коло стакана — ложка и бѣлые куски. Сахаръ! Мы сахара не видали скольки времени? То-то и оно!
— Ты, къ Ленину живѣй…
— Свердловъ взглядъ тотъ уловилъ, стаканъ къ Глѣбкѣ по столу подвинулъ: пейте, товарищъ! И обернулся къ часовому, и вѣжливенько такъ: вы подите на кухню, нарѣжьте ситнаго, да кильки на тарелкѣ принесите, да вареной картошки, если осталася. У меня все внутри ажъ взвыло отъ радости. Часовой живо возвернулся! Съ подносомъ, и ѣда на емъ! Мы ѣли… столъ энтотъ правительственный обсѣли съ трехъ сторонъ и ѣли… а Свердловъ смотрѣлъ на насъ, какъ… какъ на…
Люкинъ замолчалъ, щелкалъ пальцами. Потомъ рукой лобъ обхватилъ.
— Ну чо ты затихъ?!
— Какъ… на звѣрей… въ зоосадѣ…
И всѣ вразъ замолчали. Обдумывали это.
Потомъ Люкинъ заговорилъ тише, спокойнѣе. И печальнѣй.
— Свердловъ повернулся какъ-то бокомъ. И куды-то вдаль глядитъ. Какъ капитанъ съ мостика — на дальній островъ. Послѣдилъ я, куды. У далекаго окна кресло. Приземистое. И изъ того кресла чья-то лысая, какъ яйцо, башка торчитъ. Бордюрчикъ такой сивыхъ волосъ кругъ лысины. Ну, думаю, старичокъ какой-то дремлетъ. Може, тожа пріема ждетъ. А Свердловъ голосъ-то возвысилъ. «Владиміръ, — гритъ, — Ильичъ, позвольте васъ отъ работы оторвать! Вотъ тутъ къ намъ важные гости пожаловали! Изъ отряда, что царя охраняютъ въ Тобольскѣ!» И изъ кресла — навстрѣчу намъ — мужичокъ тотъ поднимацца, махонькій такой, бородка острая, клинышкомъ, щеки да глаза ладонью третъ, съ колѣнъ у его тетрадь на паркетъ валицца, онъ за ней наклоняцца, лысина въ свѣтѣ люстры сверкатъ, — а я кумекаю: такъ вотъ же онъ! Вотъ — Ленинъ!
Общій вздохъ пронесся по комнатѣ и погасъ.
Люкинъ кулаки сжалъ. Такъ и сидѣлъ, и говорилъ со сжатыми кулаками.
— Малъ росточкомъ, да. Малъ золотникъ, пословица есть, да дорогъ. Къ намъ подкатился. Мордочкой, энто… на ежонка похожъ. Бородка шевелицца, носъ шевелицца, усики дергаюцца. Изъ глазъ — искры сыплюцца, какой огнеглазый! Веселый, дакъ. Я гляжу во всѣ глаза! Гдѣ, думаю, ищо Ленина увижу! Да нигдѣ. Вотъ тутъ тольки и увижу. Вмѣсто глазъ у мене будто бы когти сдѣлались, все ими зацѣпляю. На столѣ килька лежала въ мискѣ — такъ ея въ одночасье не стало. Все схрумкали! Сидимъ, какъ коты, облизывамся. Свердловъ ищо ситнаго приказалъ принесть. Ситный — вкуснѣй некуда. А Свердловъ намъ: ищо чаю, товарищи? Глотки горячимъ питьемъ грѣемъ!
— А другимъ горячимъ питьемъ-то — грѣли? Али Ленинъ не пьетъ?
— Ты, дурень! въ ротъ не беретъ! начальникъ же!
— Жремъ, прямо передъ носомъ Ленина, а онъ не ѣстъ, на насъ глядитъ. И — разспрашиватъ, а мы съ набитыми ртами, намъ нелѣпо отвѣчать, да мямлимъ все одно. «Тамъ, — гритъ, — у васъ комиссаръ, назначенный Временнымъ правительствомъ?» Мы кивамъ и на Петра глядимъ. Петръ тоже киватъ. А по мордѣ вижу, что самъ толкомъ не знатъ. «Комиссара того — смѣстить! Комиссара Совѣцкой власти — назначить!» Смѣстить, это же какъ, думаю, въ расходъ пустить, што ли? Матвѣевъ Ленина зрачками грызетъ. Каждое слово — шопотомъ — за нимъ повторятъ! А Свердловъ молчитъ. Какъ воды въ ротъ набралъ.
Бойцы слушали, открывши рты.
Всѣ — слушали. Никто словечка щепкой въ колесо не вставилъ.
— И такъ вотъ Ленинъ намъ и приказалъ! Ну да, намъ. — Вздохнулъ Люкинъ. Затылокъ крѣпко почесалъ. — А кому жъ ищо!
Холодная вода молчанія разбавилась крутымъ кипяткомъ ненарокомъ брызнувшихъ словъ.
— И чо? Больше ничо вамъ Ленинъ и не сказалъ?
Люкинъ оскалился.
— А про чо онъ намъ долженъ былъ ищо сказать?
— Про нашу жись. — Говорилъ бородатый, длинный какъ слега, со впалыми щеками, старовѣръ Власъ Аксюта. — Про жись! Какъ, молъ, мы жить всѣ будемъ… послѣ того, какъ всю эту нечисть, — рукой махнулъ, — со стола, какъ крохи, сметемъ!
— Крохи, — усмѣхнулся Сашка и опустилъ кудлатую башку низко, лбомъ чуть не коснувшись обтянутыхъ болотистыми штанами колѣнъ, — если бъ оне были крохи, а мы — воробьи. Нѣ-е-етъ, не крошки оне, и мы не воробышки. А мы всѣ — люди. И мы люди, и оне люди.
— Люди?! — заоралъ Никандръ Елагинъ, выпрямляясь гнѣвно. Волосенки вокругъ головы дыбомъ встали. Уши отъ внезапнаго бѣшенства закраснѣлись. — Если бъ — люди! Какіе жъ они люди! Они — кровопійцы! Всю кровушку изъ Расеи выпили! А мы ихъ… тутъ… лелѣемъ! Стыдъ меня беретъ! Давно бы ихъ за оврагомъ, близъ Тобола, чпокнули!
Ляминъ молча закурилъ, и дымъ успокоительно и дурманно обволокъ всѣхъ, уже зароптавшихъ, загудѣвшихъ ульемъ. Курилъ, ссыпалъ пепелъ въ горсть. Перепалку слушалъ. Не встревалъ.
— Я и не радъ, што спросилъ! — гремѣлъ Аксюта. Его мощный басъ словно бы раздвинулъ стѣны комнаты, приподнялъ крышу, птицъ распугалъ. — Я и самъ гадовъ ползучихъ, всѣхъ, кто на Красную Расею позарится, своими руками — разстрѣляю, передушу! Но только тѣхъ, кто на насъ нападетъ! А мирныхъ — нѣтъ, гнобить не буду! И этихъ…
Власъ Аксюта покосился на дверь, будто бы тамъ стоялъ царь съ семьею и могъ его подслушать.
«А кто ихъ знаетъ, можетъ, и стоятъ». Ляминъ поглядѣлъ на печную дверцу. Неистово горѣлъ огонь, дверца была плотно закрыта, и пламя видать было лишь въ щели да въ продухи.
— Ну ты, попъ бывшій! Знаемъ мы, какъ ты въ Красную Гвардію пошелъ! Храмъ твой сожгли, приходъ твой перебили! Вотъ ты, штобъ по міру не отправиться, и качнулся въ Красную Гвардію! А поповскихъ въ тебѣ ухватокъ — хоть отбавляй, все не отбавишь!
— Но, ты! — Аксюта замахнулся на неистово кричавшаго, долыса бритаго Игната Завьялова, Глѣбова брата. — Бреши, да не заговаривайся! Ты мнѣ церковь не забижай! И про поповъ зря не мели! Я, можетъ, когда все закончится… опять въ церковь служить пойду!
— Ой, по-о-о-опъ! Ой, по-о-о-опъ! — хохоча, показывалъ корявымъ пальцемъ на Аксюту Игнатъ. — Ой, насмѣши-и-и-илъ!
Издали, отъ самой двери, раздалось:
— Братцы, уймитесь… Эхъ вы, братцы…
Борода Аксюты дергалась. Скулы вздувались и играли. Онъ повернулся спиной къ хохотавшему Игнату. Приблизилъ бороду къ уху Сашки Люкина.
— Дыкъ я про Ленина спросилъ. Чо онъ говорилъ про насъ?
Люкинъ ошалѣло глядѣлъ не въ глаза Аксютѣ — слишкомъ горячіе они у него были, обжигая, плыли впереди лица: на сморщенный мятымъ голенищемъ лобъ.
— А вѣдь и правда, чо-то баялъ. А вотъ чо? Забылъ я уже.
Аксюта разсерженно сжалъ кулакъ и помоталъ имъ въ воздухѣ.
— Ахъ ты, ну какъ старикъ уже! Безпамятный!
Люкинъ хлопнулъ себя по лбу. Полѣзъ за голенище и вынулъ оттуда мертваго сверчка.
— Чертовня какая, энто онъ мнѣ — въ банѣ въ сапогъ свалился! — Держалъ сверчка на ладони, разсматривалъ. — Эхъ, козявка, букарашка… Пѣлъ ты, плясалъ… ногами скрежеталъ… усами шевелилъ… а потомъ р-разъ — и сдохъ. Жись! Вотъ она какая!
Поднялъ голову. Покарябалъ ногтями голую грудь.
— Вспомнилъ! Не дѣдокъ я ужъ такой дряхлый! И память не растерялъ! Ленинъ сказалъ такъ: вы поборитесь какъ слѣдоватъ, всѣхъ враговъ одолѣйте, и наступитъ свѣтлое время… свѣтлое будущее, во какъ онъ сказалъ!
— Свѣтлый рай, — очень медленно, будто старый засахаренный медъ жевалъ, проговорилъ Аксюта, — свѣтлый такой рай, пресвѣтлый…
— Да не рай! — возмущенно крикнулъ Исидоръ Хайрюзовъ, родомъ изъ-подъ Иркутска, изъ семьи, гдѣ мать родила пятнадцать душъ дѣтей. — Не рай! А свѣтлое, слышите вы, глухіе, будущее!
— Да, — медленно кивнулъ Аксюта, — за поправку — спасибо… дѣти наши, а то и внуки, можетъ, увидятъ… заживутъ… мы за нихъ въ морѣ крови тонемъ…
Широко, какъ широкую мережу изъ воды вытаскивалъ, обвелъ твердой доской-рукой округъ себя. И Ляминъ прослѣдилъ за медленнымъ движеніемъ его ладони.
«Море крови. Море. Или рѣка. Все равно море».
Гомонили. Курили. Другъ друга по плечамъ били. Зубъ за зубъ огрызались. Хохотали. Хихикали. Заслоняли лица руками, словно отъ яркаго свѣта.
— А ты чо молчишь? Хоронисся?
Ему межъ лопатокъ достался ударъ увѣсистаго веселаго кулака. Ляминъ обернулся.
— А, ты. Я не хоронюсь, — бросилъ онъ Андрусевичу. — Я — думаю.
— Думаютъ индюки!
— Не бойсь, въ супъ не попаду.
— Ну ты, дружище, прервали тебя! А чо дальше-то было? Чо, Ленинъ васъ спать пошелъ уложилъ?! — крикнулъ заливисто, какъ поутру пѣтухъ, уже развеселившійся Игнатъ Заявьяловъ.
Люкинъ руку впередъ выбросилъ.
— Эй, тамъ! Гимнастерку подайте! И тужурку. Задрогъ я. Чо ко мнѣ прилипаете, какъ осы къ медку?! Все я сказалъ. Все.
— Все, да не все! — вскрикнулъ Игнатъ.
— А хочешь все? Да ничо особеннаго. Ночь спустилась. За нами рыбьи хребты да крошки прибрали. Подстаканники унесли. Каки-то дѣвки, ядрить ихъ. Въ узкихъ такихъ платьяхъ, сами длинныя, какъ рыбы. Такъ бы и съѣлъ.
Люкинъ бросилъ дохлаго сверчка на полъ, натянулъ гимнастерку, накинулъ поверхъ истертую тужурку.
— Чо жъ не съѣлъ?!
— Иди ты. Петръ баетъ: въ обратный путь пора. Вы, гритъ, слова Ленина помните? Не выдавать царя никому и никогда безъ приказа товарища Свердлова и Совнаркома. Ну мы кивамъ: поняли, значитца, все! Только приказъ ВЦИКа, и подпись Ленина самого! А такъ ни-ни! Положили насъ на ночевку въ маленькой каптеркѣ. Тамъ отчего-то копчеными лещами всю ночь страсть какъ пахло. Я ажъ весь слюной изошелъ. И посреди ночи всталъ, какъ этотъ, лунатикъ, и пошелъ тѣхъ лещей искать. Ну, думаю, гдѣ-то свертокъ схороненъ! Али — въ ящикѣ запрятаны, ну такъ воняютъ аппетитно, душу вонъ! Шарю. Матвѣевъ и Глѣбъ — храпятъ, не добудисся. И вотъ источникъ запаха, кажись, отыскалъ. Наклоняюсь. Коробъ передо мной. Закрытъ неплотно. Я крышку вверхъ — ать! — а тамъ… а тамъ…
— Не томи, мать твою!
— А тамъ — банки съ гуталиномъ и ваксой, и — до черта ихъ…
Смѣхъ грохнулъ, какъ выстрѣлы, вразнобой.
— Спали отвратительно. Можно сказать, и не спали! Хоть и въ поѣздахъ энтихъ, какъ назло, тоже поспать всласть не удавалось. Тамъ лежи, да ушами стриги. Каптерка душная да холодная. Отопленія у нихъ въ Смольномъ — тоже никакого! Дровишки экономютъ. А Ленинъ, баютъ, тамъ частенько ночуетъ. Когда государственныхъ дѣлъ невпроворотъ. На кожаномъ диванѣ.
— Холодно яму.
— Ну дыкъ накроютъ чѣмъ тепленькимъ. Шубой какой.
— И вотъ переспали мы… еле встали. Спали-то на полу. Прямо на паркетѣ. Въ шинеляхъ. Руки подъ щеки подложили, и впередъ. А тутъ утро. Выросло, какъ грибъ изъ-подъ земли. Съ часовымъ хотѣли какъ люди попрощацца — а глядь, тамъ уже двое другихъ маячатъ. Съ ружьями, все честь по чести. Нѣтъ, никто Ленина не убьетъ!
— Ну, пусть тольки посягнутъ.
— На площади живьемъ сожжемъ того, кто — посягнетъ!
— Ты, братъ, доскажи…
— Выкатились изъ Смольнаго. Нева передъ нами. Охъ, широкая! Да не шире нашей Оби. Или — Енисея нашего.
«Или Волги. У Жигулей».
Ляминъ прикрылъ глаза. Носомъ втянулъ воздухъ и ощутилъ будто влажный, волглый и рыбій запахъ рѣки. А потомъ — наважденьемъ дѣтскаго сна — тревожный, густо-пряный духъ желтыхъ кувшинокъ.
«Мнѣ бы тоже брякнуться да выспаться, на ходу брежу».
— Стоимъ, на парапету облокотилися! Вода идетъ мощно, могутно. И — быстро. Такъ катитъ, что тебѣ моторъ! А мы и забыли, какъ на вокзалъ добирацца. Языкъ, понятно, до Кіева доведетъ! Всѣхъ пытамъ, встрѣчныхъ-поперечныхъ! Заловили старушку одну. Ну точно бывшая! Въ мѣхахъ, правда, драныхъ, въ кружевномъ платочкѣ, въ ушахъ алмазы.
— Брульянты, дуракъ.
— Точно, они самые. Мы ее взяли въ кольцо. Молъ, какъ къ вокзалу пройтить. Али проѣхать. А она на насъ глаза какъ вскинетъ! А глаза какъ у молодой. И въ глазахъ… не, братцы, не могу передать. Ненависть одна черная! Ну ненависть! Такая, что мы замолчали… и чуть не попятилися! А она намъ: стрѣляйте хоть сейчасъ, негодяи, вы всю мою жизнь разстрѣляли, всѣхъ моихъ убили, весь мой міръ — сожгли! А я вамъ еще какъ къ вокзальчику проѣхать, показывай?! Да идите вы всѣ знаете куда?! И на землю подъ нашими ногами — плюетъ!
— На этотъ, асвальдъ. Какая тамъ земля.
— Ну лядъ съ нимъ. И еще разъ плюетъ. И Матвѣеву на сапогъ — попала. Онъ ручонкими-то взмахнулъ. Ну, думаю, сейчасъ старуху задушитъ! А онъ вдругъ знаете што? Обнялъ ее!
Тишина свалилась съ потолка сѣрой паутиной.
Въ полномъ молчаніи Люкинъ договаривалъ — потерянно, тихо.
— Обнялъ… да… Она не вырывалася. Мы стоимъ рядомъ. А Петръ старуху выпустилъ изъ лапъ, полѣзъ въ карманъ шинели и вытащилъ свертокъ. Развернулъ газету, а тамъ — хлѣбъ. Ситный, тотъ! Што мы въ Смольномъ… на глазахъ у Ленина… ѣли… онъ намъ тотъ хлѣбъ — въ дорогу приховалъ… И вотъ ей суетъ. И шепчетъ, а я слышу: бабушка, только не бросай хлѣбъ, не бросай, ты только съѣшь его, съѣшь, а то силъ не будетъ, умрешь. Ты только его, шепчетъ…
— Што? — шепнулъ Игнатъ.
— Чайкамъ, уткамъ — не отдавай…
Помолчали всѣ. Подышали — глубоко, тяжело.
— Такъ Ленина хлѣбъ и уплылъ! Бабушкѣ за кружевную пазуху! Графинькѣ, небось, вчерашней…
— А бабка та — и спасибо не сказала?
— Ничо не сказала. Какъ рыба молчала. Мы пошли, а она стоитъ. Я обернулся. Хотѣлъ еще разъ ей въ глаза глянуть!
— Ну и што? Глянулъ?
— Глянулъ… А глаза — закрыты… И хлѣбъ къ тощимъ грудямъ — прижиматъ…
— А чо съ нами тутъ Матвѣева нѣтъ? Брезгаетъ начальникъ нами, клопами?
— Да не. Дрыхнетъ послѣ бани. Мы-то тутъ молодые, а онъ ужъ сѣденькай.
— Это Аксюта-то молодой?!
— А хочешь сказать, я Маѳусаилъ?!
— Молчать, солдаты. — Люкинъ наступилъ на сверчка сапогомъ. Высохшее насѣкомое хрустнуло подъ подошвой. — Онъ и правда спитъ. Онъ насъ съ Глѣбкой въ пути — знаете какъ спасалъ? Вамъ и не снилось. Смерть-то, она всюду близко ходитъ.
«Иногда такъ близко, что путаешь, ты это или она», — думалъ Ляминъ, вертѣлъ болтавшуюся на ниточкѣ мѣдную пуговицу. Надо бы Пашкѣ сказать, пусть пришьетъ.
А гдѣ Пашка? Второй день не видать.
Да онъ не сторожъ ей, чтобы за ней слѣдить.
Онъ — за царями слѣдитъ. За это ему и жалованье, и харчъ, и почетъ.
И вдругъ далеко, за печкой, за матицей, подъ потолкомъ, а можетъ, и на чердакѣ, подъ самой крышей, запѣлъ, затрещалъ сверчокъ.
— Живой! Елочки жъ моталочки!
— Ты жъ его пяткой давилъ — а вотъ онъ ожилъ!
— Брось, это жъ другой.
— А тотъ-то гдѣ?
— Да на полу валялся!
— А глянь-кось, его тута и нѣту уже! Уползъ!
— Воскресъ…
— Какъ Исусъ, што ли?
— Ну наподобіе…
— Ти-хо!
Люкинъ поднялъ палецъ. Задралъ подбородокъ. Слушалъ такъ неистово, будто молился.
Сверчокъ трещалъ неумолимо и радостно, будто спалъ — и вотъ проснулся, былъ мертвъ — и вотъ ожилъ.
Лицо Сашки Люкина изумленно, медленно начинало свѣтиться. Въ темной широкой, какъ баржа, биткомъ набитой людьми комнатѣ лицо одного человѣка свѣтилось, разогрѣвалось медленно, какъ керосиновая лампа; пламя лилось изъ глазъ, заливало переносье и надбровья, озаряло раскрытый въ дѣтскомъ удивленіи ротъ.
— И правда сверчокъ…
Власъ торжествующе повернулся къ Люкину.
— А онъ-то — далеко! Не укусишь! Не раздавишь!
Люкинъ озлился. Робкая улыбка превратилась въ оскалъ.
— Захочу — и раздавлю! На чердакъ влѣзу — и найду! И въ расходъ!
Сверчокъ пѣлъ счастливо и неусыпно.
Ляминъ всталъ и шагнулъ къ печи. Ему невозможно, до нытья подъ ребромъ, захотѣлось увидѣть живой огонь. Взялъ кочергу, лежащую на обгорѣлой половицѣ, сѣлъ на корточки, подцѣпилъ ею раскаленную печную дверцу. Дверца узорнаго литья: по ободу завитки въ видѣ кривыхъ крестовъ, въ центрѣ ѣдетъ колесница, въ колесницѣ въ ростъ стоитъ женщина въ развѣвающемся платьѣ, правитъ четверкой лошадей.
Наклонился. Пламя пыхнуло въ лицо, едва не поцѣловало согнутыя ноги. Онъ нагнулъ голову еще ниже. Вытянулъ къ огню руки. Шевелилъ пальцами. А что, если руки сунуть въ огонь? Ненадолго, на мигъ. Что будетъ? Обожгутся? Покроются волдырями? Опалятся волоски? Обуглятся и затлѣютъ ногти? Или ничего не будетъ, какъ у тѣхъ, кто паломничалъ на Святую Землю, въ славный градъ Іерусалимъ, и былъ на Пасхальной службѣ въ храмѣ Воскресенія Христова, и дожидался въ толпѣ возжиганія Благодатнаго Огня, и зажигалъ пукъ бѣлыхъ свѣчей отъ летучаго того пламени, и совалъ въ пламя руки, лицо, лобъ, бороду, гладилъ тѣмъ пламенемъ грудь и шею, цѣловалъ его голыми, беззащитными губами? И — живъ остался, и не запылалъ!
Дрова трещали въ печкѣ. Дотлѣвало огромное толстое сосновое полѣно. Изъ печи тянуло смолистымъ духомъ. Громкій трескъ сухого дерева рвалъ уши, люди вздрагивали и смѣялись.
Ляминъ пошерудилъ кочергой дрова. Головешки сочились синими огнями. Мелкія вѣтки давно сгорѣли. Оставались только крупныя, круглыя, тяжелыя бревна, распиленныя криво, какъ придется. Огонь обнималъ ихъ, бѣгалъ по нимъ рыжими быстрыми ногами.
Лицо напротивъ огня. Руки рядомъ съ огнемъ.
«Такъ и наша жизнь. Рядомъ съ огнемъ. Всегда. И сжечься — такъ просто. Тебя въ огонь бросятъ, и сгоришь. Или онъ самъ къ тебѣ подступитъ, и не убѣжишь. А какой красивый!»
Огонь плясалъ вокругъ кочерги.
«Вотъ она черная, страшная, а огонь вокругъ нея ой какъ пляшетъ».
— Эй! Эге-гей! Слушай мою команду! — Матвѣевъ въ дверяхъ стоялъ при полномъ парадѣ. Плюгавенькій, напускалъ на себя видъ военачальника. — Всѣ на собраніе!
— Куда? На какое?
Звѣзды рѣзкими ножевыми лучами напрасно старались разбить затянутое свѣтящимся льдомъ окно.
— На общее! Весь отрядъ — быстро собрать! Всѣмъ буду докладывать, что намъ ВЦИК приказалъ въ Петроградѣ!
— Эй, командиръ, а пошто собраніе-то ночью? Чай, спать всѣ хотимъ!
— И то вѣрно, завтра рано вставать! Затемно!
Матвѣевъ скрипнулъ зубами, будто орѣхъ разгрызалъ.
— Перебьетесь. Важные вопросы рѣшать будемъ!
— А съ чѣмъ связаны-то вопросы? Може, и тута рѣшимъ?! — крикнулъ Игнатъ Завьяловъ. Щеголялъ въ тѣльняшкѣ: ему недавно подарила дѣвчонка съ тобольскаго рынка. Сказала — съ убитаго моряка, ея жениха. Слезы тѣмъ тѣльникомъ утерла и Игнату въ руки насильно всунула. «Убѣгла, — разсказывалъ солдатамъ Игнатъ, — а я съ тѣльникомъ посреди рынка стою, какъ Петрушка, и думаю: а може, въ костеръ швырнуть, може, онъ заговоренный?»
— Съ кѣмъ, съ чѣмъ! Сами знаете!
И тутъ всѣ сразу, странно, безъ словъ все поняли.
И засобирались.
Кто успѣлъ изъ портковъ выпрыгнуть — снова въ нихъ влѣзалъ. Набрасывали на плечи шинели: плохо протапливался большой домъ. Топая, сапогами грохоча, спускались внизъ, въ старую пустую, безъ мебели, каминную. Мебель всю на кострахъ сожгли да въ печахъ, объ ней и помину не было.
Въ каминной рядами стояли узкія лиственничныя лавки. Солдаты разсѣлись. Крутили «козьи ноги». Раздавался пчелиный медовый духъ: кто-то со щелканьемъ, съ чавкомъ жевалъ прополисъ.
Матвѣевъ всталъ передъ отрядомъ, по правую его руку разѣвалъ пасть громадный, давно холодный каминъ. На желѣзномъ листѣ, какъ на днѣ морскомъ, валялись старыя головни. Онѣ походили на обгорѣлые хребты огромныхъ рыбъ.
— Итакъ! Собраніе начинаемъ. На повѣсткѣ дня…
— Ночи, ешкинъ котъ…
— Судьба тѣхъ, чьи жизни сейчасъ находятся въ нашихъ рукахъ! Въ вашихъ рукахъ, товарищи!
— Въ вашихъ, въ нашихъ, — буркнулъ Игнатъ Завьяловъ. — Какъ-будто намъ тутъ что позволено.
Громко крикнулъ:
— Да поняли ужъ всѣ! Ни въ какихъ не въ нашихъ, а въ твоихъ!
— Ни въ какихъ не въ моихъ, а въ рукахъ ВЦИК и Ленина! — запальчиво и рѣзко крикнулъ въ отвѣтъ Матвѣевъ.
— Ну вы тамъ, ты, Игнатка, давайте безъ перепалокъ…
Матвѣевъ пріосанился. Пощипалъ тощіе усенки.
— Слушаемъ внимательно! Нашъ отрядъ охраняетъ особо важныхъ персонъ. Ихъ жизни важны для нашего молодого государства! Германцы, — Матвѣевъ кашлянулъ и снова подергалъ усъ, — германцы, а возможно, и англичане, да что тамъ, цѣлая Европа… спитъ и видитъ, какъ бы вызволить отсюда, изъ Сибири, бывшихъ, кхмъ… — Слово «царей» побоялся выговорить. — Бывшихъ правителей Россіи! Гражданина Романова и его семейство!
— Ишь какъ онъ ихъ пышно, семейство, — шепталъ Мерзляковъ себѣ подъ носъ, — прямо сынокъ имъ родной…
— Въ Петроградѣ власть перешла въ руки большевиковъ! А значитъ, судьбу Романовыхъ нынче рѣшаетъ кто? Большевики! Выношу на повѣстку дня…
— Ночи, въ бога душу…
— Вопросъ о томъ, на чьей мы сторонѣ! И какъ мы теперь должны охранять намъ ввѣренныхъ людей! Ленинъ въ Петроградѣ сказалъ намъ такъ: стереги ихъ какъ зѣницу ока, потому какъ мы одни… мы! одни! слышите! это Ленинъ ВЦИК и себя имѣлъ въ виду!.. можемъ распоряжаться ихними жизнями! Я рѣшилъ вотъ что. Эй, уши навострите! Что мы всѣ — да, всѣ мы — всѣмъ отрядомъ! — дружно переходимъ на сторону большевицкаго правительства! Другого пути у насъ нѣтъ! И посему… — Опустилъ глаза, словно бы шаря зрачками по невидимымъ строкамъ несуществующей бумаги. — Посему даю вамъ всѣмъ клятву, что скорѣе самъ сдохну, но никому изъ этой семейки не дамъ уйти живыми… если они вдругъ захотятъ отъ насъ убѣжать!
Пахло махрой, портянками. Ляминъ глядѣлъ на каминъ.
«Затопить бы… согрѣться… Да всѣ дымоходы, видать, грязью забиты…»
— И они! Никогда! Отъ насъ! Не удерутъ! Мы за нихъ — за каждаго — шкурой отвѣчаемъ! Уразумѣли?!
— Што жъ не понять, командиръ!
— Все ясно какъ день…
— И въ каждую смѣну караула я теперь ставлю — по одному человѣку изъ большевицкаго правительства Тобольска!
Зашумѣли.
— А по кой намъ чужіе люди?!
— Экъ што удумалъ!
— Чо мы, сами не справимся?! Не совладаемъ съ энтими… съ дѣвчонками?! да съ мальцомъ задохлымъ?!
— Что сказалъ, то сказалъ! Приказалъ! — Матвѣевъ ощерился, сверкнулъ поросячьими глазенками. — Это приказъ! Чужихъ встрѣчать миролюбиво! Харчемъ — дѣлиться! Сторожить — не смыкая глаз! Мнѣ самъ Ленинъ сказалъ: заговоръ — существуетъ! Только слишкомъ глыбко, тайно запрятанъ…
Перевелъ духъ.
***
ИНТЕРЛЮДІЯ
…перевести духъ. Мнѣ бы хоть немного перевести духъ.
Да они — мои солдаты — мои цари — никто — ни одинъ изъ нихъ — ни на минуту не отпускаютъ меня.
Я хочу сказать о нихъ правду.
А мнѣ говорятъ: какую ты правду избрала, вѣдь тогда много правдъ было, и никто не знаетъ, какая — вѣрная, самая правдивая правда! Солдатская тамъ, или комиссарская, офицерская ли, царская! А можетъ, мужицкая? Меня спрашиваютъ: какъ ты ихъ видишь, какимъ острѣйшимъ зрѣньемъ, своихъ красноармейцевъ — какъ великій возставшій народъ, знающій, что онъ творитъ, или какъ народъ жалкій, несчастный, обманутый, ведомый за красную, кровавую веревочку, видящій передъ голодной и грязной мордой своей красную морковку лучшей, прекраснѣйшей жизни? Надо мной смѣются: вотъ, баба, ты взялась не за свое дѣло!
А ты, кричу я въ отвѣтъ, ты-то знаешь, что на самомъ, на самомъ-то дѣлѣ тамъ и тогда — было? Что, берешься досконально и доподлинно все изобразить — и наконецъ-то предъявить намъ послѣднюю, наивѣрнѣйшую, сильнѣйшую правду, что поборетъ всѣ остальныя, слабыя и хилыя правды? А? Что?! Не слышу. Берешься?
Мнѣ говорятъ, улыбаясь мнѣ въ лицо: вотъ ты хочешь сказать, что и красные — страдали, что за красными — она, наша послѣдняя правда, что красные воевали за хлѣбъ — голоднымъ, за миръ — народамъ, за землю — крестьянамъ… и кровь за это щедро лили, еще какъ проливали? Да? Да?! Что молчишь?!
Хочешь сказать, мнѣ кричатъ, что у красныхъ тоже были хорошіе генералы?
А еще вчера эти красные генералы были генералами царской арміи — и вели въ бой съ германцами русскія войска въ Польшѣ, въ Галиціи, подъ Брестомъ, подъ Молодечно!
А позавчера они, твои красные генералы, были царскими юнкерами!
Хочешь сказать намъ о томъ, что красныхъ солдатъ — обманули говорливые, съ лужеными глотками, партійные пропагандисты?
А можетъ, хочешь другое сказать намъ. Что красныхъ было гораздо больше, чѣмъ бѣлыхъ, что всѣ вставали подъ красныя знамена, кто былъ угнетенъ, раздавленъ, обобранъ, — убитъ при жизни! Всѣ, кому надоѣла нищая безславная жизнь!
А ты, должно-быть, не знаешь, какъ командармъ Араловъ кричалъ на Восьмомъ съѣздѣ РКП (б): «Воинскія части приходятъ на фронтъ, товарищи, не зная, зачѣмъ онѣ борются! Внутреннія формированія недостаточно устойчивы!». А Іосифъ Сталинъ кричалъ въ отвѣтъ: «Опасны для насъ, большевиковъ, отнюдь не рабочіе, что составляютъ большинство нашей арміи, — опасны именно крестьяне, они не будутъ драться за соціализмъ, не будутъ!.. и, товарищи, отсюда наша первоочередная задача — эти опасные элементы заставить драться!» А ты знаешь ли, какъ заставляли? Нѣтъ?! Такъ слушай!
Какъ заставить крестьянъ воевать подъ краснымъ знаменемъ — указалъ товарищъ Троцкій: да очень просто! поставить за спиной атакующихъ пулеметы!
А знаешь, что говорилъ Григорій Сокольниковъ, онъ же Гиршъ Янкелевичъ Брилліантъ, командующій Восьмой арміей: «Если армія будетъ находиться подъ командованіемъ бывшихъ офицеровъ, можетъ произойти то, что крестьяне возстанутъ противъ насъ!»
Ну и какъ тебѣ это все? Ты наконецъ понимаешь, что красные боролись за власть и только за власть?! Бывшихъ царскихъ офицеровъ красные вынуждали вступать въ Красную Армію угрозами расправы съ ихъ семьями. Обманомъ: мы побѣдимъ, мы — сила и правда! Генерала Брусилова обманули. Верховскаго, Апухтина, Баграмяна, Карбышева, лукина — обманули. Послѣ гражданской войны тысячи офицеровъ, служившихъ въ Красной Арміи, были арестованы и разстрѣляны. Чистка! Великая чистка! Вотъ этого ты — хочешь?! Со своей правдой?!
…духъ перевести бы.
…смерть, вѣдь ее называли разными словами. Смотря кто называлъ и смотря когда.
Бой. Битва. Подвигъ. Сдохни подъ заборомъ, собака. Эшафотъ. Пуля. Петля. Столыпинскій галстукъ. Десять лѣтъ безъ права переписки. И это, съ виду такое блестящее, здоровьемъ пышущее, аккуратное, домашнее, врачебное, словно хлорка въ ведрѣ или спиртъ въ мензуркѣ, — чистка. Чистка!
…Чистили, чистили, чистили нашу землю. Добѣла начистили. Докрасна. А потомъ и дочерна.
Что я вамъ отвѣчу, вы всѣ, кто жаждетъ подлинной и окончательной, истинной правды?
Что бы вы сдѣлали сами, окажись вы подъ прицѣломъ красноармейскаго нагана?
А — подъ прицѣломъ бѣлогвардейской винтовки, еще съ турецкой войны пользованной?
За власть, говорите, боролись красные? Да. Тѣ, кто былъ близко къ власти, — боролись за власть.
А тѣ, кто по всей безкрайней расеѣ былъ разсѣянъ, — боролись за счастье. Свое и дѣтей. Вѣдь они его никогда не видали, счастье-то. Или — очень редко. На ярманкѣ, когда леденцовыхъ пѣтушковъ сосали. Да на рыбалкѣ, когда сѣтью — изъ рѣки — тяжелую
рыбу тащили. Земля, родная земля, сверкающая всѣми огнями, окнами, дымами, хороводами, литовками на сѣнокосахъ, сугробами, звѣздами, ожерельями рѣкъ и озеръ, латунными и золотыми, бьющимися въ послѣдней мукѣ рыбами на сыромъ песчаномъ берегу, — вотъ она только, земелюшка, счастьемъ и была.
А вы говорите — власть!
Какая у мужика власть? Гдѣ?
…чистили, чистили, чистили. Красное знамя — красной тряпкой пыль и грязь съ россіи вытирало. Вытерло? Вычистило? Отмыло?!
…за весь вѣкъ мы потеряли всѣхъ: и крестьянъ, и землю, и счастье.
Что осталось?
Вотъ одна смерть, посреди жизни, каждому и осталась.
Своя собственная.
И не надо ея бояться. Иной разъ она — лучшій исходъ.
…какъ это сказала одна прекрасная, давняя снѣжная маска, имя ея сейчасъ ужъ быльемъ поросло, да никто его и не знаетъ, никто не помнитъ; я знаю, я одна.
Не знаю часъ. Но чувствую пустоты —
Просторы; черноту; и бѣлизну.
Поля снѣговъ. Древесные заплоты.
…Ты, какъ свѣчу, держи меня одну,
Богъ одинокій, въ кулакѣ костлявомъ.
Ты далъ мнѣ жизнь. Ее Тебѣ верну,
Какъ перстень бирюзовой, синей славы.
Ничто: ни казни, мести, ни отравы —
Передъ лицемъ Твоимъ не прокляну.
Смерть — это снѣгъ. Тамъ холодно. Кровавы
Мои ступни — отъ ледяныхъ гвоздей.
Гуляетъ вѣтръ невѣдомой державы.
Всякъ на снѣгу, прикрывъ рукой корявой
лицо отъ вѣтра, — рабъ, исподъ людей.
…какъ это красиво написано. Какая красивая, скорбная тутъ смерть. А вѣдь на самомъ дѣлѣ она уродливая. Она страшная и ненавистная. Для кого? Для того, кто не вѣруетъ въ Бога?
Да вѣдь и для Бога — чистку придумали.
…да сырою красной тряпкой до Него — не дотянулись.
Поэтому не говорите мнѣ, пожалуйста, о послѣдней правдѣ. Не кричите мнѣ въ уши о томъ, у кого она на самомъ дѣлѣ спрятана за пазухой. Я не шарю по чужимъ карманамъ. И я не рву прилюдно рубаху на груди и не кричу: я, я одна знаю все, эй, слушайте меня!
Не слушайте. Закройте глаза и тихо подумайте о смерти. Эти письмена — о смерти и о жизни, и она-то есть одна медаль, единый Георгіевскій крестъ о двухъ сторонахъ, имъ же насъ наградили родители, земля, Богъ. Да, Богъ, кривитесь и отворачивайтесь, безбожники. Это ваше право. У васъ въ рукахъ, вижу, новыя красныя тряпки — новую пыль съ вѣковъ стирать.
***
Комиссаръ Яков Юровскій не любилъ вспоминать.
Онъ вообще не любилъ задумываться; его нутро было устроено такъ, что ему надо было все время дѣйствовать.
Дѣло — вотъ былъ его стягъ. Онъ высоко поднималъ его надъ головой.
Но хитеръ былъ; любое дѣло вѣдь, прежде чѣмъ дѣлать, надо обдумать, и вотъ тутъ — обдумывалъ. И продумывалъ все: тщательно, до подробностей. Перестраховщикъ, онъ все дѣлалъ, отмѣряя и вымѣряя, не надѣясь на везеніе, а надѣясь только на себя.
Но иной разъ, вечеромъ, дома, улегшись, послѣ вкусныхъ маковыхъ кнедликовъ матери, тети Эстеръ, на низкую скрипучую кушетку и закинувъ руки за курчавую баранью голову, онъ вспоминалъ то, что минуло.
…Стекла въ рукахъ отца. Они блестятъ, на солнцѣ — ослѣпляютъ.
Онъ, мальчишка, заслоняется рукой отъ нестерпимаго блеска.
Отецъ вставляетъ стекла въ окна людямъ: и богатымъ, и не очень. Чаще всего бѣднымъ. Беретъ за работу очень дешево. Стекла у него грязныя, и часто бьются. Разсыпаются мелкой радугой. Отецъ страшно сутулый, почти горбатый. Онъ горбатится потому, что все время таскаетъ стекла. Ноги его заплетаются, какъ у пьянаго, хотя онъ не пьяный; когда онъ устаетъ, онъ свиститъ сквозь зубы смѣшную мелодію изъ трехъ нотъ, и тогда мальчишкѣ Янкелю кажется: отецъ — птица, и сейчасъ улетитъ.
Отецъ таскалъ стекла, а мать шила и шила, и изъ-подъ ея руки, изъ-подъ стучащей иглы швейной машинки ползла и ползла рѣка разныхъ тканей. И толстыхъ, и тонкихъ. И пушистыхъ, и паутинныхъ. Шерсть, твидъ, крепъ-жоржетъ, крепдешинъ, бархатъ, плисъ, шелкъ. Ножницы въ рукахъ матери пугали Янкеля. Онѣ взмахивали, и отрѣзали кусокъ отъ длиннаго, сходнаго съ великанской колбасой отрѣза, — а Янкелю казалось, что онѣ сейчасъ отрѣжутъ ему голову. И онъ кричалъ: «Не надо!» — и убѣгалъ въ сарай во дворѣ, и забивался за полѣнницу дровъ, и втягивалъ курчавую голову въ острыя плечи, и плакалъ, трясясь.
Кромѣ Янкеля, въ домѣ были еще дѣти. Янкелю казалось — они шуршатъ, какъ мухи въ кулакѣ. Онъ научился считать — и смогъ ихъ, братьевъ и сестеръ, сосчитать всѣхъ уже въ школѣ. Тетя Эстеръ рожала каждый годъ, какъ кошка. Иные дѣти умирали еще въ колыбелькѣ, и тогда тетя Эстеръ горько плакала и страшно кричала. Она выкрикивала на незнакомомъ языкѣ слова, похожія на древнія забытыя мелодіи. А отецъ садился на полъ, раскачивался и тоже говорилъ, какъ пѣлъ. И тоже непонятно.
А маленькіе дѣти въ люлькахъ и кроваткахъ ревѣли и визжали, какъ поросята; а если люлекъ не хватало, ихъ клали въ большія корзины, выстилая корзину мягкой фланелью.
Дѣтей родилось шестнадцать, а росло десять.
Заказчиковъ у тети Эстеръ всегда хватало. Копейку она зарабатывала; и отецъ тоже.
Но насталъ черный день, и тетя Эстеръ сломала руку, и не могла шить; а отецъ упалъ съ чужого чердака, и сломалъ ногу, и не могъ ходить. Нога заживала плохо и медленно. Гноилась кость.
Дѣти, кто подросъ, уходили въ люди; малютки бѣжали на паперть, просили милостыню, и православный народъ, кидая имъ полушки и горбушки, ворчалъ: «У, жиденята!» Янкель пошелъ въ ученики къ закройщику. Закройщикъ былъ еврей, какъ и Янкель. Онъ распѣвалъ молитвы на языкѣ ивритъ. Если Янкель неправильно клалъ стежокъ, закройщикъ втыкалъ ему иглу въ задъ. Янкель верещалъ, а закройщикъ радостно кричалъ: «Ай, криворучка, ай зохэнъ вэй!»
Закройщику приносили мѣха, чтобы пошить шубы и шапки; онъ исхитрялся оттяпывать отъ мѣховинъ куски, и большіе и маленькіе, и потомъ изъ этихъ наворованныхъ обрѣзковъ шилъ издѣлія и продавалъ ихъ на рынкѣ. А то заставлялъ продавать Янкеля. Янкель стоялъ за прилавкомъ, передъ нимъ лежали шапочки, воротники и муфты, и онъ, смертельно стыдясь, изрѣдка вскрикивалъ: «Купите мэхъ! Мэхъ купите!»
А потомъ Янкель сбѣжалъ отъ закройщика и подался въ подмастерье къ часовщику.
Часы, циферблаты. Все движется, стучитъ, тикаетъ, лязгаетъ, звенитъ. Все жесткое, холодное, ледяное, серебряное, стеклянное. И цифры, цифры; онѣ считаютъ время, а время это не жизнь. Время — это деньги и слезы. И денегъ мало, а слезъ много.
Поэтому соблазняетъ, волнуетъ красное. Красная кровь. Красныя женскія губы. Красное знамя.
Онъ всталъ подъ это знамя, потому что не подо что больше было вставать бѣдняку.
И бѣдному еврею — тѣмъ паче.
…Послѣ первой забастовки его посадили въ тюрьму какъ вожака рабочихъ и сработали ему «волчій билетъ»: онъ не могъ теперь поступить ни въ одинъ университетъ, и работать въ часовыхъ мастерскихъ тоже не могъ. А что онъ могъ? Такихъ, какъ онъ, принимала въ объятья партія.
Россійская соціалъ-демократическая рабочая партія.
Часовщикъ? Ювелиръ? Закройщикъ? О, оставимъ это другимъ евреямъ. Онъ можетъ и будетъ заниматься другимъ.
Онъ — переустроитъ міръ. Ни больше ни меньше. Они, кто въ партіи, роютъ тайные ходы. Они — черви исторіи. У нихъ тайныя квартиры, тайныя сходки, тайныя битвы и тайныя жены. Они, тихіе жуки, точатъ вѣчное дерево, и оно перестаетъ быть вѣчнымъ.
…Освоивъ фотографическое дѣло, онъ открывалъ и закрывалъ фотографіи, въ его ательѣ всегда толпился народъ, онъ былъ въ модѣ и въ фаворѣ, Яков Юровскій. Онъ научился говорить вѣжливо, улыбаться тонко, кланяться низко и изящно; а тайную ненависть держалъ при себѣ, хоть и трудно это было.
И еще онъ могъ избавляться отъ того, что было неудобно, неугодно или опасно. Такъ онъ избавился отъ фронта, когда его призвали. Такъ онъ избавлялся отъ назойливыхъ любовницъ и отъ шпиковъ, слѣдящихъ за нимъ на улицахъ разныхъ городовъ. Однако Екатеринбургъ упрямо возвращалъ его къ себѣ. Онъ пріѣзжалъ сюда — и оставался здѣсь, и вдыхалъ ароматъ кнедликовъ, посыпанныхъ макомъ и обмазанныхъ медомъ, что готовила старая Эстеръ; и ходилъ въ фельдшерскую школу, учась благородной и святой медицинѣ: медицина точно смотрѣлась благороднѣе всѣхъ стеколъ, шкурокъ, часовыхъ стрѣлокъ и коричневыхъ, какъ гречишный медъ, фотографическихъ снимковъ.
Хирургія. Госпитальные врачи. Онъ нравился докторамъ, этотъ немногословный фельдшеръ съ чуть крючковатымъ, чуть козлинымъ носомъ и изящными, почти дамскими губами. Исполнительный, внимательный, четкій до жесткости: никогда не сдѣлаетъ ошибокъ, а во врачебномъ дѣлѣ это дорогого стоитъ. Онъ ассистировалъ хирургамъ, видѣлъ рваныя раны и раны колотыя, самъ удалялъ аппендиксы, самъ зашивалъ разрѣзы послѣ удаленія опухолей. Онъ видѣлъ, какая она, смерть; у нея было множество лицъ, всѣ разныя, и всѣ — отвратительныя. Онъ часто думалъ о своей смерти, какая она будетъ, какъ придетъ; но до смерти онъ хотѣлъ свергнуть тѣхъ, кто заставлялъ его страдать, онъ хотѣлъ взять реваншъ, и онъ зналъ: рядомъ съ нимъ тѣ, кто дико, по-волчьи, страстно и хищно хочетъ того же.
Февральская революція нацѣпила на всѣхъ красныя гвоздики, и на него тоже. Но онъ хотѣлъ не жалкаго, хоть и яркаго, цвѣтка на лацканѣ. Онъ хотѣлъ диктатуры и крови. Крови тѣхъ, кто пилъ его кровь. Старая Эстеръ причитала: ой же ты, мальчикъ мой, и куда же тебя несетъ, прямо въ пекло! Онъ язвительно кривилъ красивыя губы: мама, такъ я жъ и хочу туда, въ пекло. Тамъ — судьба.
Фронты гремѣли и дымились далеко, а у него былъ свой фронтъ. Большевики взяли власть. Это былъ и его личный тріумфъ. Выше, выше по лѣстницѣ! Она головокружительна. Замѣститель комиссара юстиціи. Предсѣдатель слѣдственной комиссіи при революціонномъ трибуналѣ. Чекистъ, и черная тужурка, и черная фуражка, и красная повязка. И иногда — очки, если плохо видѣлъ; а онъ плохо видѣлъ въ темнотѣ.
Чекисты засѣдали въ Екатеринбургѣ въ «Американской гостиницѣ». Обстановка еще сохранилась прежняя, вчерашняя: широченныя кровати съ перинами, хрустальныя люстры, тяжелыя бархатныя темнокрасныя гардины, узорчатые ковры, высокія зеркала въ дубовыхъ рѣзныхъ оправахъ. Здѣсь гуляли купцы, стонали и плакали проститутки, совершались убійства и ложками ѣли красную и черную икру, уминали за обѣ щеки севрюгу и стерлядей. Еще вчера исходилъ дешевой звонкой музыкой и дымился криками, танцами и шампанскимъ въ ведрахъ со льдомъ роскошный ресторанъ. Сегодня исчезли купцы и ихъ шалавы. И съ ними исчезли икра и севрюга. И дорогія изысканныя вина, ласкавшія языкъ и душу. Ленинъ проповѣдывалъ: вы аскеты, вы должны умереть за революцію, а все остальное вамъ чуждо, помните!
И они помнили.
Они все время видѣли передъ собой Ленина, его лысую голову, его чертовскую, чортову подвижную, ртутную повадку, его большіе пальцы, заткнутые въ карманы жилетки, его наклоненный впередъ корпусъ — будто онъ тянется за недостижимой конфектой, за елочнымъ сладкимъ подаркомъ, а соблазнъ держатъ передъ его носомъ и не даютъ, а он все тянется, тянется. Ленинъ тянулся за судьбой страны, а за Ленинымъ тянулись они.
И такъ выстраивался этотъ кровавый, черный цугъ.
Другъ за другомъ, цугомъ шли чекисты, и цугомъ шла смерть. ЧеКа и смерть — это была пара, это была дивная, небывалая свадьба. Чекисты нюхали умершіе запахи купеческаго разгульнаго ресторана, а смерть нюхала дымы ихъ трубокъ и папиросъ и дымы ихъ выстрѣловъ.
Въ номерахъ спорили и сговаривались. Тузили другъ друга и стрѣляли въ окна. Каждый хотѣлъ быть командиромъ. Видѣлъ себя начдивомъ, комиссаромъ, а лучше — вождемъ.
Но вождь былъ одинъ. Повторить его было нельзя. Запрещено.
Ихъ всѣхъ тревожила его жизнь. Его путь.
Путь Ленина! Великій, свѣтлый путь! Юровскому часто видѣлось, какъ Ленинъ ѣстъ и пьетъ: ѣстъ яичницу, пьетъ чай изъ стакана въ подстаканникѣ. Обязательно въ подстаканникѣ, и въ серебряномъ, а можетъ, и въ мѣдномъ, а то и въ латунномъ, и, прихлебывая чай, глядитъ на красную звѣзду, отлитую въ слѣпомъ и горячемъ сплавѣ.
Каждый изъ нихъ немножечко былъ Ленинымъ. И это было мучительно и прекрасно.
Каждый былъ Ленинымъ въ своемъ Совѣтѣ; въ своемъ околоткѣ; въ своемъ отдѣльно взятомъ домѣ.
И властвовалъ. И управлялъ. И выбрасывалъ впередъ руку, приговаривая къ смерти тысячи и милліоны, а можетъ, двухъ или трехъ, это неважно.
Немножко Ленинымъ былъ и Юровскій. Онъ прозналъ, что Романовы въ Тобольскѣ; а можетъ, онъ зналъ объ этомъ давно, и забылъ, когда узналъ. Тобольскъ, не очень-то и рядомъ, однако Сибирь. А Уралъ-камень — братъ Сибири. Ленинъ командуетъ изъ Москвы — а онъ, самъ себѣ Ленинъ, скомандуетъ отсюда. Изъ родного города. Старая тетя Эстеръ, будь готова къ тому, что твой сынъ прославится! А зачѣмъ чекисту слава? Это обманъ. Ему не нужно славы. Ему нужно красное знамя и кровь въ огородныхъ бочонкахъ и банныхъ шайкахъ, чтобы купать въ ней старыя, списанныя госпитальныя простынки и окрашивать ихъ въ ярый цвѣтъ.
Часы идутъ. Стрѣлки сухо щелкаютъ. Брильянты горятъ подъ стекломъ витринъ въ ювелирныхъ мастерскихъ. Фотографическія камеры наводятъ на тебя стеклянный всевидящій, равнодушный глазъ. Скальпели взмахиваютъ надъ корчащимися, мерзнущими на стерильныхъ столахъ тѣлами. Вся его, Якова, жизнь — это согнутая надъ болью мастерства спина. Но разогни спину, умный еврей. Ты уже сталъ слишкомъ умнымъ. Ты уже понялъ, что къ чему.
…Онъ думалъ и придумалъ: монархическій заговоръ. Онъ позвалъ къ себѣ хорошаго работника. Оба коммунисты, какъ они не поймутъ другъ друга? Работникъ сидѣлъ рядомъ съ нимъ и смотрѣлъ ему въ глаза и въ ротъ, и онъ, маленькій Ленинъ, чувствовалъ себя отвѣтственнымъ и за его жизнь, и за жизнь народа, и за жизнь и смерть царей. Цари! Ваши часы тикаютъ все тише. Его другъ Шая Голощекинъ уѣхалъ въ Москву, къ настоящему Ленину. А мѣстный маленькій Ленинъ тутъ самъ придумалъ, какъ имъ быть. Царей надо привезти въ Екатеринбургъ. Уралъ — это ихъ огромный каменный эшафотъ. Они уѣзжали изъ Петрограда, изъ своихъ дворцовъ, и навѣрняка захватили съ собой фамильныя драгоцѣнности. Много? Мало? Они хитрецы. Но онъ хитрѣе.
Работникъ зналъ иностранные языки. Онъ пойметъ, о чемъ они, аристократы, говорятъ. А они говорятъ по-нѣмецки, по-французски и по-англійски, чтобы наши русскіе солдаты ихъ не поняли.
Юровскій говорилъ тихо и внятно. Работникъ запоминалъ. Онъ поклялся жизнью матери: я все сдѣлаю для трудового народа, товарищъ Яковъ!
Юровскій пожалъ плечами. Трудовой народъ ждетъ отъ нихъ подвига каждый день.
Трудовой народъ — это тоже я, думалъ онъ гордо и свѣтло.
И тутъ же, подумавъ такъ, хитро улыбался и внутри себя смѣялся надъ собой.
…Трудовому народу должны быть возвращены его украденныя сокровища. Все до капли. До блеска. До рваной золотой цѣпочки. До золотого червонца, которымъ заплатили за крѣпкій дубовый гробъ, за чугунный черный крестъ на старомъ кладбищѣ.
…а на еврейскихъ кладбищахъ крестовъ нѣтъ: тамъ все камни, камни.
***
Ляминъ научился заталкивать глубоко внутрь себя, глубже потроховъ, то, что выворачивало его наизнанку и жгло раскаленнымъ стальнымъ брусомъ.
Его мяло и крутило неодолимое, дикое. Онъ поздно это понялъ.
Бороться съ собой было безполезно и смѣшно.
А она недѣлями не подпускала его къ себѣ, да и не до этого было.
Отталкивая его, она роняла сквозь зубы, вбокъ, будто сплевывала: «Не до этого сейчасъ, Мишка. Утихни».
…ночью, когда она переставала ворочаться за стѣной въ своей комнатенкѣ — онъ слышалъ, когда кровать скрипѣть переставала, — онъ, босой, въ подштанникахъ, вставалъ съ койки, выходилъ въ коридоръ и клалъ руку на мѣдную ручку ея двери.
Дверь всегда была закрыта.
Онъ приближалъ губы къ щели. Налегалъ щекой на крашеную холодную доску. Шепталъ — что, и самъ не зналъ. Не сознавалъ. Слова лѣпились сами и обжигали губы. А потомъ слова умирали. Вмѣсто нихъ изнутри поднималась пылающая тьма, онъ горѣлъ и гудѣлъ, какъ печь, и, молча проклиная и себя и Пашку, ломалъ дверь.
Но двери въ Домѣ Свободы были сработаны на славу. Крѣпкія. Старыя.
Однажды онъ такъ вотъ ломился къ ней — и вдругъ замеръ, ополоумѣлъ: почуялъ, что она стоитъ за дверью.
Слышалъ ея дыханіе. Или такъ ему казалось. Чувствовалъ идущее отъ досокъ, сквозь щели и притолоку, легкое сладкое тепло.
Тамъ, за дверью, она стояла на полу въ мужскихъ подштанникахъ и бязевой мужской рубахѣ, дрожала, глаза ея горѣли въ темнотѣ, какъ у кошки, и она, какъ и онъ, положила ладонь на мѣдную, круглую дверную ручку.
Онъ прижимался къ мертвой двери всѣмъ тѣломъ: пусти! Пусти меня!
Она стояла и тяжело, быстро дышала. Она тоже ощущала его тепло, его бѣшеный жаръ.
Да надъ ними и такъ уже всѣ бойцы потѣшались. Ей такъ прямо командиръ Матвѣевъ и сказалъ: если вы съ Мишкой тутъ слюбились — такъ, можетъ, вамъ и изъ Красной Арміи вонъ уйти? Идите, семью обоснуйте. А тутъ все серьезно. А вы! Порочите честь краснаго воина!
— Пашка… Пусти… Пусти…
Презиралъ себя; и жалко становилось себя.
За досками, за тонкой деревянной загородкой, за слоемъ масляной краски и паутиной въ щеляхъ, стояла женщина и тоже наваливалась всѣмъ горячимъ, подъ вытрепаннымъ за всю войну бѣльемъ, крѣпкимъ поджарымъ тѣломъ на стѣну, на дверь. Беззвучно стонала. Кусала губы. Уже отжала защелку. Уже поворачивала ручку. Вотъ уже повернула. И отшагнула: входи! Ну! Давай!
…онъ налегъ рукой на дверь — она подалась. Пріотворилась.
И его окатило изнутри кипяткомъ, а потомъ будто бы всего, какъ святого мученика, взяли да въ смолу окунули.
И такъ, кипящій, жалко дрожащій, стоялъ.
Опять притворилъ дверь.
И опять чуть нажалъ, и чуть отворилъ.
И еще разъ закрылъ.
И стоялъ, и горячій потъ текъ по лбу, закатывался за уши.
И снова нажалъ, и… не подавалась дверь, не поддавалась…
…она, съ той стороны, защелкнула задвижку.
И, безъ силъ, опустилась передъ дверью на колѣни и уткнулась лбомъ въ замазанную бѣлой масляной краской сосновую доску.
…Снѣгъ чертилъ за окнами бѣлыя стрѣлы.
Снѣгъ билъ и билъ въ ледяной бубенъ земли, а она все никакъ не могла станцовать ему, жадному и настойчивому сѣдому шаману, свой нѣжный посмертный танецъ.
Снѣгъ шелъ, летѣлъ, а Николай сидѣлъ передъ окномъ и не задергивалъ шторы.
Онъ смотрѣлъ въ темное, расчерченное бѣлыми полосами стекло своими огромными, сѣросиними, рѣчными глазами, и взглядъ бродилъ, туманясь и изрѣдка вспыхивая тоской, запоздалой жалостью, тусклымъ огнемъ близкой боли.
Передъ царемъ на столѣ лежали газеты. Много газетъ.
Его еще не лишили этой скорбной радости — знать, что происходитъ въ мірѣ.
Въ его мірѣ? Нѣтъ, міръ больше ему не принадлежалъ.
И онъ прекрасно, хорошо и ясно теперь понялъ Христа: нѣтъ въ мірѣ ничего, за что стоило бы зацѣпиться — мыслью, властью, лаской. Все принадлежитъ небу и смерти. Все. И все равно, что будетъ тамъ, потомъ: а значитъ, все равно, что происходитъ здѣсь и сейчасъ.
Но ему причинялъ неизлѣчимую боль отнятый у него міръ. Отобранная у него земля. Его страна, оставшаяся одна, безъ него, попрежнему печатала газеты, стригла людей въ парикмахерскихъ, продавала помидоры на рынкахъ, войска стрѣляли во врага, только врагъ образовался не снаружи, а внутри. И врагъ говорилъ по-русски и воображалъ, что именно онъ и есть Россія.
Онъ читалъ газеты, бумага шуршала и жестяно скрежетала въ его рукахъ, и онъ закрывалъ глаза надъ свинцовымъ мелкимъ шрифтомъ отъ боли и ужаса: онъ видѣлъ, вспоминая, какъ разгоняютъ Учредительное собраніе, какъ власть беретъ Временное правительство; и какъ эти странные жестокіе люди, что называютъ себя большевиками, тянутъ власть, какъ канатъ, на себя, тянутъ, грубо рвутъ изъ рукъ — и перетягиваютъ, и вгрызаются зубами въ лакомую кость, что раньше была его трономъ, его честью и его упованіемъ.
Ленинъ наверху. Подъ нимъ тучи людей; они не личности, они приблуды. Урицкій приходитъ разгонять Учредительное собраніе, а самъ дрожитъ — съ него по пути сдернули шубу. Грабители, разбойники на улицахъ, и разбойники во дворцахъ — а какая разница? Все равно, кто снялъ шубу съ тебя: большевикъ или бандитъ. У Ленина своровали изъ кармана пальто револьверъ. Ленинъ, Ленинъ, лысый грибъ боровикъ, говорливый самозванецъ, гдѣ твое оружіе? Воры! Воры! А вы сами развѣ не воры? Развѣ вы не своровали у царя его страну?
Такъ все просто. Никакого народа нѣтъ. Народомъ лишь прикрываются.
Есть лишь власть, и берутъ всегда лишь власть.
Никогда ни о какомъ народѣ не думаютъ, когда власть берутъ.
Взять власть — это какъ любовь; власть и захватчикъ, это любовники; развѣ въ любви можетъ быть еще какой-то непонятный народъ?
Но народъ — это удобный лозунгъ; это матеріалъ, изъ котораго можно надѣлать кучу превосходныхъ показательныхъ казней. Это твоя почва, ты на ней стоишь; это твоя ѣда, ты ее ѣшь. Иногда это даже твой противникъ, если ты хочешь съ кѣмъ-то отчаянно побороться.
…Закрылъ глаза опять. Положилъ газеты на столъ.
Народъ — это то, чѣмъ клянутся и о чемъ рыдаютъ.
Но это уже не его народъ.
А есть ли народъ вообще?
— Господи, — прошепталъ онъ, — Отецъ небесный… нѣтъ народа… и не бывало никогда…
Онъ читалъ въ газетахъ: у Ленина лихіе люди отобрали ночью документы, бумажникъ и авто. И все оружіе — у самого вождя, у шофера и у охраны. Онъ вычитывалъ въ гремучихъ сѣрыхъ, желтыхъ, чуть синеватыхъ, тонкихъ бумажныхъ простыняхъ: заключенъ позорный Брестскій миръ, — и ему оставалось только молча кусать губы и сжимать руки. Отъ его страны на его глазахъ отрѣзали громадные куски, міръ расхватывалъ и расклевывалъ земли его имперіи, и онъ ужасался и мысленно просилъ у земного своего отца прощенья: отецъ, я не смогъ сохранить твое царство, прости. А что толку? Отецъ въ могилѣ, и, кажется, царство тоже хоронятъ. Бѣлоруссія и Польша, Кавказъ и Балтія — они уже были не подъ русской короной.
Да и корона, гдѣ она? А валяется въ грязи, на задворкахъ.
На задворкахъ Совнаркома.
Они, красные люди, творили съ его землей чортъ-те что. Перевели стрѣлки часовъ. Сплющили древній православный календарь. Теперь время шло быстрѣе, вприпрыжку, карнавально, какъ тамъ, у нихъ, въ Европахъ. Красные кричали: мы должны быть какъ они! Мы — Европа! Онъ криво улыбался, сминалъ въ рукѣ газету. Европа? Мы? Петръ Первый однажды уже захотѣлъ быть Европой; и что получилось? Развѣ получилось хорошо? Мы стали терять, и теряли, и теряли, и теряли себя. Но не растеряли: у насъ еще есть великое слово.
И великая любовь. И дивные, свѣтлые дѣти.
…вонъ они, смѣются за стѣной.
…Аликсъ все время говоритъ ему: не читай газетъ. У тебя испортится сердце.
Сердце, вѣчная желѣзная машина, вѣчный двигатель съ сонмомъ винтиковъ и заклепокъ. Сердце, слабый и ветхій кровяной мѣшокъ, средоточіе боли, земляной, глиняный комъ несбывшагося.
***
Ляминъ часто думалъ, какъ же это народъ будетъ воевать, къ примѣру, черезъ сто лѣтъ.
Если подумать, то мало что измѣнится: винтовки небось будутъ все тѣ же, и пули все тѣ же, и прицѣлы все тѣ же; ну, можетъ, немножко получше будутъ сработаны. Танки вотъ точно усовершенствуются: въ нихъ солдаты будутъ сидѣть въ просторныхъ желѣзныхъ кабинахъ, и пушки увеличатся въ размѣрахъ, и гусеницы окрѣпнутъ. А такъ — все онъ такой же будетъ, танкъ и танкъ.
Или взять, къ примѣру, гранату. Какъ она сейчасъ подрывается, такъ и въ будущемъ будетъ подрываться. Или тамъ снарядъ. И бомбы будутъ съ аэроплановъ внизъ, на города и села, такъ же валиться; только крылья у аэроплановъ станутъ крѣпкія, снарядомъ не прошибешь. Изъ чего же? А изъ желѣза.
«Изъ желѣза, дурень! Ха, ха! Придумай что-нибудь посмѣшнѣе. Да изъ желѣза машина въ небо даже и не взмоетъ. А взмоетъ — такъ упадетъ тутъ же, перевернется кверху брюхомъ».
…Иной разъ его охватывалъ странный страхъ, какъ простудная дрожь. Онъ представлялъ себѣ, сколько же людей сейчасъ встали, становятся подъ ружье, чтобы итти защищать молодую Совѣтскую власть; и спрашивалъ себя: а ты, ты-то что въ красные поперся?
И — не могъ себѣ отвѣтить.
Но воображалъ день ото дня все ярче и непреложнѣй, какъ толпы мобилизованныхъ красныхъ солдатъ идутъ сражаться съ добровольцами бѣлыми; и получалось такъ, что ихъ на борьбу гнали, какъ скотъ на бойню, а Добровольческая армія — сама себя строила.
«А насъ все равно больше. Все равно. Красныхъ — больше. Потому что мы страдали больше. А они? Гдѣ они страдали? Что — выстрадали? Народъ, онъ хорошо знаетъ, что такое страданье. Потому и валомъ валитъ — сражаться за счастье».
А потомъ останавливался, озирался вокругъ, будто что потерялъ, и вслухъ, тихо, спрашивалъ себя:
— Мишка, брось, — да гдѣ оно, твое счастье?
И опять думалъ о солдатахъ будущаго. А они-то какіе будутъ — красные, бѣлые, синіе, рыжіе?
Въ какомъ обмундированіи будутъ щеголять? Изъ чего стрѣлять? И, главное, — кого защищать?
«А можетъ, миръ настанетъ во всемъ мірѣ, и защищать ужъ будетъ некого. Всѣ будутъ обниматься… цѣловаться…»
Думалъ и усмѣхался: несбыточно, фальшиво.
Человѣкъ всегда золъ. И человѣкъ всегда хочетъ больше, чѣмъ у него есть. Хочетъ захапать, завоевать. И — сдѣлать по-своему.
«Всякая метла по-своему мететъ. Вотъ метла Ленина…»
Нить мысленную обрывалъ, не хотѣлъ ворошить это все, пламенемъ полыхавшее въ безсонной головѣ, ржавой кочергой.
И приговоры никому — внутри себя — объявлять не хотѣлъ.
Царь былъ врагъ, Ленинъ — за народъ, все на дѣлѣ ясно и понятно, и о чемъ тутъ еще балакать.
***
…Вѣрный уральскій большевикъ Шая Голощекинъ опять поѣхалъ въ Москву.
Уралъ и Москва оказались странно близко: поѣздъ мчалъ по просторамъ вывернутой наизнанку земли, и въ брюхѣ желѣзнаго длиннаго червя шевелились жалкіе человѣчьи потроха. Потроха мыслили, но чаще просто плакали, бѣжали, грабили и стрѣляли. Шая ѣхалъ въ Москву — встрѣчаться съ важными людьми; ихъ имена знала теперь вся Россія, и онъ повторялъ эти имена съ гордостью: и я, вотъ я, безвѣстный маленькій Шая, ѣду къ нимъ.
Онъ стоялъ надъ всѣми уральскими большевиками — такъ высоко укрѣпила его жизнь, и онъ жизнь благодарилъ, что такъ хорошо и правильно вознесла его.
Троцкій. Свердловъ. Ленинъ. Ленинъ. Троцкій. Свердловъ. Такъ выстукивали колеса, и такъ бормоталъ онъ самъ, нимало не заботясь о томъ, какъ и что онъ будетъ имъ говорить.
Они все сами ему скажутъ, весело думалъ онъ, запуская волосатую руку въ банку и вынимая оттуда за ножку крѣпенькій соленый грибокъ.
Они, эти звонкія имена, горѣли ярко и были видны отовсюду; и онъ тоже сидѣлъ на горѣ, и съ горы было все далеко видать. Онъ, Шая, видѣлъ то же, что и они, великіе; но что навѣрняка не видѣлъ народъ.
Народъ? А развѣ это былъ его народъ?
Ну и что, что подъ нѣмцемъ западныя наши земли; а можетъ, онѣ ихъ, исконныя, а наши цари только приклеили ихъ къ своему боку — такъ непрочно припаиваютъ дужку баннаго бака, а наполнятъ бакъ водой да потащатъ — дужка отвалится, отломится и будетъ валяться въ пыли. Отломились отъ Россіи дужки? Ничего. Новыя нараститъ! Дайте срокъ!
Мы лукавые: мы и нѣмца обманемъ, и поляка обманемъ, и чухонца обманемъ, и румына обманемъ, и перса обманемъ. Мы — всѣхъ — обманемъ!
…его вѣрный другъ Яша Юровскій вотъ такъ же думаетъ. И говоритъ.
Шая спросилъ его какъ-то разъ: Яша, ты такъ говоришь или такъ думаешь?
И Яковъ расхохотался и хохоталъ долго. А потомъ хлопнулъ Шаю по плечу: думаю одно, говорю другое, а дѣлаю третье! А потомъ сдвинулъ брови и добавилъ: если ты такъ не будешь жить, ты жить вообще не будешь.
И Шая сказалъ ему на это: а не выпить ли намъ?
…эхъ, жаль, въ вагонъ съ собою наливки не взялъ.
Яковъ недавно принесъ ему отмѣнную наливку, брусничную. Она жгла языкъ и приводила въ чистый восторгъ.
…Троцкій, Свердловъ и Голощекинъ. Штаны заправлены въ сапоги. Зачѣмъ у всѣхъ въ Кремлѣ на рукахъ красныя повязки? Они — красный патруль страны. У прямого провода — міръ; онъ жаждетъ говорить съ Совѣтской Россіей и узнать, что она будетъ дѣлать завтра. Красные длинные ковры укрываютъ старый паркетъ. По нему вчера ходили цари, а нынче ходимъ мы. И будутъ ходить наши дѣти и внуки.
Знаменитыя имена открывали рты и произносили слова; но за словами крылись мысли, и Голощекинъ долженъ былъ ихъ прочитать вѣрно.
И ему казалось: онъ ихъ вѣрно читалъ. И вѣрно толковалъ.
Толкованіе, оно всегда полезно. Собственный Талмудъ долженъ быть у каждаго въ головѣ.
Какъ они тамъ?
Да неплохо. Ихъ хорошо кормятъ. Комиссары не жалѣютъ денегъ.
Хорошо кормятъ, говорите, въ голодъ? Когда вся Совѣтская страна терпитъ лишенія?
…онъ понималъ: ужесточить режимъ.
Что говоритъ Тобольскій Совѣтъ?
Ждетъ вашего распоряженія.
А сами они не могутъ распоряжаться? Нужна наша команда?
…понималъ: дѣлайте все такъ, какъ приказываетъ время.
Какой за ними надзоръ?
Прекрасный. Службу несетъ отрядъ Матвѣева.
Каковъ составъ отряда? Надежны ли красноармейцы?
Бойцы отличные. Службу несутъ достойно. Безъ нарушеній.
…понималъ: такіе бойцы помогутъ сдѣлать все, что задумаетъ власть.
А письма получаютъ ли они? Газеты?
Почту приносятъ. Письма читаютъ. Газеты получаютъ исправно. Всѣ — свѣжія.
…понималъ такъ: за почтой — слѣдить, газеты — прекратить приносить.
А какъ у нихъ настроеніе, Тобольскъ вамъ телеграфировалъ?
…не зналъ, что отвѣчать. Если отвѣтить — не знаю, можно сплоховать и потерять ихъ довѣріе. Если сочинить что-либо на ходу — не повѣрятъ: они вѣрятъ только правдѣ.
Настоящей правдѣ; той, что бьется внутри въ унисон съ сердечнымъ насосомъ.
…судорожно думалъ, что отвѣтить.
Били и кололи иглами секунды.
…такъ сказалъ, думая вслухъ, впервые за много времени: тоскуютъ. Какое же еще у нихъ настроеніе можетъ быть.
…а потомъ опомнился и быстро отчеканилъ: но это видимость одна. На самомъ дѣлѣ они всѣ крайне сосредоточены и внимательно слѣдятъ за собой и охраной. Мы читаемъ ихъ письма. Изъ писемъ ясно, что имъ хотятъ помочь ихъ друзья, приспѣшники и родня.
Помочь?
Да, помочь.
Вы имѣете въ виду заговоръ?
Да, именно его.
Какъ быстро и въ какіе сроки они надѣются осуществить задуманное?
…и тутъ онъ не растерялся.
Вполнѣ скоро. Этой весной, лѣтомъ.
Понятно. У нихъ будетъ жаркое лѣто!
…онъ подхихикнулъ: да, судя по всему.
Мы имъ устроимъ жаркую лѣтнюю баню. Мы ихъ опередимъ.
…уже подсмѣивался открыто, искусно подыгрывалъ: конечно, опередимъ, еще бы намъ — ихъ — не опередить.
…и понималъ все слишкомъ хорошо: принимай ихъ у себя, перевози къ себѣ, и будемъ — ликвидировать; любыми способами.
Лысое темя блестѣло. Курчавая черная поросль пропитывалась по́томъ. Пенснэ сползало съ крючковатаго носа. Всѣ втроемъ, великіе люди представляли изъ себя новую троицу; они разнесли впухъ церкви и жгли на площадяхъ иконы, ибо сами они были огнемъ.
И живой огонь былъ сильнѣе, мощнѣе и прекраснѣе всѣхъ огней нарисованныхъ.
И Шая передъ ними, владыками, былъ тоже силенъ, радостенъ и смѣлъ.
И все это была — революція.
Ихъ революція.
Имъ единолично, до костей, съ потрохами — принадлежавшая.
***
Аликсъ собиралась на прогулку.
Ея прогулка — о, недалеко: на скотный дворъ.
Она созерцаетъ милыхъ утокъ и чудесныхъ длинношеихъ гусей. Гуси и утки, милѣйшія созданья, будутъ убиты, ощипаны и попадутъ на кухню къ повару Харитонову; и обратятся въ изумительныя, вкусныя блюда, и, хоть они не во дворцѣ, но смогутъ по достоинству оцѣнить новый обѣдъ. Ничего новаго вокругъ, зато ѣда всегда новая. О, сколько въ ѣдѣ кроется наслажденья, сюрпризовъ и тайнъ!
Наступило новое дивное сладостное время, время Великой Поблажки: для нихъ вдругъ разрѣшили вкусно и много стряпать, и имъ разрѣшили сытно и много ѣсть.
Оголодавшіе, они боялись удивляться внезапной благодати.
Харитонову было приказано: улещай, — онъ и старался.
Харитоновъ готовитъ щедро и съ выдумкой. Онъ понимаетъ: цари, и имъ надо, чтобы поизысканнѣй. Онъ фаршируетъ гуся капустой и печенымъ лукомъ, а утку — яблоками, слегка присыпая яблочныя дольки перцемъ, сахарнымъ пескомъ и солью, а еще сбрызгивая виннымъ уксусомъ. И отъ блюда не оторвать руки, губы и зубы: и старые, и молодые. Какъ они переглядываются и переговариваются за вкусной ѣдой! Царь качаетъ головой и мычитъ, какъ быкъ: м-м-м-м, м-м-м-м! Татьяна беретъ перечницу и щедро, озорно сыплетъ перецъ, и Аликсъ ахаетъ: доченька, ты же испортишь блюдо! Что за плебейскіе у тебя появились вкусы! Тата хохочетъ. Мама, я революціонерка! Перецъ — это революція въ кулинаріи!
И царица прижимаетъ пальцы ко рту, а потомъ креститъ дочь: Господь съ тобой! Какая революція!
И царь, жуя, мрачнѣетъ на глазахъ.
Послѣ перваго вносятъ второе. Все какъ во дворцѣ. Лакей Труппъ, съ жиденькими русыми волосенками, строго, сурово сложивъ губы, держится прямо, какъ на парадѣ, и вдругъ угодливо наклоняется, разставляя тарелки. Анастасія хлопаетъ въ ладоши. Мама, мама, поваръ нынче приготовилъ намъ мое любимое кушанье! На огромномъ овальномъ фарфоровомъ блюдѣ въ центрѣ стола стоитъ и дымится утка по-охотничьи — въ луковомъ соусѣ, съ ломтиками моркови, съ солеными помидорами по ободу блюда. И вареная картошка дымится, обильно политая топленымъ масломъ.
Они не знаютъ, что это ихъ послѣдній роскошный, сытный обѣдъ. А можетъ, еще не послѣдній: они веселятся, передаютъ изъ рукъ въ руки ножи — ихъ хватаетъ не на всѣхъ, — солятъ и перчатъ мясо, и мажутъ хлѣбъ масломъ, и смѣются, блестя въ смѣхѣ зубами, — дѣти — молодыми, а родители — уже требующими починки, да никто тутъ ихъ не водитъ къ дантисту. А вѣдь хорошіе зубы — это хорошее пищевареніе. Дѣти, жуйте тщательнѣй! Бэби, не болтай за столомъ!
Поваръ Харитоновъ вываливаетъ очистки и огрызки на задній дворъ. Съѣстное перегниваетъ, и по двору тянется вонь. Вотъ въ этотъ ужасъ превращается такая вкусная, такая чудная ѣда?
Николай морщитъ губы. Доченька, передай мнѣ солонку!
Пожалуйста, папа.
…Насталъ день, когда совѣтское правительство приказало: Романовыхъ посадить на солдатскій паекъ.
Они опять увидѣли на столѣ лишь крупно нарѣзанный ситный, соль въ солонкѣ, пустой, безъ мяса, гороховый супъ.
Николай шутилъ: ну я же солдатъ, все правильно. И пытался широко улыбаться.
У него не получалось.
У Аликсъ тоже: она старательно растягивала губы, а онѣ все не складывались въ улыбку, а складывались въ гримасу презрѣнія и страданья.
…Лакеи роптали, требовали повысить жалованье. Вѣрный лакей Труппъ ихъ пытался осадить: войдите въ положеніе семьи! А въ наше кто войдетъ, возбужденно кричали слуги, продовольствіе по карточкамъ, на рынкѣ цѣны немыслимыя, свое хозяйство не у всѣхъ, зима на исходѣ, все подъѣли, — а этихъ — безплатно обихаживай?!
…вотъ, они уже были — «эти».
Николай сидѣлъ за подсчетами. Сальдо, бульдо. Расходы, расходы, и никакихъ доходовъ.
— Милая, у насъ есть драгоцѣнности.
— Милый, я лучше умру, чѣмъ разстанусь съ ними! Это единственное, что у насъ осталось!
— Ты ошибаешься. Наше сокровище — дѣти.
— Это будущее дѣтей!
— Эти… камешки?
— Этимъ камешкамъ цѣны нѣтъ! За одно мое свадебное ожерелье я могла бы выкупить наши земли, отнятыя Германіей! И полъ-Германіи впридачу!
— Ты преувеличиваешь.
— А ты, какъ ты можешь быть такимъ спокойнымъ!
— Я считаю.
И царь умолкалъ и считалъ.
Передъ нимъ на столѣ лежали бумаги, счеты и его солдатская продовольственная карточка.
Онъ щелкалъ костяшками счетовъ и двигалъ губами, повторяя про-себя цифры.
— Солнце, мы должны ужаться. Мы сократимъ расходы на прислугу. Я разсчитаю Смѣлякова и Телѣгина.
— Невѣроятно!
— И расходы на провизію тоже. Мы очень много ѣдимъ.
— Чудовищно!
— У насъ нѣтъ денегъ, чтобы покупать хорошую ѣду.
— Ники, я выплакала уже всѣ слезы! Мнѣ нечѣмъ плакать!
— Можетъ-быть, родная, это и хорошо. У насъ нѣтъ денегъ.
Аликсъ стискивала руки. Поворачивалась къ мужу спиной, и онъ видѣлъ ея затылокъ, съ приподнятымъ вверхъ пучкомъ, изъ котораго лѣзли наружу и все никакъ не могли вылѣзти чуть вьющіеся сѣдые нѣжные волосы.
— Какъ это такъ, нѣтъ денегъ? А Татищевъ и Долгоруковъ? Они же… ходятъ… занимаютъ! И имъ — даютъ!
— Теперь уже не даютъ. Перестали.
— Не вѣрю!
— Ты знаешь, родная, въ Кого намъ съ тобой осталось вѣрить.
***
Матвѣевъ, съ керосиновымъ фонаремъ въ рукахъ, явился за-полночь въ комнату, гдѣ спали бойцы. Подошелъ къ кровати Лямина. Растолкалъ его. Ляминъ повозилъ головой по подушкѣ, разлѣпилъ глаза. Спрыгнулъ съ койки, какъ и не спалъ.
— Вставай, рыжій.
— Случилось что? А? Товарищъ командиръ?
— Тихо, — прижалъ палецъ къ губамъ Матвѣевъ. — Идемъ-ка… поможешь мнѣ.
Ляминъ, больше не спрашивая ничего, втискивалъ ноги въ сапоги.
Потомъ схватилъ разложенныя подъ койкой портянки, растерянно мялъ въ рукахъ.
— Я безъ портянокъ. Мы въ домѣ остаемся?
— Въ домѣ. Портянки брось.
Шли по дому; половицы скрипѣли. Морозные узоры радостно затягивали бѣлой парчой окна, ночью морозъ густѣлъ и лился бѣлымъ обжигающимъ, пьянымъ медомъ. Лѣстницы качались, какъ трапы на кораблѣ; ночь мѣняла все, и предметы и тѣни, и Матвѣевъ выше поднималъ фонарь, свѣтъ качался и елозилъ по ступенямъ, и Матвѣевъ Лямину ворчливо говорилъ:
— Гляди, спросонья не упади.
Михаилъ усмѣхался, плотно ставилъ на ступень ногу въ нечищеномъ сапогѣ.
— Не упаду, товарищъ командиръ.
Онъ не спрашивалъ, куда въ домѣ они направлялись. Лишь когда дрогнула передъ ними старая дверь и они вошли въ кладовую — понялъ.
Командиръ выше поднялъ фонарь. Ихъ тѣни вырастали въ чудовищъ, пугали ихъ самихъ. Метались по стѣнамъ. Тусклый фитиль дрожалъ, истекалъ краснымъ пламенемъ. Связка ключей въ кулакѣ Матвѣева брякала и звенѣла; Ляминъ косился — сколько же тутъ ключей? Не сочтешь.
— Мы зачѣмъ сюда явились? А, товарищъ командиръ?
— Тш-ш-ш-ш. Вещи поглядѣть.
— Царскія вещи?
— А то чьи же. Самъ видишь, не солдатскіе мѣшки.
Ключи въ рукѣ Матвѣева были не отъ дверей: отъ чемодановъ и сундуковъ.
Матвѣевъ наклонялся, подбиралъ ключъ, возилъ и вертѣлъ имъ въ замкѣ, и чемоданъ открывался внезапно и радостно, будто давно ждалъ этого момента. А сколько ихъ тутъ было, этихъ сундуковъ, бауловъ, англійскихъ чемодановъ, нѣмецкихъ плотныхъ, туго набитыхъ добромъ саковъ!
Открывали; смотрѣли.
— Э-хе-хе, понятненькое дѣльце.
— Что — понятно, товарищъ командиръ?
— Да по всему видать, собирались второпяхъ. Вотъ, гляди! Это-то зачѣмъ имъ тутъ?
Распахнулъ чемоданъ съ серебристыми длинными застежками; онъ былъ подъ завязку набитъ стеками.
— Эхъ ты! А это что за палки такія? И много!
— Это — дурень… лошадей понукать. Господскихъ. Ихъ такими палками лупятъ: дрессируютъ.
Михаилъ присѣлъ на корточки и съ любопытствомъ пощупалъ стеки: одинъ, другой.
— Жесткіе.
— Кони терпятъ.
Открыли другой чемоданъ. Матвѣевъ ближе поднесъ фонарь.
— Ухъ ты!
— Что ты такъ орешь-то, боецъ Ляминъ.
— Виноватъ, товарищъ командиръ.
— Да весело мнѣ стало! Разсмѣшилъ!
— Мнѣ самому весело.
Оба наклонились надъ чемоданомъ и оба, вразъ, протянули руки къ нему. И стали рыться въ немъ, и улыбаться, и смѣяться; Матвѣевъ поставилъ фонарь на полъ, и въ темнотѣ они копались въ роскошномъ, вѣрно, заграничномъ, кружевномъ дамскомъ бѣльѣ, а оно пахло такъ нѣжно, такъ пьяняще, что у нихъ занималось дыханье и щекотало подъ ложечкой.
— Экая красота! Можетъ, сопремъ?
— Ну…
Въ темнотѣ Михаилъ залился краской.
«Авось командиръ не видитъ. Я какъ дѣвица».
— Ты — своей бабѣ сопрешь! Подаришь!
Ляминъ сжалъ зубы.
— Пашка безъ этого добра обходилась. И обходится.
Матвѣевъ рѣзко опустил крышку и чуть не прищемилъ пальцы Лямину.
— Дальше давай!
Фонарь качался въ рукѣ командира, выхватывалъ изъ мрака новые сундуки. Кованыя крышки поблескивали мѣдными набойками, рѣзьбой краснаго дерева. Матвѣевъ ковырялъ ключомъ замокъ. Крышка сундука подалась.
— Господи помилуй…
Господь и правда долженъ былъ всѣхъ и сразу помиловать: въ сундукѣ лежали и спали иконы.
Другъ на другѣ, дровами въ полѣнницѣ, штабелями. Во тьмѣ замерцали лики, покатились въ лица бойцу и командиру нимбы, кресты и стрѣлы, красныя полосы вспыхивали на золотѣ, грозовыя тучи прорѣзала полоска слѣпящей синевы, чистой лазури. Ангелы пили изъ чаши. Святитель Николай держалъ на рукѣ бѣлокаменный градъ, похожій на сверкающую хрустальную друзу. Марія шла по облакамъ, глаза Ея рыдали, а ротъ улыбался, она прижимала къ груди Младенца, что потомъ тщетно будетъ кричать людямъ: любите! любите! Не убивайте! А люди сдѣлаютъ видъ, что слышатъ, а на дѣлѣ — не услышатъ Его.
— Товарищъ командиръ… святыя иконы тутъ… давайте закроемъ.
— Ты правъ.
Матвѣевъ закрылъ крышку сундука, опустилъ фонарь — и такъ застылъ: думалъ.
Ляминъ не мѣшалъ ему.
Оглядѣлся. Всюду коробы, чемоданы, сундуки.
— Много же у царей барахла!
— Да ты пойми, они жъ не все сюда привезли. Это — капля въ морѣ.
Маленькій ключъ открылъ большой сундукъ. Матвѣевъ почему-то затрясся, открывая его; ему показалось — вотъ тутъ и можетъ таиться важное, удивительное. Приподнялъ крышку.
Сундукъ хранилъ великое множество дѣтскихъ сапожекъ — малюсенькихъ, совсѣмъ крошечныхъ, побольше, еще больше; это все обувалъ, судя по всему, цесаревичъ. И матери трудно, невозможно было все это выбросить: въ этой дѣтской обуви была вся ея жизнь — вся надежда, радость, всѣ слезы и молитвы, всѣ поцѣлуи и благословенья.
— Зачѣмъ хранятъ?
— А Богъ ихъ знаетъ.
— Выбросили бы.
— Жалко, должно-быть.
— Съ собой возить…
— Такъ вѣдь поѣздъ везетъ. И лошадка везетъ. Чего жъ не прихватить.
Ляминъ видѣлъ — Матвѣевъ что-то ищетъ, волнуется, нюхаетъ, какъ легавая, спертый воздухъ, пропитанный ароматомъ царицыныхъ духовъ.
— Товарищъ командиръ!
— Да?
— А что мы ищемъ-то?
— Я самъ не знаю. Честно. Но если найдемъ — честь намъ будетъ и хвала, боецъ Ляминъ.
И тогда Ляминъ замолкъ. И медленно, осторожно передвигался во тьмѣ подъ краснымъ фонаремъ въ рукѣ краснаго командира.
И вотъ набрели они на громадный чемоданъ, обтянутый коричневой, цвѣта шоколада, кожей. На крышкѣ тускло свѣтилась позолота: монограмма царя. Матвѣевъ подобралъ ключъ. Онъ нашелся быстро. Крышка затрещала, отходя. Раскрыли. Глядѣли.
— О-е-е-ей, тетрадки… школьныя, что ль?
— Самъ ты школьный.
Матвѣевъ поставилъ фонарь на сосѣдній сундукъ. Свѣтъ падалъ косо на вскрытое кожаное брюхо. Черныя кожаныя тетради. Черные солдаты дворцовой жизни; жизни одинокой; жизни семейной; жизни счастливой; жизни великой, а можетъ, невеликой и смѣшной. Но это — жизнь царя. Матвѣевъ листалъ тетради, наспѣхъ читалъ, еле разбиралъ строчки въ тускломъ красномъ свѣтѣ, и ему становилось ясно: это — царскій дневникъ.
Все, все царь заносилъ сюда, въ эти тетради; всѣ дурацкія мелочи, всѣ грандіозныя потрясенья.
— Что это?
Ляминъ замеръ. Матвѣевъ читалъ.
— Это? — На лбу Матвѣева собралось множество складокъ, онѣ сходились и расходились, какъ баянные мѣха. — Это дневникъ гражданина Романова.
— Дневникъ? Ишь ты! Это господа… каждый день ведутъ?
— Да, боецъ Ляминъ. Каждый Божій день.
Матвѣевъ читалъ, и его лицо, мѣняясь и плывя разнообразными тѣнями и впадинами, говорило Лямину о томъ, что онъ нашелъ то, за чѣмъ сюда пришелъ.
— Важное что-то пишетъ?
— Да. Что пишутъ цари — все важно.
— Да прямо ужъ?
— Не представляешь какъ.
Клалъ одну тетрадь, бралъ другую. Листалъ.
— Товарищъ командиръ, — Ляминъ понижалъ голосъ, — и вы почеркъ разбираете?
— Не мѣшай.
Читалъ заинтересованно. Иной разъ ухмылялся. Хмыкалъ.
Ляминъ начиналъ скучать.
— Что, забавно такъ пишетъ?
— Да ну его. — Матвѣевъ кинулъ тетрадь въ чемоданъ. — Чепуху всякую. Въ чепухѣ живутъ, я скажу тебѣ, въ чепухѣ!
— Такъ… — Ляминъ кивнулъ на чемоданъ, — сжечь къ едренѣ матери!
— Ты не понимаешь. Цѣлый возъ этихъ каракулей. Онъ же все пишетъ, что видитъ. Какъ башкиринъ: ѣдетъ по степи и поетъ, что видитъ. Но увидѣть онъ можетъ много и такого, что… свѣтъ прольетъ…
— Прольетъ такъ прольетъ. Мы что, унесемъ съ собою отсюда чемоданище этотъ?
— Нѣтъ, боецъ Ляминъ. Пусть стоитъ. Унести — это кража. Все равно… — Онъ помолчалъ. — Все равно намъ все достанется.
— Все… равно?
Лямину некогда было думать. Матвѣевъ подхватилъ фонарь, и они оба такъ же тихо вышли изъ кладовой, какъ и вошли туда.
***
Они курили оба, то-и-дѣло сплевывая на снѣгъ. Пашка щурилась на свѣтъ высокаго уличнаго фонаря. Небо синѣло быстро и обреченно, и молчащія звѣзды вдругъ начинали безпорядочно и громко звенѣть; и только потомъ, когда звонъ утихалъ, оба понимали — это проскакала по улицѣ тройка съ валдайскими бубенцами.
— Не холодно?
Пашка передернула плечами подъ шинелью.
Смолчала.
Ляминъ искурилъ папиросу до огрызка, лѣпящагося къ губамъ, къ зубамъ; щелкнулъ по окурку пальцами, отдирая отъ губы.
— Ну, все. Пошли въ тепло.
И тутъ Пашка помотала головой, какъ корова въ стойлѣ.
— Нѣтъ. Не хочу туда. Тамъ… гулъ, гомонъ… Устала я.
Михаилъ глядѣлъ на нее, и жаръ опахивалъ его изнутри.
— Но ты же спишь одна. Тебѣ жъ комнату выдѣлили.
— Да комнату! — Она плюнула себѣ подъ сапоги. — Чорта ли лысаго мнѣ въ той каморкѣ!
— Я жъ къ тебѣ, — сглотнулъ, — туда прихожу…
И тутъ она неожиданно мягко, будто лиса хвостомъ снѣгъ мела, выдохнула:
— Присядемъ? Давай?
И мотнула головой на скамейку близъ кухоннаго окна.
Окно не горѣло желтымъ свѣтомъ въ синей ночи: еще вечерній чай не кипятили.
— А зады не отморозимъ?
Она хохотнула сухо, коротко.
— А боишься?
Сѣли. Лавчонка слегка качалась подъ ихъ тяжестью.
— Лѣтомъ надо-бы переставить.
Михаилъ похлопалъ по обледенѣлой доскѣ.
— А мы тутъ до лѣта доживемъ?
— Мишка, — голосъ ея былъ такъ же ласковъ, лисій, теплый, — Мишка, а я тебѣ разсказывала когда, какъ я — у Ленина въ гостяхъ была?
Онъ смотрѣлъ мигъ, другой оторопѣло, потомъ тихо разсмѣялся.
— У Ленина? Въ гостяхъ?
— Ну да.
— Нѣтъ. Не говорила.
— А хочешь, разскажу?
Онъ поглядѣлъ на нее, и его глаза ей сказали: могла бы и не спрашивать.
Она ногтемъ ковыряла ледъ въ древесной трещинѣ. Потомъ подула на руку, согрѣвая ее.
— Я тогда въ женскомъ батальонѣ была. Всю войну прошла съ мужиками, съ солдатней, а напослѣдокъ, не знаю чего ради, меня къ бабамъ шатнуло. Такъ получилось. Сама набрела я на этотъ батальонъ. Красная Гвардія въ Петроградѣ все заняла… все у нихъ… у насъ… было подъ присмотромъ. Вокзалы охраняли, поѣзда досматривали… А я только-что съ фронта. Озираюсь на вокзалѣ. Думаю: какого бы ваньку остановить! Ни одного извозчика, какъ назло… И тутъ…
Ляминъ протянулъ ей папиросу. Его колыхало, но не отъ холода.
Онъ просто такъ не могъ долго рядомъ съ ней сидѣть. Вотъ такъ, спокойно.
Она стиснула папиросу зубами; онъ добылъ изъ кармана зажигалку, крутанулъ колесико. Пашка прикуривала медленно, долго.
— И гдѣ зажигалку скралъ? — кивнула на позолоченную коробочку въ Мишкиныхъ пальцахъ.
— Не твое дѣло.
— У царя?
— А хоть бы. Ты дальше… давай.
Пашка сначала покурила, позатягивалась всласть.
— И вотъ, гляжу, ванька ѣдетъ! Я руку взбросила! — остановить. Онъ: тпрру-у-у-у! — а тутъ меня подъ локоточки-то и — цопъ! Комиссаръ, по всему видать. Рядомъ съ нимъ солдатъ, съ шашкой на боку и съ пистолетомъ въ рукѣ. Меня комиссаръ полностью повеличалъ: госпожа Бочарова Прасковья Дмитревна? Я, говорю. Смѣюсь: только вѣдь я не госпожа. А онъ мнѣ такъ вѣжливо: пройдемте со мной. Я хохочу: куда это вы меня тащите? Ужъ не въ бордель ли? Теперь онъ хохочетъ. И такъ мнѣ рубитъ: у меня, молъ, приказъ, васъ задержать. Кого-то вы, брешетъ, шибко интересуете. Я плечами пожала, комиссаръ ванькѣ пальцами щелкнулъ, мы взобрались въ пролетку… и…
Пока курила, молчала. И Михаилъ не встревалъ.
— Ѣдемъ. По всему вижу — правимъ въ Смольный. Я уже знала: тамъ большевики сидятъ. Да я-то вѣдь не большевичка никакая… еще была. Просто сама по себѣ, вояка; а комиссаръ этотъ, думаю, можетъ, обознался, меня за кого другого принялъ. Слазимъ. Къ дверямъ идемъ. Вездѣ вооруженная охрана. Думаю: ну точно, меня сейчасъ къ стѣнкѣ. — Опять хохотнула сухо. — Матросъ ко мнѣ подошелъ. Сдавай, говоритъ, оружіе! Я ему: не сдамъ, мнѣ положено. Онъ оретъ: сдай саблю и револьверъ! Я ему: хочешь, силой бери, но такъ просто я тебѣ оружіе не сдамъ. Мнѣ его вручили… при освященіи полкового знамени! Ну куда жъ бабѣ противъ мужика здоровеннаго… сорвалъ онъ съ меня саблю, револьверъ сорвалъ съ ремня… Меня — взашей — толкаютъ, и я иду, и въ подвалъ спускаютъ, затхлый, крысы тамъ. И ни крохи хлѣба. Я ору… сапогомъ въ стѣну стучу… а толку что…
Еще покурила.
«Вѣчная у нея эта папироса, что ли…»
— Крысы мимо меня сновали. Туда-сюда. Я орала и на нихъ. И сапогомъ прибить пыталась. Утромъ затрещала дверь. Я кричу: оружіе верните, сволочи! А мнѣ говорятъ спокойно такъ: тише, что бушуешь, тебя прямикомъ къ Ленину ведемъ.
При этихъ словахъ Пашка взглянула на Лямина — словно двѣ дыры у него въ лицѣ зрачками прожгла.
— Я какъ захохочу: къ Ленину?! Меня — бабу простую?! Ты не простая баба, они мнѣ говорятъ, ты офицеръ, это, значитъ, они у меня Георгія на груди увидали и все вычислили, кто я, что я. Я взяла себя въ руки. Не хватало, думаю, передъ швалью разнюниться! Такъ по лѣстницамъ пошли. Впереди меня стража, и позади стража. А я посрединѣ, иду и думаю: хорошо, что Георгія не сдернули! Дверь хлопнула, мы всѣ вошли, и я гляжу… а за столомъ…
— Кто?
— Ленинъ.
— Врешь! — вырвалось у Михаила.
Пашка презрительно глянула.
— Эхъ ты рыжикъ, рыжикъ… — Давно она такъ не называла его. — Да вѣдь если бъ я врала — недорого бы взяла! А я за это вранье… жизнью заплатила… и еще заплачу… Сидятъ. У одного русская морда, у другого — жидовская. И вотъ сперва одинъ встаетъ, это лысый, Ленинъ, значитъ, и первымъ ко мнѣ подходитъ. Какъ къ попу, ей-Богу! Къ ручкѣ! Да руку не цѣлуетъ… а жметъ… крѣпко такъ, крѣпко… какъ мужику. — Опять папироса во рту ея дымила. Она взяла ее двумя пальцами осторожно, какъ стрекозу за брюхо. — А потомъ и второй подымается. И ко мнѣ движется. А я не знаю, кто это. На всякій случай ему руку жму. Такъ пожала, что онъ — охнулъ и скривился.
Опять этотъ хохотокъ, рѣзкій, короткій. Ляминъ сжалъ колѣни, стиснулъ ихъ. И зубы стиснулъ.
«И не остаться тутъ однимъ… и зима, холодрыга… и лови ее, лису, за хвостъ…»
— Лысый, ну, Ленинъ, значитъ, передо мной повинился. Молъ, мы васъ… такъ и такъ… зря въ казематъ-то засовали! Мы васъ арестовали, а вы герой. На «вы» меня… да такъ обходительно… ну, думаю, Пашка ты ледяшка, тебѣ бы только не растаять въ этомъ горячемъ сиропѣ, въ вареньѣ этомъ…
Съ изумленьемъ поглядѣла на окурокъ у себя въ округленныхъ пальцахъ. Бросила въ снѣгъ, подъ лавку, руку въ кулакъ сжала.
— Вы, говоритъ, отважная такая! Вонъ Георгія получили. Намъ такіе люди, какъ вы, ну, нашей молодой Совѣтской странѣ, ой какъ нужны! Нужнѣе нужнаго. Мы, говоритъ, за что боремся-то? За счастье всѣхъ трудящихся массъ. За хорошую жизнь рабочихъ, крестьянъ и всей бѣдноты! Всѣхъ, кого царизмъ — мордой въ грязь, и подъ задъ пиналъ! А мы ихъ — превознесемъ! Вѣдь они лучшіе люди міра! И все такое. Складно говоритъ. Лысинка… — Хохотнула. — Блеститъ…
Мишка пошевелился на лавкѣ. Задъ и правда мерзъ. Пальцы въ сапогахъ смерзлись и слиплись кускомъ льда.
«А ей хоть бы что. Горячая…»
— Гладкая рѣчь! Красота одна! Ни къ чему не придраться. Я — слушаю. Счастье простыхъ людей, думаю, счастье всѣхъ! Всѣхъ поголовно! На всей землѣ! Да развѣ такое возможно! Ленинъ ко мнѣ ближе подкатился, я на его лысину сверху внизъ смотрю, я выше его ростомъ, а онъ передо мной прыгаетъ, такой колобокъ, ужасно картавитъ, и спрашиваетъ меня прямо въ лобъ: «Вотъ язвѣ вы, Пьясковья Дмитьевна, язвѣ вы не тьюдовой наёдъ? Вы же сами — тьюдовой наёдъ!»
Ляминъ засмѣялся: такъ похоже она передразнила говоръ Ленина.
— Глядитъ на меня снизу вверхъ, я не него — сверху внизъ, и спрашиваетъ меня, а глаза какъ буравчики: «Вотъ вы хотите — съ нами сотьюдничать? Намъ съ вами вѣдь по дойогѣ! Вы — кьестьянка, вы бѣднячка, понимаете, что значитъ жить тьюдно!» А я возьми и брякни: «А когда жить-то легко было?» И тутъ… расхохотался этотъ, жидокъ… Будто забили въ старый барабанъ… такъ гулко, глухо… будто бы и не смѣялся, а на снѣгу — коверъ выбивалъ…
Понюхала пахнущую табакомъ ладонь.
Ночь уже лила чернильную, густую холодную патоку на крыши, трубы, фонари.
— И что ты думаешь, сказала я имъ?
Мишка молчалъ. Потомъ выцѣдилъ, и зубъ на зубъ у него не попадалъ:
— Ничего я не думаю.
— А зря. Думать — надо. — Она закрыла табачной ладонью глаза и такъ посидѣла немного. Когда опять глядѣла на міръ, въ ночь, глаза ея сіяли ясно, какъ послѣ причастія. — Я имъ рублю сплеча: вы Россію не къ счастью ведете, а на плаху. Голову отсѣчете Россіи. Еврей встаетъ и ручонками начинаетъ махать. Говоритъ и слюной брызгаетъ. Народъ, кричитъ, за насъ, и армія за насъ! Съ нами! Я имъ: съ вами — это значитъ всѣхъ солдатъ съ фронта забрать? Извольте сначала миръ подписать, а потомъ солдатъ съ фронтовъ — забирайте! А то не по-людски какъ-то это все! И я сама сейчасъ же, послѣ нашей съ вами встрѣчи, на фронтъ отправлюсь… если вы не разстрѣляете меня! Они мнѣ: какъ это мы васъ разстрѣляемъ?! Я имъ: да очень просто! Въ спину! Когда изъ дверей выйду!
Ляминъ, весь дрожа, попытался закрыть ей ротъ ладонью.
— Тише, тише…
— Что ты мнѣ тишкаешь! — Оттолкнула его, вся красная на морозѣ, какъ вареная свекла. — Боишься?! А я вотъ никого не боюсь. Поперемѣшалось нынче все! И въ головахъ у людей — каша! Да я — если бъ по-иному хотѣла, никогда бы сюда не поѣхала съ твоимъ Подосокоремъ!
— Съ твоимъ…
— Ну, съ моимъ! Какая разница! Я стою напротивъ нихъ. Стою, а крикъ самъ изъ меня рвется! И я такъ кричу имъ: вы тутъ сидите, и не знаете, что такое война! А я — знаю! Непріятель отрѣжетъ отъ нашей Россіи полъ-Россіи, если его допустить къ нашей землѣ! Люди смерть принимаютъ, чтобы этого ужаса не случилось! Чтобы страна наша жива осталась! А вы, вы-то что хотите изъ нея слѣпить?!
Пашка орала уже такъ, что управлять этимъ крикомъ невозможно было. Въ окнѣ кухни зажегся свѣтъ. Отодвинулась штора. Оттуда, съ кухни, испуганно глядѣли: кто это такъ разбушевался, кто такъ дергается и хрипитъ, сидя на шаткой лавкѣ?
— Пашка… уймись…
— На черта! — Ротъ ея перекосился. — Я — правду говорю!
— Ты пьяная, что ли?
— Они мнѣ кричатъ: солдаты не хотятъ больше воевать! Ни нѣмцы! Ни русскіе! Никто! И я надсаживаюсь: вы не знаете войны! Не знаете ея законовъ! Не знаете, что такое побѣда, вы же никогда не воевали! И не знаете, что значитъ сохранить и уберечь то, что завоевали! Ни черта вы не…
Ляминъ больше не могъ терпѣть. Онъ нагнулъ голову, какъ быкъ, и заткнулъ Пашкѣ орущій ротъ длиннымъ, мучительнымъ поцѣлуемъ. У него было чувство, что онъ цѣлуетъ зѣвло горящей печи.
Они, нацѣловавшись, отпрянули другъ отъ друга. Пашка, вразъ утихшая, заправила волосы подъ папаху, папаха вдругъ поползла набокъ и свалилась въ снѣгъ. Мишка доставалъ ее изъ сугроба, отряхивалъ рукавомъ, смѣялся, и Пашка смѣялась.
— И ты знаешь? — насмѣявшись, спросила она. — Выслушали они меня — и, вотъ какъ мы съ тобой сію минуту, расхохотались! Хохочутъ, и я понимаю, надъ чѣмъ, надъ кѣмъ. Надо мной. Они грамотные, а я темная. Они въ Европахъ учились, а я — въ Ужурѣ за вымя коровъ дергала! Задаю вопросъ: я могу итти? Они смѣются: можете! Верните мнѣ тогда оружіе, говорю! Оно мнѣ памятное! Оно — золотомъ изукрашено! А они все сильнѣй смѣются. Вернемъ, говорятъ сквозь смѣхъ, вернемъ, вы только не шумите, вернемъ обязательно, только знаете когда?.. когда въ странѣ порядокъ воцарится вездѣ и всюду, когда красные побѣдятъ, и вездѣ Совѣтская власть установится, во всѣхъ городахъ и селахъ… вотъ тогда — пожалуйста, вернемъ! Вернемъ съ нашимъ удовольствіемъ! И опять ржутъ… кони…
— И что — ты?
Изъ кухни на нихъ глядѣли изъ-за занавѣси, но ему было уже все равно.
Онъ обнималъ ее и притискивалъ къ себѣ — горячо, властно.
— Я-то? А ничего. Развернулась къ двери и — ать-два. Вышла вонъ. Строевымъ шагомъ.
— И даже… ни до свиданья, ни прощайте? Ничего?
— Ничего. А зачѣмъ прощаться?
— И то вѣрно. Можетъ, съ Ленинымъ и встрѣтимся когда?
— Можетъ.
Сама вдругъ къ нему взяла да прижалась. Сама руку за шею крѣпкую, бычью — закинула.
— Тогда — что ему скажешь?
Положила голову ему на плечо, закинула лицо вверхъ, выгнула шею.
— А песъ знаетъ, что ему скажу. Что — за лучшую жизнь бьемся. За счастье!
— Это… вѣрно…
Опять цѣловались. И смѣялись опять.
И снова папаха Пашкина падала въ снѣгъ.
И снова они ее ловили.
***
Лямину сказалъ Мерзляковъ: сегодня прибудетъ чрезвычайный уполномоченный изъ Москвы.
— Комиссаръ Яковлевъ, поглядимъ на него!
— Поглядимъ. А что глядѣть? Мало мы комиссаровъ видали?
Мерзляковъ похрустѣлъ черной кожей куртки, поднявъ широкія плечи и подергавъ ими.
— Да мы сами можемъ ими стать.
— Можемъ, кто споритъ.
…въ это самое время Николай печально говорилъ Аликсъ:
— Солнышко, дѣти узнали, что придетъ уполномоченный изъ Москвы, и сожгли въ печкѣ всѣ письма. И, знаешь…
Умолкъ. Царица нѣжно провела рукой по его волосамъ. Онъ опустилъ голову, будто самъ нашкодилъ и нечѣмъ оправдаться.
— Что?
— Машка и Настя… сожгли свои дневники…
Изъ глазъ Аликсъ быстро выкатились двѣ слезы и растаяли подъ кружевнымъ воротникомъ. Она оправила строгое сѣрое платье.
— Жаль, — только и сказала она.
— Мнѣ самому жаль.
…а въ это самое время полковникъ Кобылинскій велъ вновь прибывшаго комиссара Яковлева въ Домъ Свободы, и, подходя къ дому, они видѣли — окна распахнуты въ холодъ, вѣтеръ и синь.
Вошли. Ляминъ пошелъ имъ навстрѣчу.
— Боецъ Ляминъ, охрана гражданина Романова!
Яковлевъ, сдвинувъ папаху на затылокъ, разсматривалъ Михаила.
«Хорошо глядитъ. По-доброму. Бреетъ рожу, какъ и я же».
— Комиссаръ Василій Яковлевъ, чрезвычайный уполномоченный ВЦИК!
— Слушаю васъ, товарищъ комиссаръ!
— Доложи обо мнѣ… — Запнулся.
«Хотѣлъ сказать: его величеству. Ну не забылъ же, какъ царя зовутъ!»
— Есть доложить!
Ляминъ четкимъ шагомъ направился въ комнаты царей. Прямо передъ дверью ему навстрѣчу метнулось бѣлое, метельное, нѣжное, лилейное. Марія.
— Вы къ папа́?
«Сама заговорила. Первой».
Лямину и доложить надо было, и случай такой представился — съ ней перемолвиться парой словъ.
«Такъ это рѣдко. Надо что-то сказать. Что-то… хорошее… все равно…»
— Маша, — голосъ его осипъ, какъ послѣ болѣзни. — Я вамъ… я васъ… ваше…
Забылъ всѣ слова; и мысли; и чувства.
Осталось только оно, это свѣтлое, свѣтящееся лицо, мотающееся передъ нимъ въ туманной утренней дымкѣ.
— Что, что?
«Она что-то сказала? Почему я ничего не слышу?»
Душный красный жаръ обволокъ щеки, подкатилъ колесомъ къ сердцу.
— Маша, вы меня простите… неученый я.
Она стояла слишкомъ близко.
«Такъ не бываетъ».
Кто-то другой за него, не онъ, жалко поднялъ руку и взялъ ее за руку. Сначала робко, потомъ крѣпко.
«Она не отнимаетъ руки!»
Стояли, взявшись за руки. Изъ пальцевъ въ пальцы странно, медленно и сильно, перетекали тепло и жизнь.
Ляминъ, совсѣмъ ополоумѣвъ, положилъ другую руку ей на руку.
Чувствовалъ, какъ мирно, тихимъ звѣрькомъ лежитъ ея рука въ его рукахъ.
«Такое чудо больше не повторится. Полонъ домъ народу, внизу комиссары стоятъ, ждутъ, а я — великую княжну за руку держу!»
Внутри него медленно и неуклонно раскручивалась плотная, страшная пружина; будто кто-то съ натугой отворялъ тяжелую дверь, а за дверью ждало неясное, мерцающее счастье.
Тихо сходя съ ума, онъ шепнулъ:
— Маша… Вечеромъ приходите во дворъ, къ козламъ… ну, туда, гдѣ вашъ отецъ и вашъ братецъ бревна пилятъ… Придете?
Онъ не понималъ, что свиданіе назначаетъ ей.
Зато она — понимала.
Тоже густо, страшно покраснѣла. И все не отнимала руки.
Снизу поднималась, какъ опара, мѣшанина людскихъ голосовъ и табачный дымъ.
— Приду.
И все, и онъ сошелъ съ ума, и самъ выдернулъ руку, и рванулъ на себя дверь, и грубо крикнулъ въ темную, пугающую глубину ихъ царскаго, нищаго жилья:
— Гражданинъ Романовъ! Васъ съ супругой уполномоченный изъ Москвы требуетъ!
…Онъ вышелъ въ залъ, вчерашній царь, а бывшая царица еще одѣвалась, на ней еще затягивали корсетъ и втискивали ей ноги въ разношенные англійскіе башмаки, а дѣвица Демидова успѣла зажечь въ залѣ всѣ свѣчи — въ шандалахъ, въ узкихъ подсвѣчникахъ, хотя надъ затылками горѣлъ этотъ модный электрическій свѣтъ, далекій и злобный, какъ глазъ медвѣдя-шатуна.
— Здравія желаю, господинъ… товарищъ уполномоченный. Ваше имя-отчество?
— Василій Яковлевъ… — и, помедливъ немного: — Ваше величество.
Николай вздрогнулъ. Вздрогнуло въ немъ все — волосы, пальцы, сердце подъ ребрами, подъ чисто выстиранной гимнастеркой.
Глазами онъ сказалъ московскому комиссару: спасибо! — и комиссаръ глазами отвѣтилъ: вамъ спасибо, ваше величество.
И разговоръ пошелъ свободно, тепло; они поняли другъ друга.
Ляминъ, вытянувшись по стойкѣ смирно, стоялъ у дверей. Полковникъ Кобылинскій и красноармейцы сгрудились у открытаго въ холодную синюю весну окна, смѣялись непонятно и невнятно, будто около ихъ лицъ вспыхивали блуждающіе болотные огни.
Царь смотрѣлъ на гладко выбритое лицо Яковлева. Яковлевъ смотрѣлъ на бородатое, со впалыми страдальческими щеками, лицо царя.
— Ваше величество, довольны ли вы охраной и домомъ?
Николай глядѣлъ на его смущенную улыбку.
— Я счастливъ, что я живу въ Домѣ Свободы.
Яковлевъ оцѣнилъ царскую шутку. И смутился еще больше.
— Какъ себя чувствуетъ… вашъ сынокъ?
И опять вздрогнулъ Николай. Это ласковое, такое простое «сынокъ» рѣзануло его по сердцу не хуже казацкой шашки.
— Благодарю, товарищъ Яковлевъ. Сейчасъ — лучше.
— Вы меня простите…
«Он говоритъ царю — простите!»
Ляминъ чиркалъ по бритому лицу Яковлева любопытными глазами.
— Можетъ-быть, я лѣзу не въ свою епархію… Но… Какъ вы лѣчите наслѣдника? Хороши ли доктора? И, главное, можетъ ли сейчасъ вашъ сынокъ перенести тяготы пути?
Царь опять вздрогнулъ и выпрямился не хуже Лямина.
— Какого пути?
— Вполнѣ возможно, вамъ придется помѣнять мѣсто жительства.
— Это какъ?
— Переѣхать въ другой городъ.
— Въ какой же?
Пропѣла дверь, и въ залъ вошла Александра.
Она надѣла для встрѣчи московскаго гостя темносинее, цвѣта моря въ грозу, платье. Бѣлый воротникъ мерцалъ куржакомъ на морозѣ. Царица глядѣла строго, прямо и печально, руки ея жили отдѣльно отъ нея — она мяла ихъ передъ грудью, распухшіе пальцы, въ венах и узлахъ, чуть подергивались.
— Здравствуйте!
Яковлевъ взялъ руку Аликсъ и легко прикоснулся къ ней губами.
И она вздрогнула, какъ и мужъ.
— Здравствуйте, ваше… величество.
Какъ быстро глаза могутъ наполняться слезами!
«Какъ мало надо человѣку для радости…»
— Могу ли я увидать вашего сыночка?
Аликсъ отерла ладонью мокрую щеку.
— Разумѣется. Идемте.
Царица пошла впереди, Яковлевъ сзади. Царь провожалъ ихъ глазами.
Ляминъ, въ открытую дверь, видѣлъ, какъ комиссаръ и царица зашли въ спальню цесаревича. Оттуда раздался звонкій голосъ мальчика: «Нѣтъ, нѣтъ, я уже совсѣмъ здоровъ!»
Вышли, и шли мимо Михаила, и Яковлевъ, хватая себя рукой за гладкое бритое лицо, хмурился и говорилъ:
— Да нѣтъ, нѣтъ, конечно, ваше величество, онъ ѣхать теперь не можетъ. Да, я вижу, все серьезно. Я сдѣлаю выводы. Конечно, мы не будемъ никого трогать съ мѣста. Подождемъ. Обстановка такова, что… города передаются изъ рукъ въ руки, вы сами понимаете… И неизвѣстно, что станется съ Тобольскомъ завтра.
Царица шагала рядомъ съ Яковлевымъ мелкими, но твердыми, почти военными шагами. Старыя англійскія туфли жали ей въ щиколоткахъ. Ея ноги по утрамъ опухали. Докторъ Боткинъ велѣлъ ей заваривать и пить хвощъ, и она исправно заваривала и пила — передъ ѣдою — по маленькой мензурочкѣ.
— Ваше величество, можно, я осмотрю комнаты вашихъ дочерей?
На скулахъ Аликсъ игралъ, какъ въ болѣзни, яркій румянецъ.
— Пожалуйста.
Она остановилась около двери, пріоткрыла ее и звонко, какъ молодая, крикнула въ комнату:
— Маша! Оля! Встрѣчайте гостей!
И Яковлевъ всталъ у царицы за плечомъ, и улыбнулся выходящимъ въ коридоръ великимъ княжнамъ, и громко воскликнулъ:
— Извините за безпокойство! Осмотрю комнаты!
Ольга пожала плечами. Ея молчащее лицо говорило: мнѣ все равно.
Марія, лукаво улыбнувшись, сдѣлала комиссару книксенъ.
…Пронаблюдавъ комнаты княжонъ, Яковлевъ снова зашелъ къ цесаревичу. Мальчикъ сидѣлъ въ подушкахъ. Онъ самъ съ собою игралъ въ шахматы.
— И кто выигрываетъ, ваше высочество? — спросилъ Яковлевъ весело.
Мальчикъ обернулъ къ комиссару серьезное лицо.
— Бѣлые, — тихо сказалъ онъ.
И тогда вздрогнулъ Яковлевъ.
Впервые за это синее апрѣльское утро.
***
Пашка и Ляминъ ѣхали верхомъ въ Тобольскій Совѣтъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ депутатовъ. Яковлевъ послалъ ихъ туда: надо было выписать очередную партію продуктовъ — деньги на это припасены были, — и разузнать про движеніе поѣздовъ отъ желѣзнодорожнаго вокзала въ Тюмени. Зачѣмъ Яковлеву было расписаніе движенія литерныхъ и товарняковъ — никто не зналъ, и они оба меньше всего.
Гнѣдой конь подъ Пашкой чуть гарцовалъ, будто бы вставалъ на пуанты, какъ изящная балеринка; конь подъ Ляминымъ шелъ жестко и мрачно, низко склонивъ большую длиннолобую вороную голову. Коней имъ все время мѣняли, они не успѣвали къ звѣрямъ привыкнуть.
— Представь, что мы съ тобой господа, и что мы съ тобой на верховой прогулкѣ. Гдѣ-нибудь въ англійскомъ паркѣ, — вдругъ тихо, вкрадчиво сказала Пашка. Вродѣ бы надъ холкой, надъ гривой коня вымолвила, вѣтру и снѣгу, — а онъ услышалъ.
— Представилъ…
— Это — жизнь. Люблю коня. Люблю верхомъ.
Пашка съ наслажденіемъ раздувала ноздри, въ нихъ втекалъ зимній вѣтеръ. Со стрѣхъ валились пуховыя снѣговыя подушки. Горнымъ хрусталемъ блестѣли на солнцѣ друзы сосулекъ подъ крышами — на солнечной сторонѣ.
— Да, любо.
— Казачью пѣсню знаешь? Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить?
— Кто жъ не знаетъ.
— И я — знаю. А я ее вспомнила… когда меня чуть не разстрѣляли.
— Кто?
— Свои, кто. Русскіе.
Кони качали головами. Ихъ выпуклые сливовые глаза, какъ лупы, ловили ясный солнечный лучъ. Гривы индивѣли.
— Гдѣ?
— На войнѣ, гдѣ.
— То-то ты тогда въ поѣздѣ такая злая ѣхала.
— Я? Злая?! Обозлѣешь тутъ со всѣми вами.
Крутила въ пальцахъ прядку конской гривы, иней таялъ. Снѣгъ чуть похрустывалъ подъ копытами. Пашка слегка подпрыгивала въ сѣдлѣ въ тактъ шагу коня.
— А ты будь доброй.
— Чушь какая! — Весело обернула къ нему красное на морозѣ лицо. Солнце путалось въ кудряхъ ея папахи. — Они тогда такъ тоже говорили, мои разстрѣльщики. Мы, брешутъ, добрые! Такіе добрые! Мы васъ будемъ казнить не просто такъ, а со слѣдственной комиссіей! И — съ главнокомандующимъ!
— За что они хотѣли… тебя?
Жмурился отъ солнца.
— За то, что я хотѣла защищать Россію отъ врага. Они такъ вопили! Я думала, оглохну. «Разстрѣлять ее! Разстрѣлять ее!» Какъ глотки только не надорвали. Со мной былъ тогда нашъ офицеръ Пироговъ. Онъ хотѣлъ меня спасти. Но не зналъ, какъ. Лепеталъ жалко: вотъ, у меня приказъ… за пазухой былъ… только я его потерялъ… но наизусть помню!.. чтобы Бочарову доставить въ штабъ и содержать тамъ… А знаешь, какъ я спаслась?
Кони шли тихо, ровно. Снѣгъ блестѣлъ разноцвѣтно: синимъ, зеленымъ, алымъ, — какъ стеклышки лампадъ въ праздничномъ храмѣ.
— Ни за что не угадаешь. Одинъ мужикъ изъ слѣдственной комиссіи глядѣлъ, глядѣлъ на меня. Буркалы выкатывалъ. Потомъ какъ вскочитъ, какъ заоретъ, и пальцемъ показываетъ: ты Пашка! Пашка! Ты Пашка! Откуда вы меня знаете, пожимаю плечами. Все оттуда, кричитъ! Съ войны этой вонючей! Ты жъ мнѣ жизнь спасла! Ты жъ меня — на своихъ плечахъ — вотъ на этомъ своемъ загривкѣ — съ поля боя — раненаго вытащила! Я тебя помню, помню, ты Пашка… Пашка, Пашка! И какъ обернется ко всѣмъ этимъ сучьимъ судьямъ, и какъ заблажитъ: нельзя ее стрѣлять! У нея Георгій — за сотни спасенныхъ жизней! А если зачнете стрѣлять, тогда меня — перваго! И встаетъ передъ всѣми, и гимнастерку на груди рветъ. Пуговицы мѣдныя — летятъ въ разныя стороны!
Кони шли себѣ и шли. Снѣжная улица смѣнялась другой, третьей. Времена смѣстились, и Ляминъ самъ выскакивалъ впередъ, передъ строемъ орущихъ: «Смерть ей!» — и самъ кричалъ: «Убейте меня сперва!»
— И что… дальше-то?
— А ничего. — Вдругъ сдѣлалась сухой, черствой коркой. Ссутулилась на конѣ. Вцѣпилась въ узду замерзшими, безъ голицъ, руками. — Меня обступили тѣ, кто не желалъ мнѣ смерти. Кричали судьямъ: мы уведемъ ее, нынче же! Имъ въ отвѣтъ орали: да идите, скатертью дорожка! И мы пошли… только отошли… слышу сзади приказъ: стрѣлять по колѣнямъ! И — выстрѣлы… И товарищи мои падаютъ, валятся… И ихъ топчутъ сапогами, колютъ штыками, глаза выкалываютъ… Тутъ, Мишка, я… разумъ потеряла…
Солнце, какъ назло, било и играло предвесенней, синей ясной радостью. Било лучами поперекъ бѣлой улицы, по хрусткому снѣгу, по хрустальнымъ пластинамъ сосулекъ.
Ляминъ слушалъ, боясь хоть слово упустить.
— Пришла въ себя… и стукъ колесъ. Въ поѣздѣ ѣду. Колеса грохочутъ. Пахнетъ чайной заваркой… и — до сихъ поръ помню — булкой… такой свѣжей булкой, сладкой, сдобной… думаю: откуда на войнѣ булки?.. я ужъ забыла ихъ вкусъ, запахъ… А въ ушахъ — тѣ дикіе крики, мольбы о пощадѣ… Я закричала сама… и смолкла… поѣздъ трясетъ… Оглядѣлась: купэ… и кружевныя занавѣски на окнѣ… Рядомъ со мной Пироговъ. И онъ… держитъ меня за руки… и плачетъ… все лицо мокрое…
«А ты съ тѣмъ Пироговымъ — часомъ, не переспала?..»
Хотѣлъ спросить, да постыдился. Самъ чуть не плакалъ. Кони подошли къ широкому, высокому каменному крыльцу съ рѣзными деревянными колоннами и встали.
— А я ему руки жму, да, чтобы утѣшить… развеселить ли… пою, такъ тихонечко, какъ во снѣ: любо, братцы, любо… любо, братцы, жить… А поѣздъ трясетъ, трясетъ…
На крыльцо вышелъ часовой, пристукнулъ прикладомъ о каменную плиту.
— Здравія желаю! Какъ прикажете доложить?
— Изъ Дома Свободы! За бумагами на пищу для царей! — звонко крикнула Пашка.
Плотно сидѣла въ сѣдлѣ, не слѣзала съ коня.
Первымъ спрыгнулъ Ляминъ.
***
…Задумка была проста, какъ лапоть.
Шая Голощекинъ позвалъ чекистовъ въ «Американскую гостиницу». Всѣ свои, и всѣмъ не надо долго объяснять. Темнымъ Екатеринбургомъ шли, будто дикими степями. Куревомъ запаслись вдосталь. Дымъ завивался подъ потолкомъ, какъ облака на старинныхъ японскихъ гравюрахъ. Въ большихъ блюдахъ на столѣ красовалась нарѣзанная семга. Водка въ запотѣлыхъ бутыляхъ блестѣла серебряно, только-что изъ погреба. Говоръ то усиливался и взмывалъ до крика, то падалъ, растекаясь по столу и по полу вкрадчивой поземкой. Послѣ молчанія опять поднимался галдежъ. Изъ-за стѣны слушать — такъ обычная гульба. Пьютъ, курятъ, окна настежь, хоть и морозъ. Въ хрустальныхъ пепельницахъ горы пепла. Хрустальные узоры на стеклахъ. Хрусталь вѣтокъ ломаетъ вѣтеръ. Они, крича и дымя, сейчасъ обсуждаютъ, какъ сломать старый міръ. Какъ разбить его фамильный хрусталь.
Старый міръ — это были они, семеро.
Два старѣющихъ человѣка, четыре дѣвушки и одинъ отрокъ.
Пава Хохряковъ, полосатая тѣльняшка, кудри вьются золотымъ дымомъ, глаза бѣшено-синіе, брови кустами; дѣвушки млѣютъ. Да вотъ она, дѣвушка, у него под мышкой. И куритъ вмѣстѣ со всѣми. И тоже въ тѣльняшкѣ — ему подражаетъ. Думали, шалава, оказалась невѣста. Такъ и представилъ: моя невѣста Танюша! Читалъ стихи, вѣрно, самъ сочинилъ, про нее: хороша была Танюша, краше не было въ селѣ… Глаза и зубы у Павы блестятъ жестоко. Самый злой на свѣтѣ большевикъ, говоритъ о немъ Шая и довольно щелкаетъ пальцами. Пава, въ ярости, однажды вывелъ изъ домовъ на улицу человѣкъ сто — и всѣхъ положилъ изъ пулемета: за то, что не выдали тѣхъ, кто прятался въ тѣхъ домахъ отъ ЧеКа. А прятались бѣлые: они взорвали склады, гдѣ хранилась провизія для Уралсовѣта. Люди падали, кричали о пощадѣ, ползли, недобитые, по мостовой, а Пава косилъ всѣхъ огнемъ, щерился и оралъ: вотъ вамъ, сволочи, за нашу ѣду! за нашихъ людей! за нашу красную Совдепію!
Голоса схлестывались и взвивались, таяли и набѣгали на берегъ тишины. Внутри голосовъ рождались мысли. Внутри мыслей — рѣшенія и приказы. Пава Хохряковъ ярился. Его невѣста Таня гладила его по полосатому плечу. Она тоже курила и ссыпала пепелъ въ хрустальную громадную пепельницу въ видѣ листа кувшинки. Командиръ Красной Арміи Авдеевъ сначала кричалъ громче всѣхъ, потомъ молчалъ и слушалъ.
…тайно прибыть въ Тобольскъ… уничтожить прежнюю власть… смахнуть ее, какъ крошки со стола!.. установить нашу власть… большевики во главѣ города… проникнуть въ губернаторскій домъ… а охрана?.. что, мы не заломаемъ охрану?.. прощупать настроенія бойцовъ… разъяснить имъ… Ленинъ говоритъ — надо вести разъяснительную работу въ массахъ… подкопаться, не спѣшить… каво не спѣшить, когда тутъ каждый день дорогъ!.. нельзя попередъ батьки… ты Ленина имѣешь въ виду?.. а кого же еще… а кого пошлемъ въ Тобольскъ первыми?.. да вотъ ихъ и пошлемъ… ихъ?.. любовничковъ?.. эй, Пава, ты слыхалъ?.. мы съ Таней согласны… завтра же выѣзжаемъ… а потомъ кто, послѣ развѣдки?.. а потомъ пойдетъ отрядъ Авдеева… товарищъ Авдеевъ, ты каво молчишь, какъ воды въ ротъ набралъ?..
Авдеевъ вздохнулъ очень громко, на весь гостиничный номеръ, и началъ говорить, и установилась полная тишина. Въ тишинѣ усами лимонника вился табачный дымъ и звучалъ голосъ краснаго командира: я возьму шестнадцать человѣкъ. Войду въ городъ. Остальное — по ходу дѣйствія. Остального я ничего не знаю, не обезсудьте.
…и закурилъ, и опять молчалъ.
И ѣли красную семгу съ чернымъ хлѣбомъ.
***
— Аликсъ, ты слышала?
— Что, родной?
— Изъ Омска прибылъ отрядъ этой, какъ это у нихъ сейчасъ называется… Красной Гвардіи.
— И что? Уже убиваютъ?
— Нѣтъ. Но я думаю — Омскъ, это неспроста.
— Отчего?
— Омскъ — центръ Сибири. Ея сердце.
Александра поднесла руки къ вискамъ. Она сидѣла за столомъ, передъ ней на столѣ въ желѣзной мискѣ стояла недоѣденная яичница. Еще лежалъ клубокъ бѣлой шерсти — она вязала сыну рукавички. Еще разложенъ былъ недоконченный пасьянсъ «Марія Стюартъ».
— Сердце…
Мужъ погладилъ ее по покрывшейся цыпками, огрубѣлой рукѣ.
— Лишь бы твое сердечко ровно билось, мое солнышко. Какъ здѣсь холодно!
— Да. Какъ на Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ.
— О тѣхъ, заполярныхъ холодахъ лучше всего зналъ нашъ адмиралъ Колчакъ.
— Колчакъ… да. Онъ же былъ такой вѣрноподданный!
— Одинъ изъ лучшихъ нашихъ морскихъ офицеровъ. Я самъ сдѣлалъ его адмираломъ флота. Самъ.
— Ты хочешь сказать, а вдругъ это люди Колчака? И они спасутъ насъ?
— О чемъ ты говоришь, милая. Адмиралъ Колчакъ сейчасъ за границей.
— Откуда ты знаешь?
— Я — газеты читаю.
— Вотъ видишь, всѣ умные, вѣрные тебѣ люди — уѣзжаютъ… А почему мы…
— Что — мы?
Печальной птицей глядѣлъ, журавлемъ, что прощался съ осенней землей.
— Мы почему не можемъ уѣхать?
— Мы… мы…
Не могъ выдавить слова.
— А Ленинъ? — внезапно спросила царица.
— Что — Ленинъ?
— Если написать письмо — Ленину?
Царь долго глядѣлъ на жену, потомъ отвернулся къ окну. Спина его вздрагивала.
И жена не знала, смѣется онъ или плачетъ.
— Какія письма, солнце. Онъ мое письмо порветъ… сожжетъ. Ленинъ — нынѣ властелинъ. Ленинъ хочетъ править и правитъ. Я это чувствую и знаю. Я для него — помѣха на этомъ пути.
— Но ты же помазанникъ! Какъ онъ смѣетъ! Онъ долженъ тебѣ пятки лизать!
— Пятки? Аликсъ, сейчасъ всѣ другъ другу пули пускаютъ въ грудь.
Николай медленно наклонилъ густоволосую сѣдѣющую голову и долго молчалъ. Аликсъ нѣжно прикоснулась къ его локтю. Онъ плотнѣе запахнулся въ китель.
— Милый, ты мерзнешь. Надѣнь подъ китель теплую безрукавку.
— О да. Пожалуй. Я ее очень люблю. Ты же ее мнѣ связала.
Поцѣловалъ ей руку и кинулъ взглядъ на карты.
— Не закончила пасьянсъ? Или не сошелся?
— Не закончила. — Голосъ Аликсъ былъ странно глухъ и нѣженъ. Какъ въ молодости. — Ждала тебя.
Взяла колоду и начала раскладывать карты. Отъ холода у нея сводило распухшія красныя руки. Она то-и-дѣло грѣла ихъ дыханьемъ.
— Милая, я принесу твою шубу, накину на тебя?
— Не надо. Сейчасъ пошевелюсь… и согрѣюсь.
— Ты знаешь, что каждый вечеръ къ намъ въ домъ привозятъ пулеметъ?
Царица вздрогнула и бросила карты. Онѣ, какъ живыя, поползли на край стола, валились на полъ, разсыпались чортовымъ пасьянсомъ. Ея глаза искали его глазъ, она стремилась спросить его глазами, что случилось, что грядетъ и чего надо опасаться; къ ея щекѣ прилипли двѣ выпавшія рѣсницы, она смахнула ихъ уже узловатымъ, старческимъ пальцемъ.
— Пулеметъ? Зачѣмъ?
— Развѣ ты не понимаешь?
Николай улыбался грустно.
— Ты еще улыбаешься.
— Пока имѣю силу надъ этимъ смѣяться.
— Ждутъ нападенія?
— Милая, все смѣшалось въ нашемъ домѣ.
— Ты хочешь сказать, въ Россіи?
— И мы несчастны. Но по-своему. Не такъ, какъ несчастны Германія, Франція. Мы — особые. Мы если и болѣемъ, такъ празднично сгораемъ въ великомъ жару, а веселимся — весь міръ стонетъ отъ боли.
…Ночью къ Губернаторскому дому прибыли бойцы изъ Омска. Они окружили домъ и пытались вломиться въ него. Неподалеку отъ дома стояли конные стрѣлки екатеринбуржца Авдеева. Они наблюдали эту картину: комендантъ Кобылинскій выставилъ пулеметъ, а омичи взводили затворы, потрясали винтовками и нещадно матерились. Авдеевъ тоже сквернословилъ: ему нельзя было бить своихъ, красныхъ омичей, и онъ хорошо понималъ, зачѣмъ тутъ омичи: они пришли за царями. Прядали уши его коня. Цари — добыча! Цари — волки, медвѣди въ тайгѣ! И Авдеевъ напрягалъ ухо: пытался разслышать, о чемъ говорятъ бойцы изъ Омска.
И услышалъ.
Они сильнѣе. Ихъ больше. У нихъ тоже есть пулеметы, тачанки, да они сегодня не притащили ихъ сюда, къ дому; побоялись. У нихъ есть и пѣшіе, и конные. Затопчутъ лошадями. Надо уѣзжать. Кутузовъ тоже сдалъ Москву; въ любомъ дѣлѣ стратегія важна.
…Ляминъ сидѣлъ на койкѣ. Звякали пружины. Рядомъ сидѣла Пашка. Она держала руку на Мишкиномъ колѣнѣ. Впервые за много дней. Они просто сидѣли рядомъ, какъ два старыхъ супруга, какъ два лебедя, крыло къ крылу. Ничего не говорили. Сжатые рты. Глаза въ одну точку уставлены. Они и смотрѣли на что-то одно, и одинаково смотрѣли: тоскливо и долго. Пашкина рука на колѣнѣ Лямина — милость, радость. Давно не было такой радости. И она вотъ-вотъ исчезнетъ. Желанья, тетеревиной тяги не было внутри. Были: покой, тоска, легкое счастье, и вотъ-вотъ улетитъ. Пашка казалась ему райской птицей, присѣвшей на его колѣно: сейчасъ вспорхнетъ.
А на самомъ дѣлѣ она была — солдатъ, привыкшій къ смертямъ и пороху.
***
— Заславскій въ городѣ! Большевицкая власть!
— Да ну, ребята! Быстро же!
— Поздравляться-то будемъ ай нѣтъ?!
— Такъ ить иначе и быть-то не могло!
— Вся власть большевикамъ! Ур-ра-а-а-а!
— Выпить нельзя, такъ хоть закурю.
— А кто верховодитъ-то?
— Хохряковъ предсѣдатель, Заславскій при емъ, и еще какой-то Авдеевъ подъ ногами путается!
— Стопъ, стопъ! Авдеевъ-то — кажись, изъ уральцевъ?
— Теперя они сюда примчатся! Помяни мое слово!
— Какъ бы не такъ.
— Такъ, такъ!
— Но мы жъ ихъ не пустимъ. Мы же — не имъ подчиняемся!
— И то вѣрно. Пущай Кобылинскій рѣшаетъ!
— Пусть уральцы насъ боятся.
— Дыкъ они насъ и бояцца. Ищо какъ.
— Оружія у насъ довольно. Отобьемся хоть отъ чорта!
— Ну омичей прогнали же.
— Намъ приказъ данъ — сторожить, мы и сторожимъ! И весь сказъ!
— Охъ, боюся, сказъ тотъ тольки начинацца.
— А ты не бойся. Ничего не бойся.
— Я-то? А хто тибѣ сбрехалъ, што я боюся?
— Да ты же самъ и сказалъ. Кури лучче и молчи въ тряпочку!
***
Они всѣ жить не могли безъ церковныхъ службъ. Родители и дѣти, всѣ жили и дышали молитвой, иконы были нужнѣй и важнѣе хлѣба. Каждую субботу въ Губернаторскомъ домѣ служили Всенощное бдѣніе, и вся семья то опускалась на колѣни, то поднималась, безостановочно крестилась, и иконы со стѣнъ глядѣли на нихъ строгими и любящими, громадными, какъ озера за Турой, и ночными, и солнечными глазами. Ночь и свѣтъ, солнце и луна, бывшая боль и будущія слезы — все лежало на днѣ иконъ, въ нихъ они ныряли, какъ въ темную рѣку, какъ въ едва затянутую хрусткимъ ледкомъ іордань. Аллилуія!
Тусклъ новомодный электрическій свѣтъ, мотается лампа подъ потолкомъ, а иконы горятъ сами, онѣ самосвѣтящіяся; сіяютъ подъ слоемъ пыли, подъ слоемъ пороха и взорванной земли. Онѣ сіяютъ изнутри ихъ разбитой въ мелкіе осколки жизни. Царица стоитъ и крестится, и вспоминаетъ, какъ подносила иконы ко ртамъ умирающихъ солдатъ въ госпиталяхъ. Солдаты, корчась въ агоніи, уже въ безсознаньи цѣловали икону и шептали: Господи, въ руки Твои предаю духъ мой. Вотъ Онъ, Спаситель — у нея надъ головой. Онъ свѣтится ярче всѣхъ на свѣтѣ лампъ, жалкихъ изобрѣтеній человѣка.
Они молились, за ними стояли дѣти, передъ ними — батюшка и четыре монахини; ровно горѣли, еле слышно трещали свѣчи, отражались въ глазахъ дѣтей, и они понимали — вотъ этотъ огонь, онъ одинъ, царскій, изъ прежняго міра имъ и остался. Царь Іудейскій! Такъ называли Его люди, но такъ не называлъ Онъ Самъ Себя. Онъ говорилъ такъ: кто знаетъ Меня, знаетъ Отца.
На аналоѣ лежала вышивка царицы — синій, съ золотыми крыльями, попугай, вокругъ него розы и жасминъ; она вышила шелкъ бисеромъ, и это было одно изъ прекраснѣйшихъ ея рукодѣлій. Мужъ шутилъ: тебѣ надо быть златошвейкой, а не царицей. И царицы занимались золотнымъ шитьемъ, ласково возражала она. Свѣчи пылали, Татищевъ, Долгоруковъ и докторъ Боткинъ молились, докторъ молился истово, — у него явилось въ жизни неутѣшное горе, а Богъ его воистину спасъ. Каждый долженъ что-то вкусить сполна, прежде чѣмъ понять и взять на вѣру. Вѣра — не знаніе; она первая ступень къ любви.
«Слава въ вышнихъ Богу, въ человѣцехъ благоволеніе!» — пѣлъ батюшка красивымъ басомъ, и передъ царицей проходила вереница людей, которыхъ она любила и которыхъ не забыла. И царь молился и вспоминалъ: молодость, смѣхъ и слезы, дѣтей въ пеленкахъ, ожиданіе наслѣдника; безмѣрное счастье, когда мальчикъ родился, и безумное горе, когда они оба узнали, что у него больная кровь.
Кровь! Вино причастія, хлѣбъ любви. Все на крови — и храмы, и кладбища, и дома, и обѣды, и обѣдни. Въ день, когда они такъ горячо молились, красные прислали изъ Москвы телеграмму, а тамъ стояло: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГРАЖДАНИНУ РОМАНОВУ Н. А. И ГРАЖДАНИНУ РОМАНОВУ А. Н. НОСИТЬ ПОГОНЫ». И молитва не помогла. Вотъ онъ, позоръ; и надо было съ честью снести этотъ позоръ, и возвыситься надъ униженіемъ. Если тебя ударятъ по правой щекѣ, подставь лѣвую, шептала мужу жена. На его погонахъ красовались вензеля Александра Третьяго; на погонахъ Алексѣя — его вензеля. Время передавало съ плечъ на плечи золотой воинскій факелъ. И вотъ его гасятъ.
Царь держалъ въ рукѣ телеграмму, Кобылинскій стоялъ рядомъ и терпеливо ждалъ, а царь не говорилъ ни слова. Кобылинскій переминался съ ноги на ногу, потомъ жестко спросилъ: вы прочитали? Вы поняли? Царь повернулъ къ Кобылинскому лицо. Кобылинскій съ ужасомъ увидалъ: у царя — лицо Нерукотворнаго Спаса. Да, я все прочиталъ и все понялъ, спокойно сказалъ царь, а вотъ поняли ли вы?
И полковникъ Кобылинскій растерялся. Не зналъ, что отвѣтить.
Царь, стоя передъ холопомъ, медленно, сильно сорвалъ погоны, и нитки трещали, а глаза царя смотрѣли прямо и упрямо, и опять ужаснулся холопъ лицу своего царя: царь, срывая погоны, улыбался, и Спаситель на темной иконѣ за его спиной, на обшарпанной, съ сорванной штукатуркой, стѣнѣ улыбался тоже.
***
Платформа и ночь. Вагоны и бойцы.
Россія продолжаетъ сходить съ ума.
Красный командиръ на перронѣ стоитъ передъ человѣкомъ въ мощномъ тулупѣ; изъ-подъ тулупа глядитъ матросская блуза; на головѣ папаха; взглядъ острый и желѣзный — вмѣсто глазъ два ножа, и играютъ въ свѣтѣ весенней луны.
О чемъ говорятъ? Холодная апрѣльская ночь скрываетъ рѣчь. Конные и пѣхотинцы выходятъ изъ поѣзда. Командиръ глядитъ на бумагу въ рукахъ человѣка въ папахѣ. Въ свѣтѣ вокзальнаго фонаря съ трудомъ разбираетъ подписи. Свердловъ. Ленинъ. Голощекинъ.
Человѣкъ въ папахѣ козыряетъ командиру. Командиръ понимаетъ: уполномоченный ВЦИК можетъ приказывать ему все что угодно, и онъ долженъ будетъ это выполнять.
Мететъ мокрый снѣгъ. Дуетъ рѣзкій вѣтеръ. Пробираетъ до костей. Скоро, уже сегодня, поскачутъ командиръ и человѣкъ въ папахѣ вмѣстѣ, рядомъ. Надъ головами коней будутъ переговариваться.
О бывшихъ царяхъ.
Важнѣе вопроса нѣтъ; самъ вождь ставитъ его во главу угла.
Солдаты впереди. Бѣлые? Красные?
Снѣгъ мететъ красный. Дождь идетъ бѣлый.
Жизнь заметаетъ, заливаетъ, захлестываетъ вѣтромъ. Человѣкъ въ папахѣ подноситъ къ глазамъ морской бинокль.
Красное знамя у бойцовъ. На папахахъ красныя ленты.
Впередъ, къ нимъ.
И — вмѣстѣ поскакали!
…это скачутъ комиссаръ Яковлевъ и два красныхъ командира — Авдеевъ и Бусяцкій.
Бусяцкій кричитъ: надо убить Романовыхъ! И какъ можно скорѣе! Яковлевъ молчитъ. Авдеевъ слушаетъ. Бусяцкій гнетъ свое: когда повеземъ изъ Тобольска въ Екатеринбургъ эту семейку, я съ отрядомъ устрою засаду, будто бы освободить ихъ, мы будемъ стрѣлять, сами — въ воздухъ, а въ нихъ — въ упоръ. Уничтожимъ Кроваваго! Хватитъ ему небо коптить!
Копыта коней били по мокрымъ камнямъ, вязли въ нападавшемъ мокромъ снѣгу. Яковлевъ молчалъ. Бусяцкій свирѣпѣлъ. Авдеевъ натягивалъ поводья.
Весенняя холодная ночь кончалась. Наступало солнечное утро. Снѣгъ таялъ. Ледъ исчезалъ. Коней заводили въ конюшни. Казармы гудѣли.
Яковлевъ спѣшился, обернулся къ Авдееву и сказалъ: вы производите на меня хорошее впечатлѣніе. Я назначаю васъ комендантомъ Дома Свободы, гдѣ живутъ цари.
И Авдеевъ наклонилъ голову.
Съ уполномоченнымъ ВЦИК спорить безполезно.
***
Алексѣй бодрый, веселый, бѣгаетъ по дому. Мать еле успѣваетъ слѣдить за нимъ. У нея болитъ сердце за него, но она понимаетъ: лиши его призрака свободы — онъ зачахнетъ, угаснетъ свѣчкой. Гдѣ мудрость? Гдѣ золотая середина? Никто не знаетъ. И она — меньше всего.
Алексѣй играетъ и смѣется, кувыркается и ведетъ себя свободно и опасно. Онъ кричитъ матери: мама, вѣдь это Домъ Свободы! Мать закрываетъ ротъ рукой. Это ея давній, еще дѣвичій жестъ: хочешь сказать что-то лишнее, ненужное — закрой ротъ ладонью, помолчи и досчитай до тридцати.
Цесаревичъ съѣзжалъ на деревянной лодкѣ по ступенямъ лѣстницы — со второго этажа онъ проскакивалъ въ дверь на улицу, и грохотъ стоялъ такой, будто бы среди снѣговъ гремѣлъ громъ. Отецъ молчалъ и сжималъ руки за спиной. Мать молчала и стискивала руки у груди. Они оба молились за него, одно это имъ и оставалось.
Еще были качели.
Качели его и погубили.
Алексѣй самъ ихъ сдѣлалъ — изъ бревна. Прикрѣпилъ къ толстымъ веревкамъ межъ двухъ деревьевъ. Качался съ упоеніемъ. Раскачивался, горячо, отчаянно, весело. Выше! Выше! Качели взлетали все выше. Небо было все ближе. Какъ онъ упалъ, онъ не помнилъ.
Помнилъ, какъ очнулся.
Онъ ушибъ голову и ногу. Обморокъ закончился обильнымъ потомъ, онъ пришелъ въ себя и заплакалъ отъ сильнѣйшей боли въ ногѣ. Колѣно стало опухать стремительно и страшно. Кровь изливалась подъ кожу, въ ткани, обволакивала круглую колѣнную косточку. Докторъ Боткинъ, дрожа, наклонялся надъ нимъ, лежащимъ въ кровати. Алексѣй длинно, протяжно стоналъ. Потомъ оборвалъ стоны. Силился не стонать и не плакать.
И не сумѣлъ.
И плакалъ, и стоналъ.
А потомъ закричалъ.
И вмѣстѣ съ нимъ закричала его мать.
Она стояла рядомъ съ докторомъ, въ рукахъ у нея было чистое полотенце, на столѣ бѣлѣлъ кувшинъ съ холодной водой — она хотѣла сдѣлать сыну холодную примочку. Докторъ прошепталъ: лучше согрѣвающій компрессъ, компрессъ будетъ разсасывать гематому. Боль, что такое боль? Никто не знаетъ. Она разрѣзаетъ человѣка на-двое и вынимаетъ изъ него все самое драгоцѣнное. Вынимаетъ и сгрызаетъ, какъ песъ кость, счастье и чудо жизни.
Жизнь при боли перестаетъ быть счастьемъ и чудомъ. Она становится чѣмъ-то инымъ, уродливымъ и страшнымъ. И смерть чудится счастьемъ, а жизнь, полную боли, ненавидятъ и проклинаютъ. И хотятъ побыстрѣе разстаться съ ней.
Ночь, полная боли, смѣнялась днемъ, доверху налитымъ болью. И боль надо было отпивать большими глотками, иначе она могла хлынуть черезъ край и залить глотку, и захлестнуть комнаты, лѣстницы и окна. И вылиться наружу, вонъ изъ дома, рѣкой крика, воплемъ обманутаго неба. Боткинъ шепталъ: этотъ мальчикъ — святой! Онъ терпитъ такое страданіе!
Это невыразимо, бормоталъ докторъ матери, снимая очки и вытирая слезы, это невозможно, я бы отъ такой боли просто сошелъ съ ума, а онъ…
…а онъ у меня очень разумный…
…Алешинька, пожалуйста, не кричи, сейчасъ принесутъ опій…
…лягте, ваше величество, у васъ же сердце…
…наплевать, я не чувствую уже никакого сердца, у меня его нѣтъ…
Матросъ Климъ Нагорный, когда боль захлестывала разумъ и мальчикъ терялъ сознаніе, вынималъ его изъ кровати, бралъ на руки и такъ носилъ на рукахъ по всѣмъ комнатамъ Дома Свободы. Сестры молчали и молились. Цѣловали иконы. Дѣвица Демидова рыдала и перебирала четки. Нагорный не спалъ ночи напролетъ и валился съ ногъ. Когда матросъ, какъ песъ, засыпалъ у изголовья цесаревича, приходили воспитатель Жильяръ и преподаватель Гиббсъ, и они поперемѣнно читали мальчику все, что могли: изъ древней исторіи и изъ естественныхъ наукъ, сказки и поэмы, а потомъ приходила мать, блѣднѣе простыни, и читала ему изъ Священнаго Писанія.
А потомъ Алексѣй покрывался молочной блѣдностью и холоднымъ потомъ, и крѣпился, и не хотѣлъ кричать, и опять кричалъ, и мать медленно осѣдала на полъ, и докторъ Боткинъ бѣжалъ къ ней и хваталъ ея руку, и считалъ пульсъ, и вмѣстѣ съ царемъ они несли Аликсъ на кушетку, и женщина плакала такъ, какъ не плакала до нея ни одна женщина въ подлунномъ, нищемъ мірѣ.
А царь стоялъ рядомъ на колѣняхъ. Онъ наклонялся къ ней очень низко, щекоталъ усами и бородой ея морщинистую щеку, ея ухо и скулу и шепталъ: милая, Матерь Спасителя нашего тоже видѣла страданія Сына, и солью исходили Ея глаза, и вмѣсто сердца у Нея билась подъ ребрами кровавая, красная тряпка. И все же Сынъ Ея остался Сыномъ даже и на крестѣ; и она, Мать, осталась Матерью, созерцая то, что живой человѣкъ не въ силахъ видѣть и не умереть. И что, родная? Они оба пребыли живы и еще пребудутъ. Всегда и навсегда. Развѣ ты не возьмешь съ Нея примѣръ? Развѣ ты не хочешь повторить Ее во всемъ? Вѣдь вотъ, смотри, юродивые Христа ради вземляютъ грѣхи міра, такъ же, какъ и Спаситель, и носятъ вериги, и терпятъ поношенія, чтобы повторить подвигъ Бога нашего. Развѣ не счастливо повторить подвигъ Богородицы нашей? Какъ думаешь? Вспомни о Ней! Прошу тебя!
…и покрывалъ поцѣлуями ея щеки, шею и руки. И глоталъ ея слезы.
Алексѣй же, подъ каплями опія, забывался ненадолго; и тогда докторъ Боткинъ тоже пилъ опій и закатывалъ глаза, и на полчаса застывалъ въ старомъ креслѣ Дома Свободы съ потертымъ, дырявымъ сидѣньемъ и насмерть исцарапанной кошками штапельной спинкой — самъ старый, тоже поношенный, стоптавшійся, издерганный и все равно свѣтлый, свѣтлый.
***
Вотъ она, смѣна охраны. Товарищъ Авдеевъ ее дѣлаетъ, и надо вѣрить товарищу Авдееву.
Лица, лица и руки, руки и ноги. Вродѣ тѣ же люди, а — другіе.
Одно время смѣняетъ другое. Были солдаты изъ Царскаго Села — пришли другіе солдаты.
Красная Гвардія.
Царскіе гвардейцы уступаютъ мѣсто красногвардейцамъ.
Кто во что одѣтъ. Кто во что гораздъ. Кто какъ явился въ революцію. Пестротканое, лоскутное человѣчье одѣяло. Всякой твари тутъ по парѣ. Форма? Какая? Не до формы имъ. Кто въ тужуркѣ. Кто въ шинели съ чужого плеча, и по пяткамъ бьетъ. Кто въ невѣроятной кавказской буркѣ, а на башкѣ — кепка. Кто въ кудрявомъ бараньемъ тулупѣ. Кто въ вытертомъ на локтяхъ зипунѣ. Пальто и полушубки. Лапсердаки и пиджаки. Краденые кители. На ногахъ — боты, сапоги, катанки, у иныхъ — и опорки. Какъ твое имя? Ѳедька? Игнатъ? Сашка? Мишка? Эй, Мишка, Сашка, Игнашка, валяй сюда! Къ намъ! Въ картишки сразимся!
…это простой народъ. Возставшій народъ. И онъ захотѣлъ лучшей жизни.
Уважайте его желаніе.
Его желанье сыграть въ карты.
Слышите ли вы, гражданинъ Романовъ?
…Царь хорошо видѣлъ ихъ и видѣлъ, какъ они вооружены. Ему, царю и полковнику, было дико это: кто обвязанъ пулеметными лентами, кто сдергиваетъ съ плеча охотничій карабинъ, кто вертитъ въ рукахъ новѣйшій пистолетъ маузеръ и любуется имъ, а у кого за однимъ плечомъ винтовка, а за другимъ — двустволка, а за поясомъ — старый наганъ, а за голенищемъ — ножъ!
Царь глядѣлъ, какъ уходятъ питерскіе гвардейцы. Царь слѣдилъ, какъ въ Домъ Свободы входятъ сибирскіе красногвардейцы.
А Ляминъ стоялъ одинъ — ни съ тѣми, ни съ другими; и чрезвычайный уполномоченный Яковлевъ кивнулъ ему: вставай съ ними! — и указалъ на Красную Гвардію.
И Михаилъ Ляминъ отмаршировалъ туда, куда ему указали.
И два глаза изъ-подо лба смотрѣли теперь туда, куда указывали ему: на врага.
…на дѣвушку по имени Марія, и на ея ногу, что высовывалась изъ-подъ шелковаго платья, изъ-подъ соннаго кружева.
Потеплѣло. Капель звенѣла, рушась съ крышъ. Птицы пѣли оголтѣло и вольно. Комиссаръ Яковлевъ пришелъ говорить съ прежней охраной.
Гвардейцы сердито смотрѣли на комиссара. Ворчали.
— Ишь, смѣстили насъ. Поставили какихъ-то охламоновъ.
— Ни въ строй встать не умѣютъ… не по росту стоятъ…
— И что? Это они, разгильдяи, будутъ теперь царя охранять?!
— Смѣшно.
— Да много чего смѣшного щасъ у насъ въ Расеѣ!
Яковлевъ, пригладивъ на вискахъ волосы, выступилъ впередъ. Сегодня, въ теплый день, онъ снялъ папаху. И ходилъ съ голой головой. Весна, и птицы, и надежды. Солнечные лучи сіяющими спицами вывязывали радость.
— Товарищи стрѣлки! Спасибо вамъ за отличную службу. Такъ, какъ вы, никто бы не справился съ задачей! Охрана гражданина Романова и его семейства была поручена вамъ, и вы съ честью выполняли свой долгъ! Настала пора, — онъ смущенно кашлянулъ, — вамъ отдохнуть. Ваша вѣрная служба закончена! Можете возвращаться домой. Къ женамъ и дѣтямъ! Молодая Совѣтская республика благодаритъ васъ…
— Ха, благодаритъ… что толку?!. лучше бъ денежку кинула…
— …и награждаетъ васъ жалованьемъ за полгода! Сразу за полгода! Вы вѣдь, товарищи, полгода денегъ не получали? Такъ вотъ вамъ!
Стоявшій за Яковлевымъ лысоватый, съ головой въ проплѣшинахъ, какъ въ проталинахъ, низкорослый человѣкъ съ портфелемъ въ рукахъ осторожно положилъ портфель на стулъ и щелкнулъ замкомъ. Гвардейцы вытянули шеи. Портфель былъ набитъ деньгами.
— А что за деньги? Керенки небось?
— Къ бѣсу керенки!
— Рубли давай!
— Здѣсь рубли, — сказалъ рѣдковолосый человѣкъ гордо и запустилъ въ портфель руку.
Гвардейцы подходили за рублями. На ихъ лицахъ свѣтилось изумленіе и довольство. Ропотъ прекратился. Раздавались слова одобренья. Совѣтская власть не обидѣла ихъ. И это грѣло изстывшую на сибирскихъ вѣтрахъ душу. Закончили сторожить царя; такъ это же хорошо! Пришли другіе. Теперь имъ придется попотѣть.
Труднѣй всего стоять и охранять; тоска, глухота, время не идетъ, а ползетъ червемъ. А персоны-то важные. Что съ ними случится — товарищъ Ленинъ съ тебя голову сниметъ.
…какой товарищъ Ленинъ, самъ же Авдеевъ подойдетъ и тебя — въ расходъ… въ распылъ…
— Товарищи! Слушай меня внимательно. Я долженъ увезти изъ Тобольска семью гражданина Романова.
Комиссаръ стоялъ во дворѣ передъ охраной.
Новая и старая охрана — обѣ были тутъ; и обѣ глядѣли на Яковлева, будто бы онъ былъ заморскій павлинъ и передъ солдатами яркій хвостъ распускалъ.
Полушубки, шинели, тулупы, зипуны, тужурки шевелились, шуршали, скрипѣли вокругъ.
Къ вечеру пошелъ снѣгъ, и апрѣль превратился въ февраль. Такая Сибирь: солнышкомъ поманитъ, снѣжкомъ накормитъ.
— Куды жъ энто?! — крикнулъ Сашка Люкинъ.
— Я не имѣю права съ вами объ этомъ говорить.
Люкинъ укусилъ нижнюю губу. Выкинулъ впередъ руку.
— Такъ пошто же съ нами объ энтомъ и балакать?!
Поднялся галдежъ, люди превратились въ соро́къ и галокъ и воронъ и взмыли съ крышъ и стрѣхъ, и летали надъ головой Яковлева, и кричали, и глотали дымъ, и верещали, и каркали, и хлопали крыльями.
— Намъ говорятъ, а мы знать не имѣемъ права!
— Дыкъ што жа, повезутъ куды-то, а може, въ тайгу завезутъ — и тамъ порѣшатъ?!
— Мы сторожили, сторожили… а насъ — пинкомъ подъ задъ…
— Ничего! Мы нынче посторожимъ!
— А ежели намъ скажутъ — ихъ свезутъ въ адъ, мы ихъ — въ адъ свеземъ?
Яковлевъ оглядывалъ орущія лица. Каждый изъ бойцовъ хотѣлъ, чтобы его уважали за его трудъ.
Ляминъ сидѣлъ на завалинкѣ. Мрачно слушалъ. Не оралъ, не блажилъ, не возмущался.
«А что ворчать! Все равно командиры скомандуютъ по-своему. Ты солдатъ, ты выполняй приказъ».
Яковлевъ подобрался — волкъ передъ прыжкомъ.
— Слушай меня! Восемь бойцовъ старой охраны я включаю въ новый караулъ! Этотъ караулъ будетъ сопровождать семью царя… — Поправился. — Бывшаго царя… до новаго мѣстожительства! Эти стрѣлки… — Оглядѣлъ бойцовъ. — Мерзляковъ! Бочарова! Андрусевичъ! Дуроватовъ! Завьяловъ!
— Игнатъ или Глѣбъ? — крикнули ему.
Яковлевъ замѣшкался на мигъ.
— Игнатъ! Дальше… Ереминъ! Люкинъ!
Пашка, за кеглями многихъ головъ, высоко поднимала гордую, коротко стриженую голову. Снѣгъ летѣлъ на ея волосы и ласково путался въ нихъ.
Замолчалъ. Оглядывалъ, оглядывалъ лица, будто всѣ хотѣлъ навѣкъ запомнить.
— Ляминъ!
И Ляминъ взвился съ завалинки и поднялъ голову выше.
Снѣгъ ужъ не летѣлъ нѣжно, а валилъ густо и грубо.
Яковлевъ схлестнулся глазами съ Ляминымъ.
Михаилъ сдѣлалъ шагъ, другой и втекъ горячимъ тѣломъ въ ряды красногвардейцевъ.
— Слушаюсь, товарищъ комиссаръ!
***
— Ваше величество. Я имѣю вамъ сказать нѣчто важное.
— Слушаю васъ, господинъ… товарищъ…
Передъ Яковлевымъ ходилъ ходуномъ маятникъ настѣнныхъ массивныхъ часовъ фирмы «Павелъ Буре». Золотая голова маятника говорила, моталась: нѣтъ-нѣтъ, нѣтъ-нѣтъ, нѣтъ.
Передъ Яковлевымъ и царемъ на столѣ стоялъ чай.
Два стакана и два подстаканника. И цвѣтъ чая темный, густой, ночной. И пахнетъ крѣпко и терпко.
Царь прихлебнулъ чаю и терпеливо ждалъ чужихъ важныхъ словъ.
— Я долженъ увезти васъ и вашу семью отсюда.
Царь поставилъ подстаканникъ на столъ. Склонилъ голову на-бокъ, на плечо, и сталъ похожъ на большую птицу — на журавля, цаплю.
— Куда?
— Я… не имѣю права вамъ это сообщить. Простите.
Царь поднесъ ко лбу руки. Жестъ страстно молящагося, о чемъ-то просящаго небеса.
И такъ сидѣлъ.
До тѣхъ поръ, пока Яковлевъ, истомившись, не кашлянулъ громко и хрипло.
Тогда царь отвелъ руки съ набухшими венами отъ сѣраго, цвѣта небѣленой холстины, лица и безсильно обронилъ:
— Я… не поѣду. И… никто не поѣдетъ.
Яковлевъ тихо сказалъ:
— Вы поѣдете все равно.
Царь ущипнулъ усъ. У него дрожали руки.
— У меня сынъ боленъ! Тяжело. Вы сами сказали — онъ не можетъ сейчасъ никуда ѣхать! Его нельзя перевозить! Гематома вскроется, и…
Онъ не могъ продолжать — махнулъ рукой.
Яковлевъ глядѣлъ, какъ царь плачетъ.
— Не сопротивляйтесь. Это безполезно. Если вы не дадите согласія, васъ всѣхъ увезутъ насильно. Свяжутъ вамъ за спиною руки и погрузятъ куда угодно. Въ телѣги… въ пролетки… въ грузовыя авто. И — повезутъ. Вы будете кричать, а васъ будутъ везти. Все равно. Простите меня, я говорю вамъ правду.
— Правду, — шопотъ царя жегъ Яковлеву щеку, — правду…
— Извините меня, если я васъ обидѣлъ.
— Ну что вы… не стоитъ… я понимаю…
— И… есть выходъ. Я предлагаю вамъ… ѣхать одному.
Царь потеръ ладонью грудь. Гимнастерка сморщилась стиральной доской.
— Одному?
— Да, вы вполнѣ можете ѣхать одинъ.
— Одинъ?
Онъ все время переспрашивалъ Яковлева, какъ ребенокъ.
— Хорошо… Это — и правда выходъ… Но…
— Но?
— Я долженъ быть увѣренъ, что съ моей семьей… здѣсь ничего не случится плохого…
Яковлевъ видѣлъ, какъ бьется сердце царя подъ гимнастеркой.
Его рука, лежащая на столѣ, подрагивала выловленной изъ-подо льда рыбой.
Подался къ нему. Положилъ руку ему на руку.
Ему трудно было это говорить, но вмѣстѣ съ тѣмъ и радостно, и хорошо. Будто бы, выговаривая это, онъ грузъ съ себя снималъ, сбрасывалъ тяжесть, что мучила и выкручивала его, какъ половую тряпку, долгое, безсчетное время.
— Ваше величество! Я… не могу вамъ назвать городъ. Но вы этотъ городъ хорошо знаете. Очень хорошо. Это… главный городъ Россіи. Главный, понимаете?
— Понимаю… — потрясенно шепталъ царь.
— И, если все будетъ хорошо… все-все… въ дорогѣ… ну, вы понимаете…
— Да, да…
— Я увезу васъ… далеко… въ Скандинавію, можетъ… въ Норвегію… въ Данію… но… мнѣ запрещено объ этомъ говорить, и… запрещено это дѣлать… но я…
— Не объясняйте, — шепталъ царь, и сѣрые прозрачные его глаза горѣли бѣлымъ пламенемъ, — и такъ все ясно…
— И… забудьте все, что я вамъ сказалъ…
— Да, я забылъ…
— Готовьтесь. Отъѣзжаемъ на разсвѣтѣ.
— Такъ быстро?
Глаза царя налились сырой пустотой.
— Нельзя медлить.
— Аликсъ, любимая. Мы уѣзжаемъ.
Она для него всегда была красива и желанна, и никогда для него, во вѣки вѣковъ, она не станетъ старухой.
Обернулась къ нему отъ зеркала; руки закинуты за голову; втыкаетъ шпильки въ сѣдой пухлый пучокъ. Вчера была баня, и она чисто вымылась и вымыла волосы золой. Здѣсь всѣ такъ моютъ. Ей, послѣ французскихъ шампуней и душистой пѣны для ваннъ, печная зола казалась дивомъ, не хуже павлиньихъ перьевъ на шляпѣ.
Такъ стояла, застывъ, и руки — на затылкѣ. Не опускала. Глазами лицо его гладила.
— Я знаю.
— Что ты знаешь?! — почти выкрикнулъ Николай.
— Тебя увезутъ въ Москву.
Царь подошелъ къ креслу и тяжело, какъ въ гробъ, опустился въ него.
— Въ Москву ли?
— Мнѣ такъ Кобылинскій сказалъ.
— Яковлевъ тоже со мной говорилъ. Онъ не назвалъ городъ.
Вотъ теперь опустила руки. Такъ стояла съ повѣшенными вдоль тѣла руками, какъ съ безвольными, въ безвѣтріи, рукавами выстиранной рубахи на бѣльевой веревкѣ.
— А мнѣ комендантъ — сказалъ. Я въ шокѣ.
Пыталась сорвать съ руки перстень. Рука опухла, палецъ раздулся, и она все рвала, рвала перстень, и губы ея шевелились беззвучно, и морщилась отъ боли.
— Если честно, я тоже.
— Тебя будутъ судить?
— Скорѣй всего.
— Судъ — ложь! Красные лгутъ! Они лгутъ на каждомъ шагу! Они везутъ тебя въ Москву для того, чтобы ты подписалъ эту дьявольскую бумагу! Этотъ миръ! Мы теряемъ полъ-Россіи!
— Уже не мы.
Наконецъ сдернула перстень. Красный палецъ крючился, она чуть не плакала.
— Нѣтъ, мы! Мы! Неизвѣстно, какъ все сложится дальше! Можетъ статься, насъ освободятъ! Тогда ты снова — царь! А сейчасъ имъ нужна твоя подпись! Если ты снова будешь царь, эта гадкая бумага будетъ имѣть силу! А безъ твоей подписи — не будетъ!
— Родная, не кричи.
— Какъ же не кричать! Я не знаю, какъ мнѣ быть! Мальчикъ боленъ! Я должна сидѣть у его кровати! Я ночи не сплю… И ты, какъ ты поѣдешь одинъ? Это невозможно! Они тамъ тебя… загрызутъ!
Николай вздохнулъ такъ длинно, что ему показалось — у него лопнутъ легкія.
И выдыхалъ такъ же длинно и мучительно.
— Я не мозговая кость.
— Ты — это будущее Россіи!
— Будущее? Боюсь, что мы всѣ давно уже ея прошлое.
Она хотѣла зарыдать, вынула шпильки изъ пучка, сѣдыя морозныя пряди неряшливо разсыпались, плечи поднимались.
— Боже! Неужели ты такъ и вправду думаешь!
— А ты — думаешь иначе!
— Я — надѣюсь!
— А я…
Хотѣлъ ее обнять, сказать что-то хотѣлъ; махнулъ рукой.
Царица подошла къ окну. За стекломъ неслись ополоумѣвшія отъ синяго тѣста весны, куда были вмѣстѣ запечены тепло и морозъ, крылатыя небесныя галки — налетѣвшія съ сѣвера облака. Сначала летѣли сѣрыми и сизыми и черными перьями, потомъ укрупнились, шли густо, плотной стѣной, потомъ неистово клубились и пузырились, и сквозь нихъ били солнечные лучи — призрачными спѣлыми, мощными снопами.
— Какая сумасшедшая весна… — тихо прошепталъ царь.
— Это я схожу съ ума, — такъ же тихо отозвалась жена.
— Молись. Господь насъ надоумитъ.
— Господи, — она стиснула руки на груди, — да будетъ воля Твоя, а не моя!
Стояла и отражалась въ зеркалѣ. Царь, изъ-за ея спины, смотрѣлъ на ея отраженіе.
И она видѣла его въ зеркалѣ: то, какъ онъ смотритъ, любовно охватывая ее тоскливымъ, затравленнымъ и нѣжнымъ взглядомъ, пытаясь смотрѣть спокойно, а глаза все вспыхиваютъ, все горятъ и тлѣютъ тоской, вѣчной тоской.
— Да будетъ такъ.
Она быстро повернулась къ нему. Теперь въ зеркалѣ онъ видѣлъ ея съ трудомъ утянутую въ корсетъ, раздавшуюся вширь спину.
— Я все рѣшила. Я ѣду съ тобой.
Онъ взялъ ея руки. Молчалъ.
Потомъ провелъ пальцемъ по ея щекѣ, по скулѣ, по выгибу уха.
— А ты… не ошибаешься?
Пилъ глазами, близкими губами ея улыбку, внезапно и страшно — молодую, яркую, безшабашную, какъ прежде, въ замкѣ Кобургъ, когда онъ качалъ ее, тростиночку, на весеннихъ качеляхъ.
— Нѣтъ.
— Откуда ты знаешь?
Лица уже слишкомъ близко. Это почти поцѣлуй. Еще немного осталось.
— Знаю.
Губы наложились на губы, и царь щекой чувствовалъ мокрую женскую щеку, и запахъ ландышевыхъ духовъ, и запахъ крахмальныхъ кружевъ, и запахъ этой сморщенной кожи за ушами и на шеѣ — она пахла сливочнымъ масломъ, и старымъ деревомъ, и ландышемъ, и сладкимъ воскомъ, и горькимъ, какъ горчица, свѣчнымъ нагаромъ, и сгорѣвшимъ домомъ, и сгорѣвшей жизнью.
***
— Мама! Мама! Мама!
Царица стояла въ коридорѣ, передъ спальней сына, и крѣпко зажимала руками уши.
Капель звенѣла, сердце стучало, стучали кости отмѣренныхъ мгновеній.
— Мама! Мама! Мнѣ больно! Гдѣ ты!
Мать опускалась на колѣни передъ комнатой, на порогѣ. Но не входила.
Качалась, на колѣняхъ стоя, изъ стороны въ сторону.
Уши болѣли — она слишкомъ сильно на нихъ давила ладонями.
Крикъ не утихалъ.
— Мамочка! Пожалуйста! Мама-а-а-а-а!
Царь ходилъ по коридору, переступая съ пятки на носокъ, пытаясь ступнями раздавить сапоги. А кулаками, добѣла сжатыми за спиной, раздавить обѣ боли: свою боль и боль мальчика.
Подходилъ къ женѣ. Клалъ руки ей на плечи.
— Милая, войди къ нему…
Она мотала головой. Голова ея опускалась все ниже. Затылокъ вровень съ плечами. Плечи отвердѣли отъ боли.
— Ну тогда уйди! Уйдемъ! Тамъ же докторъ!
Сѣдыя пряди, развившись, падали съ затылка на щеки, на лобъ.
Она казалась царю голодной узницей, приговоренной къ смерти. Тюремщики открыли дверь, пытаются накормить обреченную послѣдней ѣдой. Она отталкиваетъ миску.
— Невозможно такъ… Нельзя… Ты себя измучишь…
Она вздергивала голову.
— А онъ — не мучится?!
Мальчикъ кричалъ:
— Мама! Мама! Я слышу твой голосъ! Ты же тутъ! Ты тутъ! Войди! Прошу тебя!
Царь поднималъ жену подъ локти съ пола. Ея тѣло казалось ему обвисшей мокрой тряпкой. Ее можно было выкрутить, отжать.
И лицо все мокрое; она безпрерывно плакала и дрожала, тряслась, какъ въ горячкѣ, лицо отъ слезъ не вытирала, кусала губы, и зубы блестѣли сквозь пріоткрытый, искусанный, въ коричневой засохшей крови, ротъ; она крѣпко прижималась къ мужу, онъ былъ единственный, кто еще могъ ее спасти отъ нескончаемой пытки желѣзнымъ, древнимъ отчаяньемъ.
Обхватывала мужа за шею. Колыхалась вся, будто подъ вѣтромъ, истаивала и гасла и возгоралась опять. Царь еле удерживалъ ее — она сама, вся, обращалась въ безумье, въ отчаяніе и рвалась, улетала у него изъ жесткихъ рукъ.
— Не можетъ быть… Не можетъ… Я молю Бога… а Онъ — не слышитъ… никто не слышитъ… умоли ты… у меня уже нѣтъ силъ… ночь… скоро утро… Господи, миленькій! — вдругъ истошно крикнула она, какъ кричатъ дѣти, и подняла вверхъ зареванное, опухшее, съ набрякшими синими вѣками, страшное, дикое лицо. — Сдѣлай такъ, родненькій Господи, чтобы не поѣхать! Сдѣлай намъ утромъ чудо! Разрушь все! Убей коней… сожги повозки! Домъ — сожги! А насъ всѣхъ — оставь! По дорогамъ пойдемъ… — Глотала слезы, икала, на щекахъ вспыхивали фонарями страшныя, какъ чахоточныя, алыя пятна. — Милостыню будемъ просить! За больными — ходить! Сухарь… глодать… только… только!.. завтра!.. не поѣдемъ…
Царь ловилъ ея руки, ея пальцы, царапающіе по соленымъ мокрымъ щекамъ.
— Не поѣдемъ… нѣтъ!.. не поѣдемъ…
— Господи, чудненькій, великій Господи!.. Ты… пошли намъ ледоходъ! Пусть рѣки вскроются скорѣй! Нынче ночью… да… нынче… и пойдутъ льдины… и возстанутъ до неба… зашуршатъ… и мы — не переправимся… пожалуйста, Господи…
Такъ тряслась въ его рукахъ, что онъ сильно испугался и хотѣлъ ужъ доктора Боткина звать изъ спальни наслѣдника.
— Солнышко… успокойся, успокойся… я съ тобой…
— Да, да, — шептала царица, всѣмъ огрузнѣвшимъ тѣломъ прижимаясь къ мужу, и онъ гладилъ ее по головѣ, простоволосую, какъ мужикъ гладитъ отчаянно плачущую у постели умирающаго дитяти бабу свою.
— А что, если… намъ съ собою кого-то изъ дѣтей захватить? Она дернулась и замерла. Тѣло ея одеревенѣло. Она услышала. Думала.
— Да… о да… — Дрожь ослабѣвала. Вспухшій носъ едва дышалъ, она хватала воздухъ ртомъ и становилась похожей на сѣрую сѣдую, въ пятнахъ, щуку, вытащенную изъ заводи въ камышахъ. — Кого-то… вѣрно… да!.. Но кого?
— Пусть они сами рѣшатъ…
— Мама! Мама! Мама!
Опять задрожала. Опять щедро, дико потекли слезы.
— Мамочка! Больно! А-а-а-а!
И тогда она тоже крикнула: а-а-а! — и отчаянно обняла мужа, и, чтобы заглушить вопль, вмяла губы и зубы ему въ твердое и горячее, безъ привычныхъ эполетовъ, плечо.
Дочери не спали.
Онѣ тоже слышали крики брата.
Скрипѣли ступени, скрипѣли половицы. Ходили по Дому Свободы сходящіе съ ума люди. Горе, счастье? Все равно. Нынче и здѣсь — ужасъ. И побороться съ нимъ нельзя, какъ Іаковъ боролся съ Богомъ.
Таточка, ѣдемъ съ нами? О мама, ты же знаешь, я веду хозяйство. И я такъ хорошо умѣю ухаживать за Алешинькой. Онъ безъ меня не сможетъ. Олюшка, что ты такъ смотришь? Можетъ-быть, ты поѣдешь? О нѣтъ, милая, ты же знаешь, Оличка все время болѣетъ, она простудится въ возкѣ и закашляетъ, дорога неимовѣрно тяжела, всюду вѣтра, сырость, сквозняки. Не хватало только ей захворать бронхитомъ. Евгеній Сергѣичъ тогда съ ногъ собьется. Настя, ты какъ? Аликсъ, не сходи съ ума. Но я уже и такъ сошла! Настинька маленькая. Обречь ее на тяготы долгаго пути до Москвы! Пощади ребенка. Хорошо. Пощажу.
Они всѣ смотрѣли на Марію, и Марія, выпрямивъ спину точь-въ-точь какъ мать, смотрѣла на нихъ.
Ждали.
И Марія тихо сказала: я поѣду.
И стали укладывать вещи. Брали только самое нужное, безъ чего нельзя было жить. Ну вотъ иконы — развѣ безъ нихъ возможно прожить хотя бы день? Сумки распахнули рты. Чемоданы набивались и плохо застегивались. Нужно было все, и нельзя было обойтись безъ того, къ чему привыкли за долгіе годы. Мальчикъ кричалъ, плакалъ, потомъ бормоталъ, потомъ уснулъ. Въ тишинѣ, пока онъ спалъ, собирались; въ комнаты вошелъ комиссаръ Яковлевъ, увидалъ сборы и печально сказалъ: поторопитесь, господа, времени мало, уже утро скоро.
Онъ сказалъ: господа! — радовались дѣвочки. Царица шептала мужу: я приняла вѣрное рѣшеніе, безъ меня они тебя замучатъ. Я же не Христосъ, страшно шутилъ онъ, меня же не распнутъ, а она зажимала ему ротъ ландышевой рукой. Яковлевъ шепталъ: собирайтесь внимательно, не позабудьте самаго важнаго, — и царь вспомнилъ про чемоданъ со своими дневниками и велѣлъ принести его; и принесли чемоданъ, и онъ открылъ его и долго смотрѣлъ на кучу безполезныхъ тетрадей, сплошь исписанныхъ имъ самимъ.
Растопка для печки, розжигъ, мусоръ. А можетъ, вѣчное слово, кто же пойметъ, что ты написалъ, покуда слово не перейдетъ въ-бродъ рѣку времени, эту весеннюю, во льдинахъ и бурунахъ, безумную рѣку: Туру, Иртышъ, Тоболъ.
Шопотъ Яковлева леталъ надъ ухомъ пчелой: я вернусь, я пріѣду обратно, я возьму Ольгу, Настю, Татьяну и Алешу, я доставлю ихъ вамъ, я сохраню. Сохраню, онъ говоритъ о нихъ, какъ о драгоцѣнностяхъ, шепталъ царь, отведя за локоть царицу въ сторону. Она усмѣхалась. У нея послѣ рыданій опухли вѣки, и глаза-щелочки съ трудом глядѣли сквозь комки набухшей плоти. Все было страшно, но всѣ другъ передъ другомъ дѣлали видъ, что нѣтъ, не страшно нисколько.
Никто въ Домѣ Свободы не спалъ. Спать не хотѣлось никому. Спали только кошки на чердакѣ и воробьи подъ стрѣхами; а безсонный глазъ Луны между сизыхъ обгорѣлыхъ тучъ слѣдилъ за людьми — какъ и что они дѣлаютъ, какъ надѣются жить, и глядь, задешево отдадутъ свои жизни.
Москва, шептала царица, бросая кофты въ чемоданъ, Москва, мы тамъ такъ давно не были! Какая она теперь, при красныхъ? Другая? Той уже нѣтъ, она мертва. Но это не значитъ, что новое хуже стараго. Можетъ, новое какъ-разъ лучше. Но мы старое любимъ больше. А то, что мы любимъ, неподвластно смерти.
Ночь шла и проходила, и, сложивъ вещи, они всю ночь сидѣли съ дѣтьми, бокъ-о-бокъ съ Ольгой и Татой, съ Настей и Машкой, а Алексѣй, преодолѣвъ страшную боль и переплывши рѣку слезъ, спалъ въ слезахъ, тоже съ опухшимъ, отечнымъ лицомъ, закинувъ руки за голову, раскинувшись на мокрой отъ слезъ и пота подушкѣ, и докторъ Боткинъ у его изголовья шепталъ самъ себѣ: Господи, я жъ такъ и собраться не успѣю, всѣ уже собрались, а я нѣтъ.
И вышелъ изъ спальни цесаревича, и осторожно, на цыпочкахъ, прошелъ къ своей кровати, вытащилъ изъ-подъ нея свой старый чемоданъ съ уголочками, обитыми посеребренной жестью, и быстро, будто пожарникъ на пожаръ собирался, побросалъ въ него жилетки и манишки, брюки и рубахи, плащи и башмаки. И, побросавъ, закрывши чемоданъ на ключъ, сѣлъ на него и обнялъ лобъ ладонями, и такъ сидѣлъ.
А командиръ Авдеевъ ѣздилъ по ночному Тобольску на конѣ, нанималъ кучеровъ, коней и повозки, торговался, злился, кричалъ, сговаривался. Били по рукамъ. Зло летѣли деньги, бывало, и наземь. А передъ Яковлевымъ стоялъ навытяжку командиръ Бусяцкій, и Яковлевъ жестко чеканилъ ему: охраняйте дорогу! Я долженъ знать, что я ѣду въ полнѣйшей безопасности! Если что случится съ царями или со стрѣлками охраны — вы будете отвѣчать головой! Я васъ самъ разстрѣляю!
И Бусяцкій, виды видавшій, стоялъ передъ гладко выбритымъ московскимъ комиссаромъ, подгибая ноги, искалъ глазами на лицѣ Яковлева хоть кроху сочувствія, человѣчности — и не находилъ: это гладкое лицо сейчасъ было желѣзнымъ, и оставалось стальнымъ и безстрастнымъ, объ него, если его ударить, можно было поранить руку, разбить въ кровь кулакъ. А Яковлевъ смотрѣлъ на сѣрое, какъ ломкій ледъ на Турѣ, лицо Бусяцкаго и думалъ: блѣдный какой, значитъ, меня боится.
Страшна переправа черезъ Тоболъ. Да глаза боятся, руки дѣлаютъ. Переправу будутъ охранять. А отрядъ Заславскаго, тихо спросилъ блѣдный Бусяцкій, его мы куда дѣнемъ? Яковлевъ молчалъ долго, потомъ сказалъ такъ же четко, желѣзно, и скулы его налились темнымъ желѣзомъ: вотъ и держите его въ городѣ, не выпускайте, тяните время, стрѣляйте, взрывайте, что хотите творите. Мы должны ѣхать. И мы — должны — уѣхать.
Васъ понялъ, вышептывалъ Бусяцкій и вытиралъ потъ со лба, а въ ночи сверкала, наливаясь горькимъ молокомъ, Луна, горѣлъ надъ крышами звѣздопадъ, умирали отъ холода, голода и любви зимнія птицы, не дождавшись новаго дня.