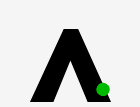ЧАСТЬ 1
ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
Виктор Мережко: “Интервью” с Шолоховым запомнил на всю жизнь”
Мне довелось побеседовать с мэтром отечественного кинематографа в студии Радио “Комсомольская правда” в Ростове-на-Дону. Поговорили о чтении, общении с Михаилом Шолоховым, сериале “Тихий Дон” Сергея Урсуляка. А еще Виктор Иванович ответил на вопрос, который ему ни разу в жизни не задавали. – Виктор Иванович, когда-то Россию называли самой читающей страной мира. Вы приехали в Ростов-на-Дону на книжный фестиваль. Неужели еще читают? – Некто Греф сказал: «Стране не нужны образованные люди». Это отвратительное заявление, потому что еще в 30-е годы товарищ Сталин отдавал под суд родителей, если те не обучали детей в семилетке. Стране нужны были образованные люди, которые должны создавать ее будущее. Сейчас во многих городах закрываются книжные магазины. Люди переходят на электронные книги. Я не умею их читать и не хочу. Во-первых, глаза… И потом – запах и шорох бумаги – это же совершенное иное! Нельзя закрывать книжные магазины – это грех. – Что читаете сейчас? – Я в последнее время читал много архивных документов. Год писал колоссальное сочинение размером в тысячу страниц -это, по сути, литературный сценарий. 28 серий про жизнь в Советском Союзе, начиная с 1924 года – после смерти Ленина и до 1953 года – смерти Сталина . Я изучал серьезные архивы, мне помогали консультанты. Будет картина. А до этого с невероятным трудом перечитывал «Бесы» Достоевского. – Чем это вас так “Бесы” зацепили? – Мне нужно было понять, что это такое. Бесы. У нас в стране их слишком много, чтобы не заинтересоваться Федором Михайловичем. – Говорят, что на экраны должен выйти 12-серийный фильм «Красный Дон 1941-1945» по Вашей книге. – Да я решил написать свой роман. Отец мой Иван Севастьянович из казаков, мама Александра Юхимовна Гончарова с верховьев Дона, тоже из этих краев. Но не было ни фильма, ни сериала о том, как казачество с 1941 по 1945 годы сражалось за свою землю и великую Россию. И я стал читать Шолохова. Но, чтобы не копировать его, особый, шолоховский язык, я решил написать свой роман. Он издан. Я горжусь этой работой. Но на экраны он пока не вышел. Опередил Урсуляк с «Тихим Доном». На мой взгляд, не надо было ему за это браться. – Почему? – Мне кажется, чтобы снять такое, надо быть из этих краев, чтобы чувствовать запах нашей донской земли. И потом, переплюнуть Герасимова кому-то вряд ли теперь удастся. – А Урсуляк и не пытался переплюнуть. Он говорил, что снял свой “Тихий Дон”, без оглядки на Герасимова. – На мой взгляд, получилось не очень. Хотя, безусловно, Урсуляк талантливый человек. – Говорят, Вы с Шолоховым лично встречались… – Да, я тогда был студентом 1 курса ВГИКа сценарного факультета. Влюбился в девушку Тамару Захарову: кстати, увидел ее тогда еще на улице Энгельса в Ростове-на-Дону. Познакомился. Понимал, что никогда ее не оставлю, – в итоге она стала моей женой. Наша семья жила на Украине очень бедно, своей хаты даже не было. А мне надо было приехать в Ростов-на-Дону к ней, но денег не было. Как скажет потом моя будущая теща: «голожопый». Тогда пошел в редакцию журнала «Советский экран», попросил дать мне командировку и оплатить проезд на Дон. В редакции мне сказали: «У Шолохова 65-летний юбилей. Если возьмете у него интервью, то оплатим плацкартный билет туда и обратно». Выдали справку на командировку. Я приехал в ростовскую газету «Молот», где до ВГИКа работал инженером-технологом. Спрашиваю у них: «Как мне в Вешки попасть? К Шолохову». Они: «Да он тебя не примет – кто ты такой? Простой студент, да еще и одет плохо». Но все же подсказали, что тот часто бывал в гостинице «Московская», там у него был даже свой номер. И когда он приезжал, то обкомовские ребята крепко гуляли с великим писателем. Мне пообещали сказать, когда он приедет. Посоветовали: «Ты к нему туда придешь и постараешься взять интервью. Мол, после вечеринки он будет расположен». Но я-то не знал, как все повернется…. – И как? – Мне сказали, что надо прийти пораньше, а то желающих увидеть живого Шолохова в гостинице очень много. А он то ли на третьем, то ли на четвертом этаже останавливался. Я поднялся по лестнице. Смотрю: народууу! И все ждут! И вот выходят обкомовские ребята в фетровых шляпах. И Михаил Александрович тоже в шляпе. Невысокого роста такой, краснолицый, рыженький. Я отодвигаю толпу, выхожу к нему и говорю: «Здрасьте, Михаил Александрович!» Он так странно посмотрел на меня. А я продолжаю: «Я студент первого курса. Меня зовут Виктор Мережко. Хочу спросить, как вы относитесь к фильмам, которые сняты по Вашим великим произведениям». Он берет и отодвигает меня в сторонку. Обкомовские люди вышвыривают меня за стоящих зевак. Я понимаю, что шанс еще есть, и бегу на этаж ниже. Опять прорываюсь сквозь толпу и говорю: «Здрасьте, Михаил Александрович. Я студент первого курса. Мне нужно взять у вас интервью, тогда мне оплатят проезд туда-обратно. Пожалуйста, как вы относитесь…» Но договорить не успеваю. Он опять меня отодвигает, и меня снова вышвыривают за живую стену из зевак. Я – еще этажом ниже. Снова к нему: «Здрасьте, Михаил Александрович». Но на это раз протягиваю ему листок бумаги со словами: «Если нет возможности сказать, напишите «Привет читателям «Советского экрана». Мне оплатят проезд плацкартный». Меня уже хотели вытолкнуть, а он сказал: «Не трогайте хлопчика!» Потом говорит: «Иди сюда поближе, поближе… Ухо дай – ближе, еще ближе». А потом как заорет: «Пошел на…». Ну кого еще так великий писатель мог послать? Я потом долго смеялся. – А самому-то Вам пишут молодые авторы? – Пишут, но я, как правило, в эту переписку не включаюсь. Это отнимает время. Кроме того, боюсь обидеть людей, если мне это не понравится. Я же не идеален в этой своей вкусовщине. Вчера мне на встрече в Публичной библиотеке попытались дать книги со словами: «Прочитайте, может сценарий напишите!» Но у меня в голове столько своих сюжетов! Дай бог, с ними разобраться. – И небольшой блиц-опрос: назовите Ваше самое яркое воспоминание детства. – Когда я просил милостыню на вокзале в городе Грозном. Мы очень бедно жили. С родителями ехали с Каспия в сторону Моздока, денег не было, только мешки, чемоданы и четверо детей. Отец с фронта вернулся хромой, но привез красный аккордеон. Я на нем научился играть «Цыганочку» и «Светит месяц…». Помню, мать ко мне обратилась: «Сынок, у нас нет денег. Пойди, поиграй – может, нам милостыню бросят». Помню и танцевали, и бросали. – По-Вашему, абсолютно счастливый человек – это..? – Тот, который любит свою семью и своих детей. Он востребован в своей профессии. – То есть это Вы? – То есть я. – Чего бы Вы не смогли никогда простить? – Предательства. – Вы бесчисленное количество раз давали интервью. Какого вопроса Вам еще не задавали? – Готов ли я убить человека? – Готовы? – Нет. Рука не поднимется. 1 октября 2018 год
Владимир Войнович: “Я не верю, что “Тихий Дон” написал Шолохов”
26 сентября 1932 года родился писатель Владимир Николаевич Войнович. Судьба подарила мне встречу с ним в Ростове-на-Дону. Помню, как запоем, вечера за три, «проглотил» в студенческие годы «Чонкина», а некоторые эпизоды тут же перечитывал. Я однажды уже видел Войновича. В Москве. На записи телепередачи Соловьева «Поединок». Но тогда видел его издалека, жалея, что не смогу пожать ему руку, попросить автограф, задать вопрос. Все это я восполнил с лихвой, но уже через много лет. Ниже я привожу заметку собственного авторства, размещенную на сайте «Комсомольской правды». В Донской государственной публичной библиотеке прошла творческая встреча с популярным русским писателем Владимиром Войновичем. В Ростове его встретили бурными аплодисментами. Он сразу оговорился, что основательно простужен и вообще хотел отказаться от поездки в Ростовскую область, но случайно в интернете увидел анонс своей творческой встречи и сказал себе: «Надо, Федя!». В России писатель больше чем писатель. Эта истина становится неоспоримой. Войновичу все чаще задавали вопросы о политике, о том, почему же мы так плохо живем, а не о литературе. Но все – таки автор «Чонкина» покритиковал нынешнее поколение писателей и телеведущих за «не очень хороший русский язык». В этой связи досталось даже популярному тезке – Владимиру Познеру: – Я замечал, что даже Познер говорит “двутыщедвенадцатый год”, – улыбается Войнович, – так что современным авторам неплохо было научиться говорить по-русски правильно. Один из литературных вопросов о Михаиле Шолохове. – Я не верю, что гениальный «Тихий Дон» написал Шолохов. Не мог девятнадцатилетний мальчишка из станицы создать такое произведение. – Это не аргументировано и недоказуемо! – громкий голос из зала. – Как недоказуемо и обратное, – парирует Войнович.- Надо просто читать «Тихий Дон» и восхищаться этим романом. Это великое произведение! Я, кстати, сказать, не верю, что автор «Тихого Дона» и романа «Они сражались за Родину» один и тот же человек. Это произведения совершенно разного порядка и сравнения не в пользу последнего. Но это мое личное мнение. Владимир Николаевич, кажется, писал во всех жанрах: фельетоны, повести, рассказы, романы, стихи, сатирические сказки. Сегодня готовит своим читателям сюрприз. Как сам говорит небольшой роман или большую повесть, основанную на современном материале. На встрече Владимир Николаевич читал свои произведения, как прозу, так и стихи и отвечал на все, пусть даже не совсем понятно сформулированные вопросы. Один из последних: о том, как автор относится к смерти, боится ли он ее? – Я ее ожидаю, – с улыбкой ответил Войнович. P.S. А эту коротенькую историю, которую рассказал Войнович, редакторы подверстали к материалу. Байка от Войновича Разговаривают два писателя: – Вообще-то мы, конечно, малозначительные писатели. Наверняка нашим произведениям уготована недолгая жизнь, но нам не стоит огорчаться по этому поводу. Ну, есть большие писатели, есть маленькие, как мы. Это все равно, что огорчаться маленькой собаке по поводу того, что на свете существуют большие собаки. Тем, кто это говорил, был Антон Чехов. А его слушателем Иван Бунин.
Как Шолохов балет утверждал
О балете “Тихий Дон” и о знакомстве с Михаилом Александровичем Шолоховым рассказал композитор, Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор и долгие годы секретарь российского Союза композиторов Леонид Клиничев. Мы встретились с Леонидом Павловичем в эфире программы “Между тем” именно 24 мая – в день рождения Михаила Шолохова. На дворе был юбилейный год – 110 лет со дня рождения классика. В станице Вешенской гремит Шолоховская весна. Говорить в этот день на другую тему не хотелось. А Леонид Павлович мало того, что лично был знаком с Шолоховым, так еще и написал балет «Тихий Дон». Мне показалось, что программа может получиться не шаблонной и интересной. Вот некоторые, на мой взгляд, любопытные выдержки из этого интервью. – Чтобы написать балет, нужно было спрашивать у Шолохова на это разрешение? – Конечно. Хотя я уже дважды виделся с Михаилом Александровичем и был ему представлен Леоном Борисовичем Мазрухо (кинооператор-документалист, который дружил с Шолоховым и снимал вручение ему Нобелевской премии – прим. авт.), однажды, когда Леон Борисович поехал в Вешки, пару дней пожить у Шолохова, я попросил его узнать у писателя, как бы он отнесся к написанию балета «Тихий Дон»? К тому времени у меня было достаточно материала и я был готов серьезно засесть за работу. – Мазрухо привез сразу положительный ответ? – Он не привез никакого ответа. Сказал, что Шолохов задумался, долго размышлял, дымя сигаретой, но так и не сказал ни «да», ни «нет». – И что же? – Леон Борисович предложил, ты – пиши, а потом отвезем вариант и посмотрим на реакцию. Но мне кажется, он не стал бы мне такое предлагать, если бы Шолохов совсем ничего не сказал. Уже потом мне сам Михаил Александрович признался: я сказал – попробуйте, может быть и такое возможно. Для него это было, конечно, необычно – балет «Тихий Дон». Хотя и опера ведь есть, но балет – искусство особенное все-таки. – Признайтесь, сами попросили Мазрухо познакомить вас с Шолоховым? – У меня даже в мыслях такого быть не могло. Для меня Шолохов был слишком недосягаемой фигурой, чтобы с ним знакомиться. Но, конечно, я благодарен судьбе за это знакомство. Когда мы во второй раз встретились, он мне сказал фразу, которую я на всю жизнь запомнил. Он сказал, что многое в жизни видел и понимает, но вот как пишут музыку, понять не может. Представляете, что в душе молодого композитора при этом происходило? – Какое впечатление на вас произвел живой классик? – Я в первые секунды знакомства словно заледенел. Скованным был жутко. Но зато и оттаял довольно быстро. Шолохов знал, как мгновенно расположить к себе человека. Я тогда задал вопрос Леониду Павловичу и том, почему же балет «Тихий Дон» мы так и не видели на сцене Ростовского музыкального театра? Ведь прошел же он с успехом еще тогда в Ленинграде, а потом в Москве, ни где-нибудь, а в Большом. И зрители стоя аплодировали. Профессор Клиничев ответил так, как ответил. Он сказал, что возможно Ростовский музыкальный еще не был тогда готов к этому. В балете по замыслу участвует и большой хор, и сцена должна быть определенных параметров. Но, мне кажется, есть в этом ответе и доля не намеренного, но все же лукавства. Думается, что любой композитор был бы счастлив увидеть свое творение у себя на родине, да и где же еще показывать балет «Тихий Дон», как не на Дону? Значит, не все зависит от автора. Что ж, будем ждать. Возможно, и этот вопрос когда-нибудь будет решен.
Владислав Ветров: «Надо быть очень наглым человеком, чтобы хотеть сыграть Чехова»
О «своем» Таганроге, влиянии Антона Чехова на современного человека и самой затяжной роли в кино рассказал заслуженный артист России Владислав Ветров. «Вы откуда? Я из Таганрога. А это где?» – Влад, я знаю, многие уверены в том, что ты в Таганроге родился, но это же не так? – Не так. Родился я вообще на аэродроме ( отец актера по профессии военный лётчик – прим.авт.), в другой советской республике. Но уже с раннего детства, лет с четырех, моя родина – это Таганрог. Моя мама – коренная таганроженка в этот город привезла всю семью и с тех пор я жил, взрослел, поступил в институт и развивался здесь. – Говорим Таганрог – подразумеваем Чехов – это для тебя верная формула? – Абсолютно. Чехов для меня был круглосуточным. И в школе, и дома. Очень повлияли на мое восприятие Антона Павловича мамины рассказы о гимназии, где Чехов учился. Потом эта гимназия стала женской, мама ее оканчивала. И, конечно, рассказы Чехова постоянно присутствовали в моем литературном меню. И всегда люди, которые не знают, что есть такой город Таганрог, вызывали у меня искреннее удивление. Бывает, спрашивают: вы откуда? Я из Таганрога. А это где?» Сейчас Чехов идет вторым после Шекспира по читаемости пьес и по количеству постановок по его пьесам. Но мне кажется, он первый. Он все время остается современен. Я думаю, что самый черствый человек должен обязательно растаять, прочитав всего пару рассказов Антона Павловича. – Я не раз слышал, что пьесам Чехова обязательно нужен режиссер. Не все так ясно и понятно с прочтением его драматургии, а вот если режиссер увидит подтекст и это видение перенесет на сцену, вот тогда – да. Пьесы его заиграют разными цветами радуги. Это лукавство по-твоему? – И да, и нет. Но Чехов в любом случае откроется каждому свой. Будь ты артист, режиссер или человек из публики. Сейчас уже концептуальные решения имеют значения, не хочется быть похожим на всех остальных, но ведь вопрос в том, что Чехова можно «крутить» по-разному. Читая его или смотря на его героев на сцене, в кино мы видим простые, прозрачные ситуации, которым не посочувствовать невозможно, вот что главное! К Чехову необходимо обращаться, когда есть на то нужна. Вот, например, сегодня во времена пандемии, театр «Современник» затеял проект «Доктор Чехов», мы с товарищами читали его рассказы. Это бездонная тема. – Кажется, Эдуард Лимонов в нашей студии говорил, что литература имеет свойство стареть. Некоторых авторов не хочется перечитывать, нет нужды к ним возвращаться. Чехова, надеюсь, еще лет сто минимум будут читать, а может быть и больше. В чем этот феномен, на твой взгляд? – Не понимаю, как может устареть сочувствие к ближнему? Как может устареть человек в нелепой ситуации, когда он не знает, чем начнется его день и чем он закончится. Ну как? Это природа человеческая. Чехов очень близок и как доктор к этой природе, ведь он знает и слабости, и сильные стороны человека. И этот его особый почерк, по которому сразу понимаешь, когда начинаешь читать, что это именно Чехов. Возьмите и «Скучную историю», и «Рассказ неизвестного человека», да любое его произведение. Это изысканный слог, очень тонкая литература. Думаю, это не устареет никогда. «Я поднимался на локтях с кровати 12 часов» – Фильм «Невечерняя», где ты сыграл роль Антона Павловича, снимался 16 лет. Марлен Хуциев эту работу не закончил. Я читал, что фильм снят, озвучен, но не смонтирован, тебе судьба его известна? – Я не знаю, насколько он снят. Сценария от первой до последней страницы я никогда не видел, потому что его собственно и не было. Это абсолютно авторская история, Хуциев мог принести 3-4 листа текста и сказать на площадке: а давайте-ка сегодня вот это сыграем, понимаешь? У меня к этому фильму, как к цельному произведению отношения нет. Я полностью и безоговорочно доверял Мастеру и всё. – Сколько эта история снималась. Там какая то немыслимая цифра, по-моему, больше десяти лет, да? – Мы начали в 2003 году. Озвучили в 2018. Вот и считай. – Тебе случаи таких длительных съемок известны вообще. Мне кажется, что это как минимум Книга рекордов Гиннеса. – Я думаю, да (смеется). Так заниматься ролью в кино мне, конечно, еще не приходилось. Я понимаю, когда спектакль на протяжении 10-15 лет играют, а вот кино… Хотя, это помогло мне вскрыть какие-то резервы свои актерские, которые в текучке никак не проявляются. Удивительно, когда тебе Мастер говорит все время одну фразу: «Не торопитесь, Влад». Но ведь никто не знает, как долго надо снимать фильм, чтобы он получился, правда? Мы 12 часов снимали эпизод, где Чехов в больнице приподнимается на локтях с кровати. Была уйма дублей. И это не предел. Хуциев должен одухотворить каждую деталь, каждую фразу актера в кадре. «Увидев меня, Хуциев расстроился. Я на Чехова совсем не похож» – Самым сложным для тебя, что было в этой работе? – Любой кадр там был очень технически насыщен. Представь, 22 позиции, очень долго все снималось, и надо было это все запомнить, конечно. Потом, я не знал ведь, что было до и что будет после того, как ты свой эпизод сыграешь, а это тоже актерки настораживает. – Я думал, что ты скажешь, что самым сложным было совмещать эту работу с театром, нет? – О, да! Приходилось лгать худруку театра «Современник» Галине Борисовне Волчек, например. Она мне не позволила сниматься, потому что понимала, что это процесс долгий. И к ней приходил Марлен Мартынович, говорил – мне нужен Ветров на три месяца! На что она, затянувшись сигаретой, ответила: Марлен, ты будешь снимать шесть лет. Хуциев заплакал, я его догонял, успокаивал. Все начиналось сначала. Мне приходилось на перекладных добираться до Ялты и обратно, все это между спектаклями. Это было сложно, конечно. – Тебе сразу предложили эту роль или были еще претенденты? – На кастинге я был последним. Наверное, все были утомлены поисками (смеется). Когда я первый раз появился, он очень расстроился, но когда грим примерили и были видеопробы тут же, он после оживился и мне потом говорил: я увидел чеховские глаза. – А расстроился, потому что ты был совершенно не похож? – Ну, конечно. Какой я внешне Чехов? Но на то есть разные актерские хитрости. Тут нажо дождаться появления «персонажа». – Ты говорил, что Чехов с тобой с детства. А мечты воплотить его образ на сцене, на экране не было? – Нет, конечно. Это наглость большая – хотеть сыграть Чехова. Он же уже отчасти и нереальный человек, понимаешь, в чем дело? Он настолько нужен нам в повседневной жизни, что мы, конечно и причесали его биографию, и придумали какие-то несуществующие стороны его характера. Но это необходимость. Он мифологическая для меня фигура. С ним хочется проводить какие-то параллели и своей судьбы. Если он смог, почему ты не можешь? Ведь ничего не предполагало, что он станет большим писателем. Все было против. А он смог. – Если поступит предложение еще раз сыграть Чехова в каком-то из проектов, войдешь в эту воду опять? -Нет. Я, кстати, уже и отказывался от таких предложений. Это можно делать где-то рядом со Сталкером, каким был Хуциев, а так нет.. ради сиюминутной истории, я бы не рискнул. 29 января 2021 год
Иван Кононов: “Левый берег Дона” родился в Москве”
В 2020 году 33 года исполнилось популярной песне “Левый берег Дона”. Вспоминаем разговор с автором шлягера, поэтом, телеведущим и продюсером Иваном Кононовым. Он ростовчанин, но давно уже живет и работает в Москве. Известен всегда исполнитель – Иван Арсеньевич, я прочел как-то в одном ЖЖ, что пишет о песне «Левый берег Дона» житель Ростова-на-Дону. Цитирую: «В субботу жена вывезла меня на так называемый азовский «машинный пляж» и по дороге она сказала, что именно здесь Константин Ундров написал легендарную песню «Левый берег Дона», где-то в конце 80-х — начале 90-х годов». Вот так некоторые дончане думают об авторстве этой песни. Вас не обижает эта история? – «Обижает» немножко не то слово. Она меня обескураживает. Я не знаю, как на это реагировать. Ну, во-первых: написал эту песню ваш покорный слуга. Во-вторых, написал не на левом берегу Дона, а в Москве, в Казарменном переулке. Меня обижало то, что про Одессу-маму очень много поют, а про Ростов-папу таких особенных шлягеров нет. Это было в 1987 году. Но именно на следующий год я, работая в молодежной редакции ЦТ, показал Сереже Соколову текст. Он мгновенно написал мне в блокноте телефон и сказал: «Позвони. Чувак талантливый пропадает, ему делать нечего. Он может это спеть». Этим «чуваком» оказался Константин Ундров. Я к нему приехал и застал одиноко живущего, спивающегося человека, к тому же пел он тенором, а мне казалось, что песня моя должна звучать баритоном. Ундров посмотрел текст, буквально ожил у меня на глазах и через некоторое время со своими друзьями музыкантами соорудил совершенно восхитительный вариант этой песни, который стал классическим. Я ему благодарен. Костя для меня – соавтор мелодии «Левого берега», это абсолютно заслуженно. Но вот, как-то так случилось, что его стали считать автором этой песни. Известен всегда исполнитель. Это беда любого автора. – Но родился же потом, так называемый, «ростовский» цикл? – Да, ты прав. Я предложил Косте записать альбом. Одну песню же не выпускают. И появились в течение года, наверное, другие песни. «Три поросенка», «Речка Темерничка», «Каштаны», «Я родился и вырос в Ростове». Но для меня вопросы авторства тогда не имели огромного значения, это не было моей жизнью, моей работой, а для Ундрова это была именно его жизнь и его работа. И помимо того, что Костя очень был творческим человеком, он оказался еще и хорошим организатором. Он имел дружескую связь с одним из владельцев киосков «Союз», а это было что-то типа сегодняшних социальных сетей. И песни попали в эти киоски. А там пошло-поехало. – А с Шуфутинским как произошло знакомство? – В 1992 году я стал работать редактором 4 канала и мне сообщили, что приезжает Михаил Шуфутинский и что он спел «Левый берег Дона». Я пригласил Михаила Захаровича в эфир, сказал ему, что я автор этой песни и даже пообещал в суд на него подать. Так мы и подружились (смеется). Наше сотрудничество продолжилось. Он поет еще «Ты прости меня, бродягу батька Дон» и «Обожаю я тебя». Это тоже мои песни. Ростовчанин – это штучный товар – Как бы вы определили, кто такой ростовчанин? – Это человек, для которого его «самость» на первом месте. Мне друзья, как-то сказали, ты когда в Ростове бываешь, надо, чтобы на тебе табличка висела «Иван Кононов». А я ответил, что в Ростове каждый мужик с такой табличкой. «Я Пупкин Вася» и видел я вас всех в одном месте. Хотите дружите, не хотите — идите куда подальше. Ну, это шутка, конечно. Ростов — это самый интернациональный город в России, я считаю. Ростовчанин — это штучный товар. Мой Ростов – он начинается от Зоопарка до Нахичеванского рынка, наверное. Жил я в районе Театральной площади мальчишкой. И вот как раз мой Ростов похорошел и если изменился, то в лучшую сторону. Я поздно для себя открыл, например, Парамановские склады. Они меня потрясли. Еще больше меня потрясло то, что с ними сейчас происходит. Очень переживаю. Это достояние историческое надо сохранить обязательно. Я мечтаю о том, что на левом берегу будет фестиваль, который так бы и назывался «Левый берег». Но это же как: надо выходить на каких-то людей, договариваться, обсуждать. Нужно время для этого, которого нет. Если активные ростовчане подключатся, может быть все и состоится.
Михаил Бушнов: вспоминая легенду ростовской сцены.
21 октября 1923 года родился прекрасный актер, педагог, народный артист СССР Михаил Ильич Бушнов. Мне довелось неоднократно с ним встречаться, видеть его на сцене. Сегодня хочется вспомнить о нем без пафоса. Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ростова-на-Дону и Ростовской области, корифей ростовского театра им. М. Горького. Когда его не стало, ему исполнился 91 год. До последних дней ясный ум, поставленный голос, юмор, который казалось, он извлекал легко, словно фокусник из карманов именно в тот момент, когда это было необходимо. Его часто можно было увидеть прогуливающимся по Пушкинской, а раньше (когда здоровье позволяло), он на велосипеде приезжал на Набережную порыбачить. Я всегда здоровался с ним, останавливался, говорил, что моя жена (она была его ученицей) передает ему привет. В театре в последнее время ему трудно было передвигаться по сцене (нога подводила), рассказывают, что он нет-нет, да забывал текст, но неизменно, когда он появлялся на сцене, зал оглушали аплодисменты. В последний раз мы виделись не в театре. Я пригласил Михаила Ильича принять участие в презентации очередной коллекции «Комсомольской правды» – «Великие советские фильмы». До начала мероприятия он взял меня под руку: «Где у вас тут курят? Пойдем». Коротко поговорили о Николае Евгеньевиче Сорокине (режиссер, художественный руководитель ростовского театра драмы, ученик Бушнова. Умер в марте 2013 года – прим. авт.). Смерть Сорокина его подорвала. Тогда в курилке он все время повторял: «Не знаю, что теперь будет с театром» и голос его дрожал. Потом, как истинный большой актер он солировал на презентации коллекции. Бушнов, как впрочем и всегда, говорил много и ярко, перебить его было невозможно, а слушать интересно. Без юмора он, казалось, жить не мог. В тот же день, я попросил его оставить для меня автограф и он написал: «Владимиру на долгую память. Народный артист СССР Михаил Бушнов. 1913 год». – Это я так подчеркиваю свой почтенный возраст, – улыбнулся артист. Приведу несколько коротких историй, связанных с Михаилом Ильичом. Сегодня хочется вспоминать его, не говоря “дежурных” или пафосных слов. Имею право Моя жена рассказывала, что во время учебы они всей группой часто бывали у Бушнова в гостях. Вечером свет у него в квартире горел даже в тех комнатах, где в этот момент никого не было. – А свет-то надо выключать, Михаил Ильич, – шутливо укоряли ученики. – Ничего, – махал мэтр рукой и улыбался. – Я почетный гражданин города и имею право пожить в нормальном освещении! Ходоки у Бушнова Владимир Ильич Ленин шагнул широко не только в историческом, но и кинематографическом смысле. Возможность сыграть роль вождя мирового пролетариата на сцене или в кино в советское время считалась для актера знаком особого доверия. Кто из маститых актеров только не применял на себя этот монументальный образ! Михаил Ильич исполнял роль Ленина на сцене ( в пьесе М.Шатрова «Дальше…дальше…дальше») и даже в кино. Был такой фильм в 1991 году «Непредвиденные визиты», где Бушнов играл эпизодическую роль театрального актера – исполнителя роли вождя. Когда Михаил Ильич водил экскурсии по своей квартире (а посмотреть там есть на что), гости всегда замечали, казалось, до боли знакомую картину из учебников и энциклопедий: полотно кисти Владимира Серова «Ходоки у В.И. Ленина». Человек, воспитанный в советскую эпоху без труда воспроизведет в памяти круглый столик, два кресла накрытые белыми чехлами, сосредоточенное лицо вождя, готового записывать просьбы в раскрытый блокнот и мужиков в тулупах напротив Владимира Ильича. Помню, как уже в университете с одним из преподавателей мы заговорили об этой картине, и он устраивал нам, вчерашним школьникам тестирование: а кто помнит, сколько ходоков на картине? А сколько из них сидит, сколько стоит? На всякий случай скажу, что у Серова ходоков – трое, двое из них удостоены чести присесть. Кажется, я отвлекся. Так вот в одной из комнат в квартире Бушнова репродукция этой картины. Только, как вы уже, наверное, догадались лицо у вождя не Владимира, а Михаила Ильича. Компьютерные технологии сделали свое дело. Получились «Ходоки у М.И. Бушнова». – Это подарок Шахтинского театра, – говорил Бушнов, указывая на картину. – Вот таким они меня увидели. И снова о Ленине Не знаю до сих пор, байка это или нет. Я слышал ее не от Михаила Ильича лично, так что судить о достоверности не могу. Но история мне тогда понравилась. В новочеркасском театре играли спектакль, где была и роль Ленина. Новочеркассцы обратились к своим ростовским коллегам за помощью: стоит ли вводить на небольшую роль вождя отдельного актера, если этот образ отлично обыгран таким прекрасным исполнителем, как Бушнов?! Гримировался Михаил Ильич в своей ростовской гримерной и театральный “рафик” вез актера в Новочеркасск на спектакль уже в “образе”. Однажды на трассе водитель превысил скорость и микроавтобус был остановлен инспектором ГАИ. Тот проверил у водителя документы и спросил, кто у тебя там в салоне? – Ленина везу, – простодушно ответил водитель. Как известно, шутить с представителями власти иногда небезопасно. Страж порядка воспринял такой ответ, как издевку. Начал отчитывать должника. А время-то идет! Бушнов (заметьте, в гриме Ленина) решительно распахивает дверь микроавтобуса и голосом вождя, спрашивает: – У нас все в поядке, товаищь? Мы можем ехать дальше? Надо ли говорить, что инспектор отпустил нарушителей. На спектакль тогда все-таки успели.
Игорь Богодух: «Я по ощущениям до сих пор физкультурник»
– Чем мне всегда нравилось кино, так это тем, что после съемок можно было продолжать общаться с актерами и дружить, а можно было этого и не делать. Сняли фильм, разъехались и все», — рассказывал мне Народный артист РСФСР, актер театра и кино Игорь Богодух. – Благодаря кино у меня появились настоящие друзья: например, Софико Чиаурели, Георгий Кавтарадзе. Сколько раз мы с ними встречались, общались много лет, а с Кавтарадзе сделали еще и мощного «Короля Лира» в ростовском театре драмы. В театре же дружить очень сложно. Это организм особый. Я до сих пор боюсь сказать что-то не то в присутствии своих коллег по сцене и, признаться, не очень-то уютно чувствую себя в театре. Я по ощущениям до сих пор физкультурник». Заметьте, это сказал человек, прослуживший в театре без малого пятьдесят лет. В 1960 Игорь Александрович окончил Ростовский пединститут (факультет физического воспитания и спорта), а через четыре года был уже выпускником Ростовского училища искусств. Из ростовской труппы, которая сложилась в последние десятилетия, наверное, нет больше человека, который бы так часто снимался в кино, оставаясь актером регионального театра. Больше десятка ролей в кино. Среди них господин Морель в «Узнике замка Иф», Антонио в «Миллион в брачной корзине», Алька Спиридонов в детективе «Привал странников». У большого человека и эмоции крупного калибра. Например, Игорь Александрович рассказывал, что кричал на худсовете на Кирилла Серебренникова, когда тот выпускал в театре Горького свои «Маленькие трагедии». Уж очень нетрадиционным был взгляд молодого режиссера на творение Пушкина. А с журналистами вообще — история особая. Переврут, вырвут из контекста — не очень люблю вашего брата, признавался Богодух. Но и чувство юмора Народному артисту не изменяет. Работая на радио «Комсомольская правда» звоню Игорю Александровичу, чтобы пригласить его к участию в одном нашем проекте. Знаем мы друг-друга давно, общаемся доверительно. Я и говорю: «Вы можете подготовиться, а я вам после перезвоню и запишем вас голос. Можете меня, конечно, и послать куда подальше». «Конечно второй вариант для меня предпочтительнее», — сразу ответил Богодух, абсолютно серьезным тоном. — «Но раз уж ты набирал мой номер, трудился, давай перенесем наш разговор на завтра». Сказал – как отрезал Обожаю Игоря Александровича Богодуха! 4 марта — в день его юбилея, с удовольствием в очередной раз ему в этом признаюсь. Звоню накануне, чтобы пригласить его к участию в радиоэфире. Представляюсь. Поздравляю с уже наступившим Днем защитника Отечества. Спрашиваю о том, как сейчас работа в театре, что новенького? «Все, говорит, слава Богу, хорошо». И пока я набираю в лёгкие воздуха, чтобы пригласить его на эфир, он говорит: «Вовочка, ты хороший человек. Но ничего никому говорить, и никуда приезжать — не буду!». Богодух прекрасен! Никаких осадков «Короля Лира» в театре драмы им. Горького ставил Георгий Кавтарадзе — грузинский режиссер. Мне посчастливилось присутствовать на премьере этого великолепного спектакля и получить колоссальное удовольствие от сценографии, актерских работ и режиссерских находок. Например, герои спектакля действовали в костюмах сегодняшнего покроя, охрана Лира была облачена в камуфляж, а сам Лир произносил свою речь стране у микрофона. Сегодня этим никого не удивишь, но тогда это действительно смотрелось новаторски. Одна из подобных находок меня по-настоящему потрясла. Когда Лир произносил свой основной монолог, в момент его кульминации зрителей оглушал шум грозы и сверху начинал лить настоящий дождь! Это приводило публику в восторг и последние слова Лира тонули в овациях. На тот момент я не видел ничего подобного и после рассказывал взахлеб друзьям и знакомым об этой потрясающей «фишке». Но от этой находки, увы, пришлось довольно быстро отказаться. Дождь, который так эффектно выглядел на сцене стал угрозой здоровью исполнителя главной роди — Игоря Богодуха. Рассказывают, что он несколько раз простужался и в итоге дождем пренебрегли.
Игорь Богодух умер 19 марта 2020 года в Ростове-на-Дону
Николай Сорокин: “Деточка, приходи в театр…”
С Народным артистом России, актером, режиссером, художественным руководителем театра им. Горького меня познакомило телевидение. Мы неоднократно общались в программе «Тема для разговора», встречались в театре, на различных мероприятиях в городе. Всегда здоровались, разговаривали, он обращался ко мне своим незабываемым неповторимым тембром: «Деточка, приходи в театр, вот я сейчас ставлю….» и рассказывал о новой горьковской постановке. Однажды, я неожиданно встретился с Николаем Евгеньевичем в вагоне-ресторане фирменного поезда «Тихий Дон» (Ростов-Москва). Вагон был почти пустой, но за одним из столиков компания взрослых людей: громко переговариваются, кто-то смеется. Среди голосов узнаю знакомый скрипучий тембр. Николай Евгеньевич что-то весело рассказывает, глаза озорные — понимает, что говорит заразительно и смешно. Я заказываю пиво, пока сижу в ожидании, прислушиваюсь: профессиональное любопытство побеждает во мне. Вдруг Сорокин бросает беглый взгляд в мою сторону. Задерживается. Я киваю. Он громко, на весь вагон говорит: — А я тебя узнал! Отвечаю: — Я вас тоже, Николай Евгеньевич. Сорокин смеется и машет рукой: садись к нам. Вежливо отказываюсь, мол, не хочу вам мешать. Тут уже ко мне поворачивается мужчина крепкого телосложения и настойчиво предлагает присоединиться, представляется директором вагона-ресторана. Мое пиво принесли уже за столик шумной компании. – Хорошие у тебя передачи, — говорит мне Сорокин, чуть захмелевшим голосом, — и телеканал у вас хороший (ТРК «Южный Регион» — прим. авт.). Соглашаюсь. — И хотя я очень люблю Дон-ТР и Коля — мой друг (Николай Иванович Чеботарев — генеральный директор ТРК «Дон-ТР» -прим. авт.), вы все-равно молодцы! Тут Сорокин выжидает настоящую мхатовскую паузу и стремительно, будто выстреливает из пистолета, задает вопрос: — А знаешь, почему у вас все хорошо???!!! Я даже растерялся. — Нет, — пожимаю плечами. И тогда он медленно, чеканя каждое слово, говорит: — Потому что. За вашей спиной. Стоит театр Горького! И столько в этих словах, пусть и сказанных в легком хмелю, искренности, убежденности. (Дело в том, что театр Горького расположен напротив здания Управления СКЖД, где на 4 этаже много лет располагалась студия телекомпании «Южный Регион»). Мы виделись множество раз после этого разговора. Во время моей работы в «Комсомольской правде», дважды приглашал Николая Евгеньевича к нам в пресс-центр поддержать наши книжные коллекции, и он никогда не отказывал. Приходил точно ко времени. И говорил всегда прекрасно, заразительно и эмоционально. Сорокина не стало в марте 2013 года. Я был в театре у его гроба. И до сих пор, когда я прохожу мимо здания театра, часто слышу его голос: «Деточка, приходи в театр, вот я сейчас ставлю…» Импровизатор А эту историю про Сорокина рассказал мой коллега, журналист Геннадий Гордеев. В середине девяностых я работал менеджером по рекламе у национального ритейлера, зашедшего с бизнесом в Ростов. Открывали магазин электроники. Я пригласил Николая Евгеньевича в качестве ведущего церемонии открытия. Статусно, ведущий — народный артист. И вот Николай Евгеньевич, одетый в белый костюм с бабочкой, выводит экспромтом рулады: «Обратите внимание! Какие светлые стены! Какая современная техника! Какие красивые сотрудники! А что здесь было раньше?! О! Я хорошо помню, что здесь было раньше! Здесь была поганая грязная забегаловка, где можно было залпом выпить стакан теплой водки, закусив хвостом ржавой селёдки!» Народ в экстазе смеётся, а мой директор белеет лицом. А рядом с ним неизвестная мне женщина вдруг покрывается слезами и убегает прочь. Оказалось, на открытие пригласили хозяйку помещения, которая сдала его нашей фирме в аренду. А как раз она была много лет директором, а потом владельцем этого кафе с «теплой водкой и ржавой селёдкой») А меня нет, всё-таки не уволили. Но на следующее корпоративное мероприятие я уже пригласил ведущим талантливого молодого артиста Влада Ветрова. Но это уже другая история. Многие известные режиссеры любят ставить чернуху, а я не хочу, чтобы у нас это ставили, хотя это модно. Я однажды сказал Роману Виктюку: не привози пожалуйста «Заводной апельсин» или «Маркиз де Сад», они поднимаются, зрители, и уходят, причем шумно, хлопая креслами! Николай Сорокин. Из интервью
Фото для Веры Васильевой
Вера Васильева — народная артистка СССР, актриса Театра сатиры, прославившаяся главными ролями в фильмах «Сказание о земле сибирской» и «Свадьба с приданным». Я увидел ее на чеховском, кажется, фестивале в Таганроге среди почетных гостей в зале театра. Васильева была уже немолодая, но обворожительно красивая женщина с удивительно ясными глазами и ямочками на щеках, которые волшебным образом возникали, как только она улыбалась. Я решил улучить момент, подойти к ней и сказать самые добрые слова, которые только можно было сказать большой актрисе. И я подошел. И сказал. Это случилось уже на улице, когда делегация выдвинулась к городскому парку. Подумать только: я, начинающий ростовский журналист шел под руку со знаменитой Верой Васильевой, фильмы которой мои родители смотрели еще подростками. Мы о чем-то беседовали, но она говорила тихо, почти мне на ухо и слышать этот голос для меня было маленьким, сиюминутным, но все-таки счастьем. – А вас узнают на улице? — помню, спросил я. – Чаще да, чем нет, – ответила Васильева. – Хотя был один случай в метро, когда я сама спросила показать ли мне пенсионные документы, в надежде на то, что мне улыбнутся и пропустят без церемоний. но грозная такая женщина в форме сказала: «Покажите!» И я растерялась, стала искать в сумочке удостоверение, а она меня еще и грубо торопит. Неловкая ситуация. Я поняла, что меня не узнали. Тогда я почувствовала. как это страшно, оказаться вдруг таким, как все. В парке я попросил актрису со мной сфотографироваться. Она охотно согласилась. А после неожиданно попросила: «Володя, а можно фотографию отправить мне в Театр сатиры?» И увидев в глазах моих замешательство, сказала: «Просто напишите на конверте — Москва. Театр сатиры. Вере Васильевой». Мой знакомый ростовский фотограф Сергей Венявский — автор фотографии, позднее распечатал мне несколько штук. Одну из них я все-таки отправил в Театр сатиры. Получила ли фото Вера Васильева? Не знаю.
Иван Охлобыстин: “Как-то в торговом центре подросток меня окликнул: “Эй!” Я тогда очень разозлился”.
Вспоминаю свою давнюю беседу с Иваном Охлобыстиным. О зрителе, церковном сане, применении оружия и песне про отца Онуфрия. – Вас на улице как встречают? Нет такой своеобразной фамильярности: Ваня, давай сфоткаемся? – За все время, что я активно кручусь на людях, а началось это, наверное, с «Интернов»: как гвоздь в голову каждый день вбивали новую серию, я к себе фамильярного отношения не ощущал. Был один случай, когда в Москве в торговом центре меня подросток узнал и окликнул: «Эй!». Да так громко, весь этаж ко мне повернул. Я говорю: «Ты уверен, что «эй»? Он как-то сник сразу. Вот я злой был тогда. Пришлось фотографироваться еще с двадцатью людьми, а мне бежать надо, куда-то спешил. Вот, пожалуй, этот случай вспоминается. – А зритель на моноспектаклях бурно не реагирует? – А зачем? Как правило люди же идут для того, чтобы увидеть, послушать, а не выразить себя. Хотя разное бывает, конечно. Одна женщина в Риге, видимо из какой-то секты, стала на спектакле трясти бумагами и выкрикивать разоблачения в адрес ПЦ. Я ей ответил, что в этом деле ей не помощник. – В Википедии о вас написано: «Священник Русской православной церкви временно запрещенный в священнослужении”. Это как? И от чего зависит, чтобы снова стать разрешенным? – Это зависит от промысла божьего. А потом уже от меня. Я когда начал активно сниматься в кино, в социальных сетях было много критики на этот счет и я написал прошение Патриарху с просьбой запретить меня в священнослужении, пока я снимаюсь. Вот и всё. – Не обидела вас песня Слепакова про отца Онуфрия? – Слепаков мой коллега и если бы я был на его месте, я бы такую песню не написал. Но обида, это не то слово, которое тут уместно. Он извинился, кстати, при встрече, но с удовольствием продолжает ее петь. Ну и ладно. – Вы заявляли неоднократно, что вы монархист по убеждениям. – Да, и не скрываю. Я вообще сторонник имперских взглядов. Я не знаю, может ли быть у русского человека альтернатива этой идеологии? Она не оформлена никак сегодня, но она может обрести философский-идеологическую форму со временем, мне кажется. – Вы же еще и член «Изборского клуба». – Да. Это оплот консервативной мысли сегодня. Там Аверьянов, там Дугин, там Проханов — великий человек. – Владимир Познер вам в своей программе сказал, что империя — это почти всегда завоевание. – И это так. Знаете, бывает пьющий сосед. Он бухает и жену бьет. К нему надо время от времени наведываться и по горбу ему чем-нибудь давать, чтобы он, если пьет, то закусывал. – К оружию у вас особое отношение? – Как и у любого мужика, наверное. – Я так слышал, что вы согласны с нашим земляком Данилом Аркадьевичем Корецким в том, чтобы вооружить мирное население? – Согласен. Оружие — это очень ограничивающий фактор. Ерунда, что все станут по пьяни без разбору стрелять. Психологически люди не готовы к тому, чтобы содержать оружие, это так. Но это и плохо. Мы должны уметь с оружием обращаться. Было подсчитано, что если вооружить население то, при незначительном увеличении бытового травматизма будет многопроцентовый спад попыток на агрессивное поведение. Просто так уже за руку пьяным женщину не схватишь на улице, потому что она может из сумочки достать пистолет и прострелить тебе ногу. – В том случае, если умеет пользоваться. – Ну, это как с курением. Запретили в помещении курить, ты выходишь на улицу курить. Ты выпиваешь, но на работу же пьяным не придешь, понимаете? Самоограничение тоже важно. Оружие приносит стабильность в отношениях между незнакомыми людьми, я уверен. Мы можем быть в разных весовых категориях, разного возраста, но по гражданским возможностям мы с оружием станем одинаковыми. – Если выбирать, то прощать или не прощать человека? – Прощать. – Всегда? – Поймали (улыбается). Я считаю, что нельзя простить подлость. Потому что, если она прощается, то она поощряется. А вообще к людям нужно относиться по-христиански. То есть, принимать их такими, какие они есть. Так удобнее найти контакт к сердцу.
Валерия Байкеева: сценарист – самая бесправная профессия в кинопроизводстве
В нашей стране, к сожалению, именно так, – признается сценарист Валерия Байкеева. Публикую фрагменты нашей беседы в студии радио «Комсомольская правда». Байкеева написала такие сериалы, как «Власик. Тень Сталина», «Жуков», «Маргарита Назарова», «Эйнштейн. Теория любви». В 2018 году на экраны вышел полнометражный фильм «Несокрушимый». В основе фильма реальная история уникального подвига экипажа танка «КВ-1». Приняв неравный бой, экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области. Байкеева говорит, что от ее настоящей истории в фильме почти ничего не осталось, кроме, наверное, канвы сюжета. – У моего преподавателя была знаменитая шутка, – продолжает Валерия Рифатовна. – Ваша дальнейшая работа будет похожа на то, о чем я вам сейчас расскажу, – говорил он. Пушкин отправил своему издателю Плетневу первую главу «Евгения Онегина». «Дай только сразу обратную связь», – попросил Пушкин. Буду сидеть у телефона, ждать. Прошло время – не звонит Плетнев. Пушкин расстроился жутко. Выключил телевизор, раз десять выходил на балкон курить, но не выдержал и сам позвонил издателю. – Что ж, такое! Я же тебе прислал первую главу, сколько времени уже прошло, почему же ты мне ничего не отвечаешь?! Ну, скажи хоть что-нибудь! – Ой, Саша, прости, дорогой, – говорит Плетнев. – Замотался. Но я прочел. И знаешь, мне очень понравилось. Бодренько, динамично. Но вот только…что ты за имя выбрал для героя? Ев-ге-ний О-не-гин. Читателю ведь это не нужно. – А что же? – опешил Пушкин – А давай-ка назовем нашего героя, например, Прохор Сумкин. А?! Как тебе? Уверен, вот тогда все у нас с тобой будет. И читатель, и гонорары и признание. Вот это и есть изнанка нашей работы. – Насколько я знаю, у тебя нет ни одного сценария, где бы Ростов не был упомянут. – Это правда. А ты подготовился (улыбается). – Тогда почему до сих пор нет фильма по твоей истории на ростовском, донском материале? – Понимаешь, наш киномир – это мир продюсерский. И продюсер «заказывает музыку», – пожимает плечами Валерия Байкеева. У меня несколько не реализованных проектов. Я мечтаю, например, чтобы родилось кино по моей истории, которая называется «Царский подарок». Петр Алексеевич Романов, когда казаки помогли ему «отсидеть» Азов, решил им сделать подарок. Жена Екатерина Алексеевна посоветовала: подари им самых первых красавиц. И тогда на Дон с Дальнего Востока пошел караван самых красивых юных женщин. Но эта история безумно дорогая. А продюсеры думают о том, как сделать с наименьшими затратами и заработать побольше. Это не упрек, ни в коем случае. Так есть. – Не обидно, когда продюсеры говорят: «это интересно, но дорого» или « это все замечательно, но не продадим»? – Как в том анекдоте: вот вам успокоительное, а вот к нему патроны. Это абсолютно моя история. А если серьезно, то конструктивный и полезный всем сторонам проекта разговор, после которого что-то не получается, я всегда принимаю. Но «Прохор Сумкин» – это не моё.
“В фильме “Бег” я за есаула Голована скакал на лошади”. Вспоминая легенду отечественного цирка Тамерлана Нугзарова.
Однажды, мне посчастливилось общаться с лауреатом Государственной премии России, легендарным цирковым артистом Тамерланом Нугзаровым. Он приехал для интервью в пресс-центр «Комсомольской правды» и мы больше часа разговаривали: о цирке, о лошадях, о том, как сделать цирковую программу интересной. В результате на сайте появилась небольшая заметка, многое из беседы осталось не опубликованным. Я приведу эту заметку дословно. Самая опасная профессия – это бухгалтер Более пятидесяти лет Тамерлан Нугзаров посвятил работе на манеже. Он давал представления по всему миру и в каждой стране его принимали с неизменным аншлагом. Секрет успеха прост. Его конный театр, к слову, единственный в России, делает не программы, а спектакли, как говорит сам мастер. – В цирковой программе набора трюков уже не достаточно, – уверен Нугзаров. – Чтобы привлечь зрителя, нужна драматургия и артистизм. За несколько дней перед представлением 4-5 часов ежедневных репетиций. Подопечные Нугзарова (25 лошадей) – все со своим характером и своей ролью на манеже. С ними не просто. – Когда я с вами сейчас разговариваю, репетиция по-прежнему идет. Я отвечаю на вопросы, а думаю – как там мои артисты. Мне сказали как-то: у тебя Тамерлан самая опасная профессия. А я тогда ответил: нет, самая опасная профессия – это бухгалтер. Он или болеет или сидит в тюрьме – одно из двух (смеется). А у меня профессия нелегкая просто, вот и все. Цирк Дю Солей: много денег и…..ничего – Вот все говорят, ах цирк Дю Солей! Это восхищение, я вам скажу, преувеличено, – заявляет Тамерлан Темирсолтанович, когда его спрашивают, почему цирк отечественный так отличается от западного. – Дю Солей переманил к себе многих отечественных артистов за большие гонорары, разумеется. Скопировал многое из того, что делаем мы, а главное там не видно личности циркового артиста: обратите внимание, они все в очень плотном гриме и зритель не видит их лица. Их лица – это маски. А ведь почему в цирке сложно работать? Потому что меня видно со всех сторон. Это я на сцене я смогу скрыть от зрителя свой горб или свою хромоту. А в цирке не получится. – Я никогда и ни у кого ничего не скопировал, – с гордостью говорит Нугзаров, – что-то изменял, где-то дорабатывал номера, многое сам придумывал, но никогда не делал так, как у других. Возможно, еще и поэтому мои шоу пользуются такой популярностью. Кино в его жизни В фильме Алова и Наумова «Бег», Нугзаров дублировал роль есаула Голована. Эпизод, когда есаул исполняет на манеже конные номера, снимали в Ленинградском цирке. Сыграл роль Голована замечательный советский артист Александр Январев. «О бедном гусаре замолвите слово» – черная кошка перебегающая дорогу гусарскому полку, делала это «под руководством» трупы Нугзарова. И в этом же прекрасном фильме трюк, когда из окна ночью гусары прыгает на своих лошадей, тоже исполняли «тамерланцы». Лошадь очень чувствительна и угол ее зрения довольно широк. И чтобы в кадре все получилось чисто, лошадям завязали глаза. Вот, как об участии в кино рассказывает сам Тамерлан: – В картине «Война и мир» тоже участвовали мои конники, потом «Карнавал», «Звезда пленительного счастья» – там я играл генерала. Раньше вообще цирковые животные очень часто участвовали в съемках, а потом появились частные конторы и стали все больше приглашать оттуда. Потом и вовсе сделали конный полк «Мосфильма»… Но нас, артистов цирка, брали на трюки – военным запрещали трюки делать.
Тамерлан Нугзаров скончался 24 мая 2020 года в возрасте 77 лет.
Игорь Кио хотел оказаться в раю.
В 2003 году, спустя 29 лет после своего пребывания в Ростове, Игорь Кио приезжал в наш город с гастрольной программой. К моему удивлению, он очень быстро согласился на интервью. Как сейчас помню, мы писали интервью в номере гостиницы “Ростов” (сейчас, к сожалению, гостиница носит другое название). Кио держался очень просто, говорил неспешно, но увлеченно. Много курил. Его супруга Виктория в момент записи находилась в другой комнате и нам не мешала. Надо сказать, я тогда совсем недавно вернулся из Москвы после обучения в Школе телевизионного мастерства Владимира Познера. Надо ли говорить, что я был очарован атмосферой Школы, самим Мастером и его приемами ведения интервью. Мне всё хотелось реализовать или хотя бы попробовать и, разумеется, во мне жил дух подражательства. И вот, чтобы поставить эффектную точку в нашем Игорем Эмильевичем разговоре, я задал ему вопрос, который часто в разных интерпретациях задавал тогда своим собеседникам Познер. – Когда придет время и вы предстанете перед Всевышним, что вы ему скажете или о чем попросите? Было видно, что Кио такого вопроса явно не ожидал. Повисла пауза. Так или иначе, я добился, чтобы собеседник задумался над ответом. Наблюдать за выражением лица знаменитого иллюзиониста в тот момент было чрезвычайно интересно. Возможно, почувствовав, что молчание затягивается, Игорь Эмильевич протяжно произнес: – Дааа, такого вопроса мне еще, признаться, не задавали…Снова замолчал и через пару секунд сказал: – Я бы попросил его определить меня в рай. Ответ мне чрезвычайно понравился. И кроме того, он был замечательным финалом нашей беседы. В этот момент, а этого уже мы никак не ожидали, Виктория за дверью другой комнаты раскатисто рассмеялась. Я оставил этот смех в последних секундах интервью. Так и после монтажа закончился этот разговор с настоящим, симпатичным волшебником нашего времени: его ответ, короткая пауза, женский смех, затемнение и финальный титр.
Игорь Кио умер в августе 2006 года. А я до сих пор часто вспоминаю ту нашу беседу. Особенно, когда прохожу мимо гостиницы, в которой останавливался великий артист.
Евгений Майхровский(клоун Май): Главный в цирке – зритель
Еще один подарок судьбы. Несколько минут однажды в гримерке пообщался со старейшим российским клоуном, легендарным цирковым артистом Евгением Майхровским. С удовольствием делюсь его прямой речью.
Настоящий клоун должен быть с интеллектом
“Как правило, коверные не загружали себя никогда чрезмерным гримом. Енгибаров, Дуров, Николаев, да и Никулин с Шуйдиным – минимальный грим всегда на манеже. Им нечего было за гримом прятать, понимаете? Во – первых, русская школа клоунады предполагала, прежде всего, характер у клоуна. Харизму, если хотите. Нужно с чем-то таким родиться, чтобы потом эти качества развить и это помогло бы тебе в работе. Во -вторых, нужна хорошая актерская школа. Склонность к импровизации, правильная речь. Ну и в – третьих, советский клоун всегда славился трюковым содержанием. Поэтому наши отечественные клоуны, как правило, и жонглируют, и сальто могут крутить, да и на музыкальных инструментах играют. Владеют, так сказать, жанрами. Главный в цирке – зритель. И, если зритель откликается на то, что на манеже происходит, значит всё правильно мы делаем. Вот очень хороший клоун Полунин. Замечательный. Он, правда, исповедует буффонаду, а она всегда была ближе западному цирку, чем отечественному. Но у него есть свой зритель. И это прекрасно. От клоуна вообще в цирке зависит очень многое на самом деле, и если это клоун с интеллектом, а не только с набором каких-то гэгов, программе обеспечен успех.”
О пользе импровизации
“В цирке может всё, что угодно произойти. А коверный клоун, который работает между номерами должен уметь не только рассмешить зрителя, но и отвлечь его внимание, немного потянуть время, когда, например, затягивается смена ковра или расстановка реквизита для следующего номера. Импровизация часто помогает не потерять контакт со зрителем. Вот у меня была реприза “Часы”. Я брал у любого зрителя наручные часы, ронял их, а потом “ремонтировал”. И молотком бил по ним, в том числе. Потом мы возвращали зрителю его часы невредимыми. И вот однажды в Ленинграде, обращаюсь к одному из зрителей с просьбой дать мне часы, и вдруг откуда-то сверху мужчина кричит:”Это подсадка! Это ваш человек! Вы здесь, у нас часы возьмите”. Я буквально взлетаю наверх, говорю: “Давайте ваши часы! А тот, кто кричал, отвечает: “А у меня часов нет, вот у соседа моего возьмите. И тут я понимаю, что необходима какая-то фраза, что-то, что должно зал “включить” в этот наш диалог. И я громко спрашиваю: “А вы точно уверены, что ваш сосед, который сейчас дал мне часы не наш человек!?” Зал, конечно, раскололся, все засмеялись и я с победой спустился на манеж.”
Вспоминая Юрия Никулина
“Юрий Владимирович был замечательный человек и шутник большой. Общаться с ним было в удовольствие. Он прекрасно импровизировал. И заряжал меня своей энергетикой. Вспомню три случая, связанных с ним. Никулин рассказывал однажды, что когда он был на гастролях в Америке, местные зоозащитники возмутились, что у медведей маленькие клетки. Никулин был руководителем поездки, помимо того, что в программе клоуном работал и возмущения защитников животных американские журналисты адресовали, разумеется, ему. Юрий Владимирович говорит: “Господа журналисты, на самом деле, эта клетка необычная. Это точная копия сибирской берлоги. Если хотите проверить – поезжайте к нам в Сибирь. Милости просим!” Или вот еще история. Работали в одной программе с Никулиным силовые акробаты. Уходят на свой номер и говорят ему: “Юра, у нас тут на сковородке котлеты, ты попереворачивай, пока мы отработаем, чтоб не пригорели, ладно?” Идет номер. Один акробат лежит, второй у него на руках стоит, зрители в зале напряженно наблюдают за этим и тут Юрий Владимирович со сковородкой выбегает, подходит к артистам и громко так говорит: “Ребят, что-то не пойму переворачивать или нет?”. Ну, и наш с ним диалог вспомню. Это была одна из первых встреч с ним, в 1970 году, у меня тогда только дочка родилась. Я еду в Баку на гастроли. Встречаемся с Никулиным, он спрашивает: куда едешь? В Баку. Он: а я только, что оттуда. Я, конечно, давай его расспрашивать: как там с проживанием, какие условия в цирковой гостинице? Никулин говорит: внизу ресторан. День и ночь азербайджане гуляют! Крик, шум, драки – всё, что хочешь. Не соскучишься. Воды горячей нет. Холодная бывает редко. Мышки бегают, тараканчики тоже случаются. Я за голову хватаюсь! Юрий Владимирович посмотрел на меня и говорит: но дочку, Женя, бери обязательно! Наши цирковые всюду выживают!”
Евгений Майхровский (клоун Май). Народный артист РСФСР. Родился 12 ноября 1938 года в цирковой семье. В 1972 году стал выступать под псевдонимом Май. В репертуаре Евгения Бернардовича наряду с оригинальными репризами, в том числе с дрессированными животными, есть и сложные цирковые спектакли. Создал собственный цирк «Май», в котором выступала вся его семья: жена Наталья Ивановна — клоунесса по прозвищу Куку, сын Борис — сценический псевдоним Бобо, дочь Елена — Лулу, внучка Наташа — Нюся и др. В Ростовском цирке в 2021 году выступал с программой “Ласта Рика”.
Три истории от Владимира Познера, о которых знает каждый. Или не каждый?
История первая. Про лошадь и её круп.
Эту историю Владимир Познер часто рассказывает, обращаясь к журналистской аудитории. И своим ученикам тоже. Я, например, впервые услышал ее в 2003 году, после чего в разных выступлениях Познера слышал ее неоднократно. Она показательная и иллюстративная. Познер: “Телеэкран невероятно быстро делает людей узнаваемыми. Если каждый день людям показывать один и тот же лошадиный зад, то будут узнавать и его… Но есть и оборотная сторона медали: если вы пропадаете из эфира – послезавтра вас забудут”. Всегда вспоминаю эту историю про зад лошади, когда до сих пор иногда бываю узнан в общественных местах. Это при том, что с телевидения я ушел в 2006 году. Как говорил, когда-то Штирлиц: ” странное свойство моей физиономии”. Но все равно эту историю я очень люблю! По сути, она очень верная. История вторая. Про паспорт и налоги Эту историю я прочитал в книге Владимира Познера “Прощание с иллюзиями”. Да, очень ярко и показательно! Но у нас так никогда, увы, не будет. Познер: “Я прилетел из Москвы в Нью-Йорк. Прошел паспортный контроль. Поехал в гостиницу и обнаружил, что паспорта нет. То ли его украли, то ли я его выронил, но факт оставался фактом : паспорт пропал. На следующий день я приехал в городской Паспортный центр. В окошке сидела афроамериканка. – Я потерял паспорт… – заговорил я, но она тоже перебила:- Белый телефон на стенке справа. И в самом деле, на стене висел белый телефон, а рядом с ним, за прозрачной пластмассовой защитой, была прикреплена инструкция. Я получил порядковый номер и время, когда должен подняться на десятый этаж в зал номер такой-то. На часах было 9:30 утра, а встречу мне назначали на 11:00. Ровно в одиннадцать раздался голос: “Владимир Познер, окно номер три”. Я подошел. Меня поджидал мужчина лет пятидесяти, лицо которого я почему-то запомнил – может, потому что он удивительно походил на Чехова. – Что случилось? – Да то ли у меня украли, то ли я потерял паспорт. – Ну, это не беда. Вот вам бланк, заполните его. Я заполнил и вернул бланк Чехову. – У вас есть документ, подтверждающий ваше гражданство? – Есть, но он в Москве, я его не вожу с собой. Я могу позвонить в Москву и попросить, чтобы прислали мне в гостиницу копию по факсу — поеду, получу и вернусь к вам. – Отлично, буду ждать, – сказал Чехов. Я тут же позвонил, помчался в гостиницу, где факс уже ждал меня. Схватив его, вернулся в Паспортный центр. В половине первого я подошел к окошку номер 3 и протянул факсимильную копию. Чехов посмотрел на нее, покачал головой и сказал: – Сэр, мне очень жаль, но я получил разъяснение, что нам нужен оригинал. – Но оригинал в Москве. Не могу же я лететь туда, не имея паспорта! – И не надо, сэр, не нервничайте. В Вашингтоне имеется второй оригинал, который нам пришлют. Но эта операция будет стоить вам девяносто долларов. Я готов был заплатить любую сумму, лишь бы получить паспорт. – Мистер Познер, – сказал Чехов, вас будут ждать ровно в три часа в зале номер два. В три часа я получил свой паспорт. Меньше, чем за один рабочий день. Признаться, я был потрясен. Я отправился в другой зал, подошел к окошку, за которым сидел Чехов и сказал: – Сэр, не могу даже подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность за такую работу. Я поражен. Чехов посмотрел на меня и совершенно серьезно, я даже бы сказал строго ответил: – Сэр, Вы за это платите налоги! История третья. Про “глупого” министра обороны. Вряд ли бы такая ситуация вообще была бы возможна, но Владимир Познер часто ее рассказывает, проверяя аудиторию (журналистов, конечно, прежде всего) на собственную позицию. Как бы вы поступили? Вот главный вопрос. Познер: “Профессор журналистики Фред Френдли собрал группу видных тележурналистов США и задал им загадку: во время интервью министр обороны вашей страны выходит из кабинета, а на его столе остается забытым секретный документ, из которого следует, что через 10 дней ваша страна объявит войну другому государству. От журналистов он попросил ответить, как бы они поступили в такой ситуации?” Познер отмечает, что в США ответили: ” мы бы стали искать возможности предать эту информацию гласности”. А вот в России, журналисты чаще всего, по словам Владимира Владимировича, взывают к этичности. То есть, дать такую информацию для большинства из них неэтично. А этично, что в тайне затевается конфликт, который может унести жизни ваши и ваших близких? – спрашивает Познер. Как тренинг на “можно-нельзя” для нашей профессии история, конечно, годная. Сам задавал эту загадку пару раз в разных студенческих аудиториях, куда меня приглашали (разумеется, ссылаясь на источники). Но вот поверить в существование такого не очень умного министра обороны можно с трудом. Как это он забыл секретный документ на столе, общаясь с журналистом?!
Две большие разницы, как говорят в Одессе: как я учился у Познера и Ганапольского.
Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этими людьми. Тогда оба они были для меня мэтрами отечественной журналистики и на каждого из них я смотрел с придыханием. Но уже тогда я видел разницу между ними. Сегодня Ганапольский для меня человек, навсегда вычеркнутый из списка журналистов – профессионалов. Вспомню о том времени и расскажу о характерных чертах обоих мастеров эфира. Матвей Ганапольский Ганапольский преподавал у нашей группы региональных телеведущих в Школе кино и телевидения в Москве. Был, скажем так, гвоздем программы. Нашим мастером. Он же в конце обучения вручал нам сертификаты. Я видел его раньше по телевизору в программе “Бомонд” и те передачи, на которые я попадал мне нравились. Когда первый раз Ганапольский вошел в аудиторию, я поразился: он был очень высокого роста. Он сразу выбрал определенную тактику в общении с нами, а именно: уставший от всего человек, который здесь для того, чтобы вложить в головы не очень умных молодых людей ту истину, которой обладает. Так мне показалось. Он был с нами резок, иногда грубоват, но даже замечая это, я делал скидку на то, что передо мной настоящий профессионал, слова которого надо впитывать, как губку. Мне, например, очень понравилось упражнение, которое он с нами делал. Для себя я назвал этот тренинг “глаза в глаза”. Он попросил нас рассказать ему о своем родном городе, только при этом постараться не отводить глаз от того, кому рассказываешь. Это оказалось не так просто. Держать зрительный контакт – одно из основных умений интервьюера. Много еще дельных вещей он нам тогда рассказывал. Но все-таки его эта грубость осталась со мной, ранимым мальчиком из Ростова. Ганапольский в каждом из нас выискивал недостатки и обострял их. Не знаю, возможно, тем самым заставляя нас как-то реагировать, не быть равнодушными, проявлять эмоции. Я чувствовал, что как человек, он был мне малоприятен. С этим ощущением я и уехал из Москвы. То, что делает Ганапольский сегодня меня не то, чтобы возмущает. Скорее, вызывает омерзение. И дело не в том, что он из эфира в эфир поносит Россию, Путина и иже с ними. Работа у него теперь такая. Но вот то, как он общается со своими слушателями не лезет ни в какие, извините, ворота. Пять лет назад, позвонившему ему на утреннюю передачу на украинском радио «Вести» жителю Днепропетровска пришлось выслушать от Ганапольского эпитеты, за которые можно, как говорят, и “ответить”. Он просто “послал” парня в прямом эфире. За что? А тот вздумал похвалить Путина. То есть, вздумал не быть согласным с точкой зрения Матвея Юрьевича. Что тут началось?! Впрочем, наверное, эту жуть можно легко найти в интернете. За такое, правы некоторые мои коллеги, надо гнать из журналистики с волчьим билетом. Как журналист может так опускаться? Есть мое мнение и неправильное, это все-таки не о нашей профессии. Слушать его стало невозможно. Это все чаще напоминает, как я люблю говорить, уже медицинскую тему. Владимир Познер Мне посчастливилось учиться в Школе телевизионного мастерства В. В. Познера в Москве на курсе “Ведущий многоэлементной программы”. Директором школы на тот момент была жена Владимира Владимировича Екатерина Орлова, а сам он был ректором Школы и преподавал у нас мастерство телеведущего. Так получилось, что на лекциях Познера я сидел постоянно слева от него, в непосредственной близости и ловил каждое его слово. Многими наработками, которые я увез тогда в Ростов после обучения, пользуюсь до сих пор. Познер, надо сказать, тоже начал с “холодного душа”. Много не очень приятных слов мы выслушали в адрес своих программ, которые прислали в качестве “визитных карточек” в Школу. Я помню, что мне досталось за фотографию героя моего интервью. Была в начале программы “Тема для разговора” такая справка о госте эфира: фото и краткая биография. – За такое фото надо было в суд подавать, – сказал тогда Познер, – странно, что ваш герой этого не сделал. Фото на самом деле было не очень удачное. Спешили, некогда было ждать, взяли то, которое было под рукой. Вот так наше знакомство началось. Продолжилось, правда, в ином ключе. Познер был с нами приветлив, но не запанибрата. Мы чувствовали, кто перед нами, но заискивания не было. Он общался с нами, как с коллегами. И это подкупало. И если сравнивать его с Ганапольским, то можно сказать, что Познер – птица совсем иного полёта. Не со всем, что он сегодня говорит, можно согласиться. Я ловлю себя на мысли, что Владимир Владимирович часто повторяется, но его манера вести беседу, его аргументы в разговоре, вопросы, часто осторожные, иногда неожиданные, этот “подлов” собеседника на противоречиях, не унижая последнего, мне гораздо ближе истеричности его коллеги. Чего только сегодня не услышишь о Познере: “русофоб”, ” он открыто признается, что он в России не дома, так вали!”, ” при любой власти устроится”, я всё-таки с таких разговоров о нем всегда сворачиваю на мастерство телеведущего. Вот оно-то не подвергается никакому сомнению. Я всегда привожу в пример его жизнь: разную, богатую на встречи и события и говорю себе о том, что само по себе прожить такую жизнь дано не всякому. В свои 86 лет он сохранил ясный ум, прекрасную эрудицию, вкус, безусловный талант рассказчика. Относиться к нему можно по-разному. Но то, что он личность и крупная фигура в эпохе отечественного телевидения – это ясно, как день. И получить тогда, 17 лет назад диплом из рук Владимира Познера для меня означало многое. Да и сейчас я часто его вспоминаю и слежу за публикациями его канала и одноименной программой.
Маршаку и не снилось: как Фима Жиганец Джанни Родари перевёл
В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения итальянского журналиста и писателя Джанни Родари. Все мы помним его стихи в переводах Самуила Маршака, замечательные “Приключения Чиполлино” и «Джельсомино в Стране лжецов». В день его рождения я вспомнил об уникальных переводах его стихов нашим земляком Александром Сидоровым. Вот не знаю. Говорят, что читать книгу в переводе, все равно, что нюхать розу через противогаз. А мне Родари очень нравился в переводах. И в детской моей библиотеке он был одним из тех авторов, которого я читал с удовольствием. Помню, была у меня книга “Чем пахнут ремесла? Какого цвета ремесла?”. Я про запахи и цвет ремесел шпарил наизусть, благо выучить эти тексты было довольно легко. Уже много лет спустя, когда я стал журналистом, познакомился в сети с некоторыми пародиями именно на эти стихи. Все они казались смешными. Вот, например, отрывок из одного такого “стиша”. Пахнет кухарка капустою кислой. Пахнет сестра медицинская клизмой. Тещи, как правило, пахнут блинами, Все на таможне – большими деньгами. Автор неизвестен. С еще одним переводом Родари некоего Фимы Жиганца я познакомился будучи студентом РГУ. Тогда, в середине 90-х, его книжки с переводами классической поэзии на блатной жаргон передавали буквально из рук в руки. Это было ярко, смешно, остроумно. Через некоторое время я лично познакомился с ростовским журналистом, филологом, исследователем уголовного жаргона Александром Сидоровым (Саша постарше меня будет по возрасту, но мы как-то быстро перешли с ним на “ты”), который и “скрывался” под псевдонимом Фима Жиганец. Тогда-то я смог ему высказать все свои восторги по поводу его блатных переводов. А перевод его авторства на “Ремесла….” Джанни Родари помню наизусть до сих пор, правда, не полностью. У каждого дела Свой запах, ребята: Пахнут гоп-стопники Сто сорок пятой. Скокарь, повязанный В вашей квартире, Пахнет статьею Сто сорок четыре. Крупный разбойник – Сто сорок шестая – Пахнет пятнашкой, Скажу не читая… Саша признавался, что перевод сделан еще в 1995 году и статьи даны по старому УК. Но не это здесь было главное. Читали эти блатные переводы чаще всего не знатоки. Просто это было в то время необычно и свежо. Человек, который всю жизнь занимается исследованием уголовного мира сделал такую филологическую шутку, если так можно выразиться. Переложил поэтов на блатной язык. К этому можно относиться как угодно. Детям на ночь уж точно читать не стоит. Но не для детей это и было сделано. Книги Родари, конечно, будут жить не благодаря подобным переводам. Есть, слава советской литературе, классический Маршак. И эти сказки прекрасно читаются и сегодня. И они по-прежнему актуальны. “Чиполлино” даже где-то чиновники запретили ставить на сцене. Слишком, мол, авторы спектакля соотнесли классику с сегодняшним днем. Вот так.
23 октября 2020 года
Жив ли портной?
Костюм Дмитрия Диброва на церемонии закрытия Студенческого ТЭФИ-2019 стал «притчей во языцах» с легкого слова ведущего церемонии Александра Олейникова. Повезло молодежи, которая в зале наблюдала за дружественной пикировкой двух телевизионных профессионалов. Олейников, объявляя выход Диброва на сцену, подзадорил аудиторию: посмотрите, мол, на эту походку! Как идёт! А костюм! Таких уже больше не шьют! Дибров был, впрочем, как всегда, многословен и даже немного философичен. И землю донскую, как и положено, прорекламировал по полной программе. Но в какой-то момент, указав на Олейникова, произнес с улыбкой: – Костюм ему мой, видите ли, не нравится… – Почему? Нравится, – ответил Александр. – Вот уже лет двадцать, как он мне очень нравится. – Просто Саша был на всех моих свадьбах, – мгновенно нашелся Дибров. Но история с костюмом на этом не закончилась. Позднее, когда на сцену уже вышел Михаил Швыдкой, в своем монологе он нашел какую-то логичную лазейку и отметил: – Ну, это примерно, как костюм Диброва. Не знаешь, жив ли портной, всё ли с ним хорошо…. Зал рухнул от смеха.
Эдуард Лимонов: “Пушкина гением назначило общество. А общество, как правило, выбирает не самых лучших”
Вспоминаю мою беседу с Эдуардом Лимоновым в Ростове в эфире Радио “Комсомольская правда”. Приведу наиболее интересные, на мой взгляд, фрагменты этого интервью, которые касаются литературы. – Эдуард Вениаминович, о вас в Википедии написано: “писатель, поэт, публицист, полтический деятель”. Если бы я попросил вас из этих определений выбрать что-то одно, как бы вы себя представили? – Достаточно, если просто Эдуард Лимонов, я думаю. Мне кажется, я уже заработал, чтобы как в армии, за выслугой лет, меня без звания называли. – В Ростове вы не были сколько лет? – Не помню. Многие годы. Мне донской край не чужой, у меня здесь друзья и среди военных людей и гражданских тоже. У меня кумовья здесь. Я крестил сына Богдана, кстати, в Старочеркасской станице в 2007 году. Там чувствуется русская земля. Дух особенный. – Вы как-то в интервью сказали, что не очень-то читаете книги, во всяком случае сейчас… – А чего их читать? Там ничего нет… – Как так? – Тут уместно вспомнить Мао, который сказал: “Сколько не читай, умней не станешь”. Главное ведь сейчас не обилие информации, не то, сколько ты книг по весу прочел, условно говоря, а умение делать выводы из той информации, которую мы имеем. Вот я умею делать такие выводы и они часто людей удивляют. О, можно и вот так думать! Писать-то не хитро. Можно в школе научить тому, как роман написать, но главная работа – это все-таки мышление. Основные литераторы, кого мы – потребители ценим, это мыслящие писатели. А вот это вот – Иван Иваныч вышел из дому, почесал левую щеку, а она стеснительно закрыла лицо руками – это очень легко сделать, здесь никакой хитрости нет. – Я прочитал ваших “Священных монстров” и там вы хорошо “прошлись” по классикам литературным, в том числе и по Александру нашему Сергеевичу Пушкину. Я зачитаю: “Приговор мой будет звучать резко: ленивый, не очень любопытный, модный для своего времени Пушкин никак не тянет на нашего национального гения”. Вы серьезно? – Ну, если вы посмотрите его, якобы, шедевр “Евгений Онегин”, чего о нем только не писали. Вплоть до того, что это “энциклопедия русской жизни”. Абсолютно либеральное произведение про мажора тех лет, бездельника, абсолютно неинтересного ходульного типа. Пушкин не овладел темой, мне кажется. – Но у нас о крестьянстве писал Некрасов, а Пушкин – певец дворянства, все верно. – Не в этом дело. Это просто неинтересно. Ему самому это надоело, он довольно долго это все писал и в конце-концов бросил. Он хотел Онегина провести через Кавказские войны и чуть ли не в Сербию его поместить, но все это не свершилось. Самые лучшие вещи Пушкина – это, как я их называю, стихи для календарей. “Осенняя пора, очей очарование”, “Зима, крестьянин торжествуя…” и так далее. Писал он очень легко и ему просто повезло, я считаю… – Повезло оказаться “нашим всем”? – Пушкина теперь не свернуть, этот монумент не пошатнешь. А назначило его этим монументом общество, а общество, как правило, выбирает не самых лучших. Вот вам пример с Хлебниковым. Он великий поэт! Стихи у него невероятные. А кто говорит о нем сегодня? Кто знает о нем? Кто читает его поэмы замечательные? – Вообще стихи стареют, по-вашему? – Конечно. Ну, нельзя же всерьез говорить, что “Божественная комедия” Данте, написанная еще на староитальянском языке(!) недоступном даже сегодняшним итальянцам, в переводе вызывает восхищение. Это подделка же! Я себе позволяю сомневаться в этих монументах литературы. И проза стареет тоже. У меня есть французский друг, учитель, я ему как-то посоветовал читать Лермонтова стихи, и потом он смущенно мне говорит: “Эдуар, я ничего в этом не нашел, у нас таких много поэтов, Мюссе, например”. То есть, мы преувеличиваем своих классиков. Что там “Капитанская дочка”, если я читал, когда сидел в тюрьме, чудом сохранившиеся протоколы допроса Пугачева. И вот там открывается бездна интереснейших вещей. Эти протоколы не полностью опубликованы, но даже то, что опубликовано дает представление и о самом Пугачеве, и о русском характере, и об этой казачьей войне, где Пугачев был по сути “контрактником”, как бы сейчас это назвали. Вот это сильнее любой литературы.
“Как игрок он был просто прелесть”: вспоминая легенду советского футбола Виктора Понедельника.
5 декабря 2020 года умер легендарный советский футболист, ростовчанин Виктор Владимирович Понедельник. Как рассказывал сам Виктор Владимирович, со слов его прабабушки, фамилия Понедельник произошла после отмены крепостного права,когда его предки бежали на Дон. Нетрезвый писарь в графу «фамилия» вписал день недели. А впрочем, кто сейчас доподлинно сможет сказать, откуда такая фамилия?! Главное, что она стала знаменитой и гремела на весь Советский Союз. В 1960 году “золотой гол” Виктора Понедельника сделал сборную СССР победителем Кубка Европы – первым обладателем этого трофея. Публикую воспоминания известных ростовчан о Викторе Владимировиче, которыми они поделились в эфире радио “Комсомольская правда”. Валерий Буров – футболист, игрок ростовского “СКА”: “У него были просто сумасшедшие удары! Никогда не забуду игру с «Крыльями Советов». Весь матч был счет 0:0. И вот – штрафной. Бил Понедельник. Так он так ударил с расстояния в 27 метров так, что мяч влетел прямо в девятку. Та игра закончилась со счетом 1:0 в нашу пользу. Витя как игрок – просто прелесть. Виктор был примером для всех. Представляете, был такой момент, который я никогда не забуду. Мы прилетели в Ереван на игру, а Понедельник заболел и остался дома. Нас в аэропорту встречают болельщики. Так вот, они увидели, что Витя не с нами, и спрашивают: «Где Понедельник?». Кто-то из ребят и говорит: «Он не приехал». А нам в ответ: «Вы то чего тогда приехали?». Вот такой величины был футболист. Кстати, тот матч мы все же выиграли” Вартерес Самургашев – чемпион Олимпийских игр-2000 по греко-римской борьбе: “Это легенда для нас всех. – Человек, который несмотря на то, что переехал жить Москву, не терял связи с Ростовом. Он долгие годы приезжал, принимал участие во многих спортивных мероприятиях. Я вспоминаю, как он встречал меня с победой на Олимпийских играх. Каждый год я всегда поздравлял его с днем рождения – 22 мая. Конечно, уходит еще одна эпоха. Но я уверен, дети, которые занимаются футболом, должны знать и почитать Виктора Владимировича, стремиться быть похожими на него”. Денис Браславский – начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Ростова-на-Дону: “Это был уникальный человек и не только с футбольной точки зрения. Когда он приезжал в Ростов, было такое ощущение, что город вставал на дыбы. За несколько дней до его приезда у меня были звонки даже от тех, кого я не знал: все спрашивали, а когда и во сколько приезжает Виктор Владимирович: хотим встретить и пообщаться. Но из-за возраста ему уже было тяжеловато со всеми общаться и он просил: «Огради меня от большого количества людей». Поэтому мы выстраивали график так, чтобы ему было проще – чтобы он поговорил со всеми – и с теми, с кем было необходимо в рамках визита, и организовывали не надолго встречи с общественностью. А самый запоминающийся вечер на моей памяти был после проведения очередного финала «Кожаного всероссийского мяча». Получилось так, что мы остались после него на стадионе «Олимп-2», где было организовано небольшое застолье. Там же были комментатор Виктор Гусев и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Вечер продолжался 6-7 часов, в течение которых эти уникальные рассказчики, все как один делились историями из жизни, связанными с футболом. Я горд тем, что мне посчастливилось быть с ним знакомым. Знаете, когда я узнал, что Виктора Понедельника не стало, было ощущение, что какая-то маленькая частичка меня ушла вместе с ним”. Иван Кононов – поэт, журналист, телеведущий, автор песни “Левый берег Дона”: “Для меня счастьем было познакомиться с этим легендарным человеком, который в жизни оказался очень простым и доступным. Первый раз в жизни я его видел на футбольном поле в Ростове-на-Дону. Вообще, я на футболе был, наверное, раза три всего в жизни, я совсем не футбольный болельщик, хотя и играл в детстве и юности в футбол. Один из этих случаев был именно в Ростове. Мне было лет пять-шесть и с родителями я попал тогда на футбольный матч “СКА- Ростов” и “Зенит”, кажется. Ростовчане ходили на Понедельника. Он был звездой уже тогда. И его фамилия звучала над стадионом, как гимн. Я уже потом, будучи в Москве, написал песню “Футбольный марш” и подарил её Виктору Владимировичу, там его фамилия звучит так: “Там, где Ростов – всегда успех, наш Понедельник круче всех! Наш Понедельник круче всех!”
Олимпийский чемпион Андрей Сильнов. Хороший костюм и руки в карманах.
Мне довелось в 2009 году вести торжественную часть девяностолетнего юбилея легендарного тренера – легкоатлета Тимофея Прохорова. Об одном забавном, с моей точки зрения, эпизоде с удовольствием расскажу. Но прежде, несколько слов о самом Тимофее Прохорове. Это был по-настоящему легендарный тренер. Чемпион РСФСР в прыжках с шестом (1951). Участник Великой Отечественной войны. Более 70 лет работал он тренером в Ростове -на-Дону, воспитал за это время множество замечательных спортсменов, в том числе нескольких титулованных советских легкоатлетов. Умер 19 июня 2012 года в Ростове-на-Дону в возрасте 93 лет. В 2009 году на юбилей Тимофея Васильевича съехалось много людей. Среди них были и Олимпийский чемпион Андрей Сильнов и ученица Прохорова, российская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр Светлана Гончаренко. Конечно, Сильнов подвергся массированной атаке со стороны местной прессы. Когда очередная группа ростовских телевизионщиков готовилась к записи интервью молодой звезды российского спорта, Андрей стоял, возвышаясь над телекамерами: высокий, в шикарном темном костюме, сунув руки в карманы брюк. – Андрюш, вынь руки из карманов, – по дружески посоветовала коллеге Гончаренко. – Так это же в кадр не попадет, – попытался отшутиться чемпион. Ответ Светланы мне тогда чрезвычайно понравился. С улыбкой на лице она сказала: – Вынуть руки из карманов тебя обязывает хотя бы стоимость твоего костюма. Для Сильнова этот аргумент оказался определяющим.
Волочкова и чувство юмора
Все чаще в последние годы Анастасия Волочкова становится героиней скандальных, а часто просто нелепых публикаций. Сегодня вспоминаю, как я познакомился с “балериной всея Руси” и о её чувстве юмора. Много лет назад я оказался среди организаторов одной шикарной ростовской свадьбы. Роль моя была совсем незначительная, можно сказать, страховочная, но опыт, который сын ошибок трудных, я несомненно приобрел, да и много с кем удалось тогда пообщаться из приглашенных артистов (о них, если получится, еще напишу). Ярким впечатлением для меня была тогда Анастасия Волочкова. Только что по всем СМИ прокатился скандал с ее увольнением из Большого. На свадьбе Волочкова и Вдовин были приглашенными почетными гостями. Я встречал их на входе во двор левобережного ресторана. Тут надо отметить, что свадебная вечеринка была задумана и реализована в стиле “Назад в СССР”. На входе всех приглашенных встречал иллюзионист, переодетый в форму советского милиционера. Его задачей было “обыскать” вошедших на предмет “лишнего имущества”. Он действительно “находил” много неожиданного: вилку, например, или часы (как правило женские в мужском кармане). Игорь Вдовин тоже был обыскан ловким “милиционером”. Совершенно чужой бумажник Вдовина не удивил (в конце-концов, он бизнесмен или не бизнесмен?!), а вот когда “милиционер” извлек из внутреннего кармана пиджака Вдовина женские трусики-стринги, тут Анастасия искренне и заразительно рассмеялась. Мне тогда очень понравилось, что Волочкова не только отреагировала на это смехом (а как еще!?), но и сочла нужным прокомментировать ситуацию: – Я тоже частенько нахожу такое, когда он вечерами домой возвращается, – сказала она. Отмечу, что Настя вела себя на свадьбе совсем не как “звезда”. С виновниками торжества она была давно знакома и с удовольствием фотографировалась с другими гостями, танцевала во время музыкальных пауз, общалась. На меня тогда она произвела весьма положительное впечатление. Шпагаты, разводы, романы с охранниками, фотосессии в бане и на пляже, а также наименование себя ” балериной всея Руси” были еще впереди.
Композитор Алексей Хевелев: “Мама меня научила быть созидателем”
Композитор, пианист, педагог, лауреат международных и всероссийских конкурсов Алексей Хевелев в День учителя вспоминает свою маму – школьного учителя математики. Алексей Хевелев: ” Мама почти до самых последних дней работала – преподавала математику в школе. Это она после моих концертов приземляла меня с небес на землю, не давая “зазвездиться”. Это она научила меня быть созидателем. И, конечно, именно благодаря ей, я выучился музыке и стал тем, кем стал. У меня есть одна история, которая тоже неразрывно связана с мамой. История моего взросления. Мне было тогда 11 лет. Мама уже месяц лежала в больнице с онкологическим заболеванием, мы с братом питались тем, что нам давали соседи и мамины друзья. На операцию нужны были деньги. Мы воспитывались без отца, мама работала учителем. Понятно, что ситуация была очень сложной. И я тогда сам принял решение, подошел к директору общеобразовательной школы, где учился и предложил дать благотворительный концерт. Директор пошел на это и разрешил. Я всю жизнь ему за это благодарен. Задача состояла, конечно, в сборе любой суммы денег. Кажется, даже коробка стояла в зале. Впрочем, слушатели могли и не платить, если денег не было… Зал оказался набит битком. Кто-то даже сидел в проходах. Удалось собрать немалую сумму. На этот концерт пришла вся школа. И это меня тогда поразило. Я играл то, что я умел тогда играть. Произведения русских и зарубежных композиторов. А еще и свои произведения играл. И знаете, я заметил, что мои сверстники стали на меня после этого смотреть иначе, чем раньше. Мы же все знаем, как относятся в школе к «ботаникам». А у меня сформировалось тогда стойкое ощущение того, что когда растешь без отца (пусть даже и со старшим братом), ты должен быть маленьким мужчинкой. Записано 5 октября 2020 года
Из полковника в генерал-лейтенанты. История Героя СССР Василия Мишулина.
Василий Мишулин Ростову-на-Дону человек не чужой. В январе 1920 года он был направлен на учебу в учебный батальон в Ростове, после чего был назначен на должность младшего командира. Можно сказать, отсюда началась его военная карьера. В июне 1953 года генерал Мишулин был уволен в запас и до самой смерти (в 1967г.) жил в Ростове-на-Дону. Принимал активное участие в общественной жизни города, был выбран председателем военно-научного общества при окружном Доме офицеров.
Бой у поселка Красный. Василий Мишулин родился в 1900 году в обычной крестьянской семье. После окончания сельской двухклассной школы работал стеклодувом и шлифовщиком на стекольном заводе в родном селе. В 1919 году Василий Мишулин был мобилизован в Красную Армию. Участник Гражданской войны, воевал против белофинских войск в Карелии и против польских войск в 1920 году, принимал участие в боевых действиях против бандформирований на территории Чечни в 1925 году. Василий Мишулин сыграл важную роль в Смоленском сражении, проходившем в июле 1941 года. Командуя 57-й танковой дивизией, полковник Мишулин в течение восьми дней в районе поселка Красный удерживал продвижение немцев к Смоленску, давая возможность советским частям подготовиться к обороне города. В одном из боев отважный командир был тяжело ранен в голову осколком мины. Его почти почти насильно эвакуировали с поля боя, увезли в госпиталь. Но и там он продолжал поддерживать связь со своей дивизией. Требовал, чтобы ему всё время докладывали, что там происходит. И когда получил сообщение об угрожающем положении на флангах 57-й, буквально удрал из госпиталя и примчался на какой-то попутке на КП. Взял управление боем в свои руки. Жестокий бой выиграла тогда его 57-я танковая дивизия.
Вот так история Полковник Василий Мишулин за подвиг под Смоленском удостоен звания Героя Советского Союза и нового воинского звания. Все, кто знаком с иерархией воинских званий понимает, что после полковника следует генерал-майор. К этому званию и представил Мишулина Андрей Еременко, тогда отвечавший за действия северного фланга Западного фронта. Вот тут произошла необычная история. Связывают это с общей неразберихой начала войны. Текст телеграммы в Ставку первоначально выглядел так: “Прошу присвоить командиру 57-й танковой дивизии звание генерала. Генерал-лейтенант Ерёменко”. Телеграфистка при передаче этого документа опустила слово “генерала” и не там, где надо, поставила точку. В ставку телеграмма поступила в таком виде: “Прошу присвоить командиру 57-й танковой дивизии звание генерал-лейтенант. Ерёменко”. Делать нечего. Вот так полковник Мишулин был удостоен внеочередного звания. Я где-то читал, что позднее о допущенной ошибке доложили Сталину. Верховный ничего менять не стал. Значит, так тому и быть.
Немного личного Генерал-лейтенант Василий Александрович Мишулин дружил с моим прадедушкой Митрофаном Васильевичем Добрицким. Генерал-лейтенант танковых войск и подполковник-артиллерист познакомились уже после войны в середине 50-х годов в Ростове-на-Дону. Совсем недавно от отца я узнал о том, что Мишулин неоднократно бывал и у нас дома в Нахичевани на 34-й линии. У меня в библиотеке хранится книга, которую Василий Александрович подарил моему прадеду. Я никогда не узнаю при каких обстоятельствах они познакомились, но знаю со слов родственников историю о том, как Мишулин встал на защиту уже умершего друга Митрофана Добрицкого. Прадеда, как позже выяснилось, похоронили практически на месте другого захоронения, а когда родственники давно умершего человека вдруг пришли на кладбище, срывая свой гнев, разрушили свежую могилу ветерана войны. Перезахоранивать фронтовика администрация Армянского кладбища не хотела, ссылаясь на отсутствие мест или еще на что-то. И тогда генерал Мишулин пригрозил, что привлечет к этой истории не только прессу, но и командование военным округом, если потребуется. Место на кладбище сразу нашлось. Василий Мишулин умер в апреле 1967 года и похоронен на Пролетарском (Армянском) кладбище в Ростове-на-Дону.
ЧАСТЬ 2
РАССКАЗЫ
Атаман
Добров был корреспондентом одной известной ростовской телекомпании. И дружил с сыном одного известного генерала. Генерал этот когда-то в Ростове жил, командовал тут войсками, потом воевал на Северном Кавказе, а оттуда забрали его в Москву, и стал он там министром. Потом генерал стал пенсионером и депутатом, но при этом оставался человеком интересным, много и многих знающим и главное – уважаемым. А это, как вы понимаете, не всех генералов касается. Часто ведь как бывает – погоны на человеке большие, а уважение маленькое. Или вовсе никакого. Но этот генерал был другим. И накануне зимнего праздника, почитаемого всеми мужчинами от мала до велика решил Добров взять у генерала интервью. Переговорил он со своим другом, тот в свою очередь обо всем договорился с отцом-генералом. И дело в шляпе. Выбил Добров в телекомпании командировку в Москву. Себе и оператору Белкину. Купил билеты на фирменный поезд «Атаман Платов». Тогда все ростовчане знали, что Платов – это еще и поезд. А аэропорта такого в то время даже в отчаянных снах в помине не было. Теперь же все наоборот. Аэропорт есть, а поезда нет. Позвонил Добров самому генералу по телефону, потел, смущался, но рассказал, что едут они с Белкиным таким-то поездом, в таком — то вагоне. Генерал обещал прислать за ними водителя. Рано утром в Москве Добров и Белкин сразу увидели генеральского водителя. Хотя и не знали, как он выглядит. Так бывает. Пожилой мужчина был невысок ростом, сосредоточен и по-утреннему хмур. Он внимательно сверял номера вагонов с бумагой в руке. Добров и Белкин для верности все-таки подождали пока перрон опустеет и подошли к встречающему. — Вы от генерала? – спросил Добров. — От него, — неуверенно ответил водитель. — А мы к нему. Водитель с сомнением посмотрел вначале на Доброва, потом на Белкина. Перевел взгляд на его большую сумку, и трехногий штатив и спросил: — А атаман что же? Не приехал? — Какой атаман? — Платов. Мне генерал сказал: приедет атаман Платов, вагон такой-то. Вот я и встречаю казака. Он же должен быть в форме, папахе, при оружии, наверное. Как положено. Добров и Белкин переглянулись. — К сожалению, атаман приехать не смог, — сказал Добров и погрустнел. — Но мы вместо него, — кивнул головой Белкин и улыбнулся. Генерал долго и громко смеялся, когда услышал эту историю. Между прочим, обещал включить ее в мемуары.
Витя и буйволы
Накануне очень сильно выпивали. Всю ночь. Рано утром разъезжались из бани шумно, обнимаясь и обещая друг другу звонить и не пропадать. Мальцев отказался от предложенного такси, до своей многоэтажной свечки ему было рукой подать. Он вышел на свежий воздух, пошатнулся от обилия кислорода и очень нетвердым, медленным шагом, зажав подмышкой облезлый березовый веник, побрел в сторону железнодорожных путей. Мальцев жил совсем недалеко от вокзала. Покачиваясь, он перешел пути, опасливо огляделся по сторонам, словно нашкодивший подросток, стал у стены, рывком расстегнул ширинку и блаженно зажмурил глаза. Полицейский патруль задержал его тут же. Напрасно он вырывался из цепких объятий двух молоденьких сержантов. Напрасно пытался отшучиваться и кричал, что он посол мира и против всяческого насилия над личностью. Его доставили в линейный отдел полиции на вокзале. Стальная решетка с лязгом захлопнулась прямо перед его носом. — Документы есть? – спросил усталый лейтенант. — Нет. — Плохо, гражданин. Нельзя без документов. — А ты, летёха, в баню в выходной день с друзьями тоже паспорт берешь?- огрызнулся Мальцев. – Во-первых, я вам не летёха, а товарищ лейтенант. Во-вторых, я всегда с собой ношу и паспорт, и удостоверение. А в третьих, вас задержали в пьяном виде, при нарушении общественного порядка. — Я полковник Мальцев. Позвоните в приемную командующего округом. Лейтенант посмотрел на сидевшего в «обезьяннике» мужика с плохо скрываемым презрением. Небритая красного цвета морда, мокрые слипшиеся на лбу седые волосы, синие круги под глазами, потертая зимняя армейская куртка без погон, такие же штаны, стойкий запах перегара, сиротливый березовый веник в руках. Алкаш, да и только. — Ну, конечно. Сейчас воскресенье, восемь утра. Там как раз ждут моего звонка. А в Кремль позвонить не надо? — Пока нет… – Ну, вот и хорошо. А то я прямо испугался, — продолжал иронизировать лейтенант. – Так как? Личность твою выяснять будем? Кому звонить? — Можно генералу Борисову. Знаешь такого? Генерал Борисов заведовал кадрами в региональном Управлении МВД. Тень легла на лицо лейтенанта, но он решил держаться до конца. — Тоже твой хороший знакомый? Беда прямо с вами — алкашами. Мой тебе совет — не надо много телевизор смотреть. — А если я тебе, дурашка, дам номер телефона Борисова прямо сейчас? Слабо будет набрать? — Вот, ты себе на статью и наговорил, — улыбнулся лейтенант. – В общественном месте мочился? Мочился. Я тебе и двух свидетелей найду, и их показания представлю, не сомневайся. Патрулю при задержании сопротивлялся? Сопротивлялся. Даже, кажется, грубо толкнул одного из ребят. Сотрудника полиции при исполнении оскорбил? Оскорбил. Нипруха у тебя сегодня, дядя. — Да для тебя слово дурашка, это комплимент, родной ты мой человек, — впервые за все это время тоже улыбнулся Мальцев. – Вот! Звони Борисову. Прямо сейчас! – Мальцев достал из кармана куртки небольшого размера мобильник, взглянул на него и сник. На него смотрел черный безжизненный прямоугольник. Телефон был разряжен. – Зарядное устройство есть у вас? Мне только включить его и я найду телефон. — Рома! – крикнул вдруг лейтенант неожиданно. – Свари-ка кофе нашему задержанному и девочкам позвони, пригласи! А то заскучал он у нас в гостях. Затем лейтенант подошел вплотную к решетке и сказал тихо и беззлобно: — Я тебе устрою зарядное устройство, хер моржовый. Надолго ты меня запомнишь! И в этот момент уличный ветер занес в открывшуюся дверь линейного отделения полиции свежий воздух и начальника отделения. Это Мальцеву сразу стало понятно. Когда входят начальники – это почему-то ясно без лишних слов. Никто здесь его увидеть в воскресенье утром не ожидал, потому как-то все приосанились, и напряженная пауза повисла над потолком. Молодой парень в джинсах и распахнутой куртке с заметным шрамом над левой бровью в виде полумесяца, мельком глянул на человека в «обезьяннике» и, здороваясь за руку с сотрудниками, отметил: — Уже с утра улов? Молодцы! Болты с вагонов откручивал или чего пострашнее? — Тут целый букет, товарищ подполковник, — поспешил доложить лейтенант — Нарушение общественного порядка, сопротивление при задержании, оскорбление при исполнении, без документов… — Ты смотри, каков буйвол, — покачал головой молодой начальник. – Шпион не иначе. А чего это вы так напряглись? Я дочку с женой с московского встречу через сорок минут и домой. Но не расслабляться! – и он шутливо погрозил пальцем куда-то в сторону. — Все-таки в цирке были медведи, а не буйволы, Витя, — прохрипел вдруг грубоватый мужской голос. В первое мгновение никто из присутствующих даже не понял, кто именно произнес эту фразу. Так неожиданно она прозвучала. И только спустя секунду стало ясно — говорил задержанный. Мальцев вдруг закашлялся в кулак, но глаз не опустил и внимательно смотрел на молодого начальника отделения. Тот сделал пару шагов навстречу клетке. Стало тихо. Все ждали, что сейчас будет. *** Жена от Мальцева все-таки ушла. С третьей попытки, как и положено по законам жанра. Подарочек, прямо скажем, малоприятный. Не успел он от своей командировки оправиться, а Лера за чемодан. Верить в то, что у нее давно уже кто-то был не хотелось, но тут она сама все выложила: само собой с обидой, претензиями и упреками. Оставила свой комплект ключей и стремительно сбежала по лестнице вниз. Ну, классическая история — ни дать, не взять. Лера ушла и как-то совсем пусто стало в двухкомнатной хрущевской квартире. Только сейчас Мальцев понял, что не хватало гнезду этому элементарного уюта. Ремонт в последний раз делали они с отцом лет десять назад. Потом, когда родители погибли, он переселился сюда в ожидании собственной жилплощади. Сюда же привел свою Леру. Она уют создать так и не сумела. Разговоры о детях оставались разговорами. Она не очень-то и хотела, а ему не до того. Лера пыталась уходить, но всегда возвращалась. А теперь вот упорхнула, кажется, надолго. Если не навсегда. Мальцев утешался тем, что совсем скоро должен переехать в новое жилье. Теперь-то, после командировки, уж точно. Пусть попробуют с этим тянуть. Пойду к командующему. А пока поживем. …Однажды, кажется в воскресенье, в дверь несмело постучали. На пороге стоял Витька. Мальчишка лет семи со второго этажа. Мальцев знал его. Часто встретив Витьку во дворе дома, он угощал его, то конфетой, то шоколадкой, справлялся о том, как у него дела, хотя дела его были, мягко говоря, не очень. Отец у Витьки умер совсем недавно. Пьяным замерз на улице. А мамаша обязанности свои родительские исполняла из рук вон плохо. Попивала, скандалила, мужиков к себе водила, работала то уборщицей, то дворничихой, но слыла работницей ненадежной и несколько раз попадалась на мелком воровстве. От соседей Мальцев слышал, что пытались ее и прав родительских лишить, но родственников, которые захотели бы взять опекунство над Витькой не находилось, а в детдом она сына отдавать ни за что не хотела. «Я Горбачеву буду писать!»- кричала, — «Где это видано, чтобы сына родного у матери-одиночки отнимать!?». — Привет, — сказал Мальцев, увидев Витьку. – Случилось чего? — Мамка мужика привела, — просто, почти без выражения ответил Витька и непроизвольно вдруг коснулся рукой шрама над левой бровью в виде полумесяца. – Пустишь, дядя Вова? Можно я у тебя посижу? — Заходи. Витька вошел, снял свои побитые временем сандалии и осмотрелся. – Ну, как? – улыбнулся Мальцев. – Пойдет, — шмыгнул Витька носом. Уже после, когда телевизор был выключен, как наскучившее развлечение, а вид с балкона пристально изучен в мельчайших подробностях, Витька спросил: – Дядя Вова, а ты военный? – Ну… – Я тоже стану военным. Их все уважают. Сразу видна сила, если военный идет. – Учиться надо, — заметил на это Мальцев. – У тебя с этим как? Витька махнул рукой и ответил неопределенно. — Второй класс только. Пока непонятно. Потом они обедали на кухне. Макароны, сосиски, салат на скорую руку, хлеб. Витька ел торопливо, пищу почти не пережевывал, а после попросил еще пару сосисок. — Дядя Вова, а давай сходим куда-нибудь. Вот тебе, Мальцев и развлечение. Прогулка с ребенком. Интересно, будь здесь Лера, чтобы она на все это сказала?! — А куда ты хочешь? В кино? Витька дожевал, вытер рот рукавом и сказал мечтательно. — Я бы в цирк хотел. Ребята в школе рассказывали, что там весело. Армия научила Мальцева решения принимать быстро. Цирк, так цирк. Он выяснил в справочном телефонный номер цирковых касс, позвонил и после короткого разговора сказал: – Собирайся, будущий солдат. Через час представление начинается. А потом он долго стучал в дверь Витькиной квартиры. Витька дергал его за брючину и ворчал, что ему никто не откроет, а он настойчиво стучал. Он знал, что обязан предупредить его мать, какой бы она не была. Привезу Витю вашего к вечеру, мол, не волнуйтесь. За дверью ощущалась возня, даже приглушенные разговоры, кто-то матюгнулся, но дверь так и не открыли. «Ну, и хрен с вами!» — Мальцев взял Витьку за руку. Поехали. – Ого! – присвистнул Витька, когда подошли к новенькому жигуленку восьмой модели. – Твоя, дядя Вова? — Ну, а чья же? Садись, племянничек. А то опоздаем. Перед тем, как в зале погас свет, Витька торопливо доедал сахарную вату. Мальцев вдруг понял, что сам был в цирке еще в детстве. Кажется с дедом. Они еще перепутали места и пришлось пересаживаться в другой сектор. Сколько же лет с тех пор прошло. Страшно подумать. Витька испытывал неподдельный восторг от всего, что видел. Сверху, прямо над ухом грянул живой оркестр. Витька задрал голову и с открытым ртом наблюдал за движениями дирижера. Мальцев тронул за плечо: акробатов пропустишь. На манеже прыгали, кувыркались, строились в пирамиду из тел, которая тут же на глазах у зрителей рассыпалась на отдельных людей в ярких костюмах. Витька восторженно подпрыгивал на кресле. Он громко смеялся, когда на манеже появились клоуны, затаив дыхание, наблюдал совершенно бесподобный номер эквилибристов, которые крутили свои пируэты под куполом, а когда под аплодисменты на манеже появились дрессированные медведи, закричал: — Буйволы! Урра! Смотри, дядя Вова, смотри! — Это не буйволы, Витя. Это медведи. Ты что же никогда медведей не видел? Он затряс головой. Нет. Никогда. В антракте штурмовали буфет, а потом Витька долго и отчаянно аплодировал всадникам, которые ловко могли проскочить под брюхом у лошадей, скачущих во весь опор. — Ну, как тебе цирк? – спросил Мальцев Витьку уже в машине. — Мощно! – отозвался мальчуган и оттопырил вверх большой палец. — А кто больше всего понравился? — Буйволы! – уверенно ответил юный пассажир. — Они были смешные. — Слушай, — не выдержал Мальцев. – Вот ты говоришь, что медведей никогда не видел, а про буйволов откуда знаешь? — А так мамка одного своего мужика называла. Он огромного роста был, косолапый и весь в шерсти. Очень похож на этих, что в цирке. Во дворе у подъезда стоял милицейский Уазик. И хотя Витька, очарованный цирком не обратил на него никакого внимания, Мальцев сразу все понял. На площадке между первым и вторым этажами громко вещала Витькина мамаша: — Вы ему так и скажите: это что же такое? Где это видано ребенка забирать у матери? Вот куда он его увез? Куда? Она вдруг увидела Мальцева, а рядом с ним и Витьку и всплеснула руками: — Мальчик мой! Что же это делается? Где же ты был? Мама тебя обыскалась….кровинушка ты моя! Витька съежился вдруг всем телом и крепче вцепился в руку дяди Вовы. — Старшина Гавриленко,- лениво представился милиционер – Гражданочка вот заявление на вас хочет писать…. -Мама, я был в цирке! – громко произнес Витька. – Там были клоуны, и буйволы. И лошади тоже! Там было красиво. Меня дядя Вова туда возил. Он стучал к нам, ты не открывала. Почему? Почему ты не открывала, мама? — Я не слышала..ишь, ты…стучал он! Ребенка забрал и увез, а куда – кто его знает…я своего согласия не давала, не давала я… — затороторила скороговоркой мамаша. — Гражданочка, — перебил ее милицейский старшина. – Ребенок ваш? Ваш. Цел и невредим? Замечательно. Вы пока подумайте насчет заявления, а мы с вами, — он повернулся к Мальцеву,- пройдем в вашу квартиру, если не возражаете. — Зачем? – спросил до сих пор молчавший Мальцев. — Сигнал, он проверки требует,- неопределенно высказался старшина, хотя по лицу его было видно, что от мамаши он уже давно устал, все о ней понял и присутствием здесь весьма тяготится. Разговаривать на лестничной площадке ему совсем не хотелось. — Ну, раз требует, пойдемте, — и не оборачиваясь Мальцев начал подниматься по лестнице. Уже в прихожей, старшина вдруг заметил, что дверца в шкафу для одежды приоткрыта, и там среди других вещей висит китель с майорскими погонами и Звездой Героя Советского Союза. Чуть ниже Золотой звезды располагались два ряда орденских планок. Он ткнул в бок сержанта, кивнул на шкаф и прокашлялся. — Что же вы? – выглянул из кухни Мальцев.- Проходите прямо сюда. Здесь и поговорим. Старшина набрал в легкие воздуха и приложил ладонь к фуражке. — Извините, товарищ майор. За беспокойство…. *** — А потом меня определили в детский дом…- говорил молодой подполковник. – Мать родительских прав лишили, я и не знаю – жива ли… Помолчали. И чтобы нарушить эту неловкую паузу заговорил Мальцев. – Ты начальник, за грубость с твоими ребятами, меня прости. Мы всегда в бане вывод войск отмечаем. Пенсионеры – имеем право. Собираемся те, кто еще остался. Вид у меня действительно – не ахти, — он отхлебнул из большой чашки горячий кофе и обхватил ее ладонями, согреваясь. — Это ничего, дядя Вова…ничего. А я вот видишь, не стал военным. Но все-таки погоны ношу, — улыбнулся молодой подполковник. – Эх, как же я рад, что встретил тебя, дядя Вова! Долго потом, увидев медведей, я вспоминал цирк, веришь? — Отчего же не поверить. И мне твои «буйволы» часто вспоминались. Начальник линейного отдела взглянул на часы. — Дядя Вова, дорогой ты мой. Я сейчас своих с московского поезда встречу и познакомлю вас. Хорошо? Жена у меня врач, дочка-красавица. Ты только подожди меня здесь. Договорились? Мальцев кивнул. — Я быстро! Полковник дождался дверного хлопка, выждал еще несколько минут, допил последний глоток крепкого кофе и вышел из кабинета. Он прошел по узкому коридорчику, миновал «обезьянник» и, махнув рукой притихшим сотрудникам отдела, вышел на улицу. Февральское солнце ударило в глаза. На улице потеплело, ледяная корка на лужицах подтаяла. Московский поезд медленно тащился из-за горизонта, подавая сигнал о прибытии. Мальцев вздохнул поглубже, посмотрел куда-то в сторону (там видна была его кирпичная многоэтажка) и бойко зашагал в сторону выхода из вокзала. — Товарищ полковник! Мальцев обернулся. Перед ним стоял тот самый лейтенант. — Вы веник забыли, — сказал он просто. И улыбнулся.
Дядя Яша
Впервые в настоящую парикмахерскую я попал в шесть лет. До этого меня стригла какая-то женщина, знакомая моей бабушки. Она приходила к нам домой. Отец всегда сматывал в рулон часть ковра в гостиной. На пол перед зеркалом, которое стояло на тумбочке, ставили стул. Меня на него торжественно усаживали, обматывали простыней, и маленькая – всегда пахнущая чем-то сладким женщина, приступала к активной работе ножницами. Стричься я жутко не любил. Во-первых, волосы неприятно кололись. Мне казалось, что они остаются не только на ушах и шее, но и проникают в нос, в рот, в глаза – повсюду. Я дергал головой, сопел, вынимал руку из-под простыни и смахивал волосы с лица, демонстративно сплевывал одними губами, чем дико затруднял работу сладко пахнущей женщине. А во-вторых, я совершенно не мог высидеть в одной позе без движения и двух минут, а чтобы навести порядок на моей голове, требовалось времени гораздо больше. В настоящую парикмахерскую повез меня дедушка. Я совершенно не понимал, зачем нужно было ехать на трамвае в центр города, если буквально за углом нашей улицы, у булочной, на старом здании красовалась надпись «Парикмахерская». – Внук! Сегодня мы с тобой поедем подстригаться, – заявил дедушка. – Поедем? – Именно. Я познакомлю тебя с замечательным человеком. Куда подевалась сладко пахнущая женщина, я уточнять не стал. Тем более, она мне никогда особенно не нравилась. Я даже ее боялся. Когда она появлялась в доме и на кухне пила чай с бабушкой, я знал – будет стрижка. Но ехать куда-то, где раньше бывать не приходилось, а тем более в компании с дедом – это совсем другое дело. А что там будет со стрижкой, разберемся на месте. Мне тогда показалось, что мы ехали на трамвае целую вечность. Дед рассказывал мне о старых домах, которые проплывали мимо нас за окном, называл фамилии каких-то купцов. Слушал я не очень внимательно и быстро заскучал. Мне хотелось бегать по вагону, пересаживаться с красного сидения на серое, а с серого на желтое, но я сидел на коленях у дедушки и смотрел в окно. Наконец мы вышли из трамвая, потом еще какое-то время шли по тротуару, свернули за угол, снова шли, спустились по бетонным ступенькам вниз, оказавшись вдруг в маленьком зеленом дворике старинного трехэтажного домишки. На первом этаже я увидел полустертую вывеску: на ней были изображены раскрытые ножницы и почему-то пышные усы без лица. Синие буквы на белом фоне гласили: «У дяди Яши». Дедушка легко толкнул стеклянную дверь, с табличкой «Открыто» и где-то наверху залился трелью колокольчик. Внутри играла музыка. В большом красном кресле сидел завернутый в простыню мужчина с намыленной щекой. Над ним возвышался худой, высокий человек в белом халате. В руке у него была бритва. Такую же я много раз видел у деда, держал ее в руках, но не решался открыть лезвие, боялся порезаться, боялся крови и боли. Я тогда много чего боялся. Человек в белом халате взглянул на нас, поднял глаза к небу и провозгласил: – Точность вежливость королей! – и улыбнувшись добавил – Или полковников. Он чуть наклонился к сидящему в кресле, что-то шепнул ему, отложил бритву, легкой пружинистой походкой приблизился к дедушке и обнял его. – Здравствуй, Зевик. Здравствуй, дорогой! – сказал он. Зевик? Странно, что дедушка Вова не удивился такому обращению, подумал я тогда. – А это тот самый гениальный мальчик, который наизусть читает стихи русских классиков? – посмотрел он на меня и ласково потрепал по макушке. Ладонь у него была теплая и уютная. Я смутился, но кивнул. –Что ж, мы сделаем из него Марлона Брандо, не сомневайся, – сказал он дедушке и снова обратился ко мне, – А меня можешь звать – дядя Яша. Дядя Яша снова вернулся к креслу, вооружился бритвой и стал ловкими движениями сбривать с щеки клиента белую пену. – В парикмахерской идет стрижка, – говорил дядя Яша, орудуя бритвой. – На столике сидит кот и внимательно смотрит на руки мастера. Клиент решил пошутить: это что же, – спрашивает, – ваш ученик? Сидит учится? – Да нет, – отвечает мастер, – он ждет ваше ухо. Дедушка улыбнулся, и мне показалось, что он уже много раз слышал этот анекдот, а человек в кресле затрясся от смеха, совершенно не боясь, что дядя Яша может ошибиться и порезать его. Я весь сжался от предчувствия опасности, но парикмахер мельком взглянул на меня и, словно угадав мои мысли, сказал. – У дяди Яши не то, что пореза, царапины не было за всю его многотрудную профессиональную жизнь, мой мальчик. Об этом все в курсе и никто не боится. Когда чисто выбритый клиент покинул парикмахерскую, дядя Яша ушел за ширму, вышел с деревянной дощечкой, положил ее на подлокотники кресла и торжественно произнес, словно объявлял цирковой номер. – Прошу внимания! Сейчас здесь свершится чудо! Занимайте место в первом ряду, молодой человек. Только дядя Яша смог сделать так, чтобы я воспринимал стрижку, словно праздник. Он пшикал на меня водой из пульверизатора, показывал фокусы с ножницами, виртуозно обнюхивал различные флаконы и сыпал смешными историями из фронтовой жизни. – А что вы думаете, молодой человек!? И на войне есть-таки место улыбке и смеху. Если бы мы не умели смеяться, выжить было бы очень трудно. В свои шесть лет я не знал о войне практически ничего, кроме того, что дедушка Вова воевал, был артиллеристом и получил на фронте серьезное ранение. А еще в шкафу висел его китель с погонами полковника, и мне нравилось, открыв дверцу шкафа чуть раскачивать китель за рукав и слушать, как позвякивают друг о друга медали, расположенные в четыре ряда. Дядя Яша подстриг меня так, что я ни разу не почесался, не дунул, не сплюнул и не засопел. – Зевик, тебе надо височки подправить, – сказал он, глядя на дедушку. И еще долго я ждал, когда они наговорятся, потому что «подправить» виски на небогатой, скажем прямо, шевелюре моего деда труда дяде Яше не составило. Когда мы вышли из парикмахерской, я спросил – А почему Зевик? Дедушка улыбнулся и ответил – Зеeв – это по-еврейски Володя. Это имя означает – волк. – Ну, какой же ты волк… – сказал я. – Ну, все-таки не ягненок, правда? – ответил дед, и я почему-то рассмеялся. **** Мы с дедушкой ездили к дяде Яше еще пять лет. И все время у него играла музыка. Какие-то симфонические концерты. Он также шутил, рассказывал разные истории из собственной жизни и в каждой из них было столько жизнелюбия, страсти и юмора, а в самой манере изложения – энергии, что меня всегда удивляло: как вся эта феерия умещалась внутри худенького, старого уже человека. Он бегал от кресла к телефону, бросал в трубку: «А что я могу поделать, если к старому Якову идут-идут и идут!?». Или «Нет-нет и нет. Завтра никак не получится. В субботу?! Деточка, если бы вы наверняка знали, что дядя Яков еврей, вы бы не спрашивали у него про субботу. Свои субботы я отдаю внукам». Или: «В прошлый раз у вас был такой вид, что я не на шутку испугался. Посоветуйте тому, кто вас стриг заняться другой профессией. Например, рубить на рынке мясо! » Потом дедушка уже не мог никуда выезжать. А однажды приехала «скорая», и врачи увезли его в окружной военный госпиталь. «Надо же, – причитала бабушка – у Верочки тот же самый диагноз». Уже позднее, я понял, что речь шла о той самой сладко пахнущей женщине, которая меня стригла. Дед угас очень быстро, и со мной некому стало ездить к дяде Яше. Лишь однажды, пару месяцев спустя после похорон, мы приехали к нему вместе с отцом, и тот рассказал парикмахеру о смерти дедушки. Дядя Яша стриг меня тогда по-прежнему виртуозно, но в полной тишине. Это было даже непривычно. Музыка продолжала играть, но он не проронил ни слова. И только уже попрощавшись с нами, я увидел, как он взял трубку вдруг зазвонившего телефона и ответил звонившему: «Нет, сегодня я не стригу. Да, день рабочий. Но у меня траур». Мы увиделись с ним десять лет спустя. Я заметил знакомую фигуру среди ветеранов войны на площади, когда военный парад еще продолжался. Он стоял ко мне спиной, только чуть развернувшись к своему собеседнику, и как и тогда – много лет назад что-то эмоционально говорил, размахивая руками и вскидывая голову. – Дядя Яша! – крикнул я. Он обернулся. На пиджаке сверкали орден Красной Звезды, два ордена боевого Красного Знамени, медали «За отвагу» и «За победу над Германией». Он меня не узнал, прищурился, пытаясь угадать во мне знакомого. – Я внук Зеева. Полковника! – подсказал я ему. Старенький, сморщенный дядя Яша рывком бросился ко мне и крепко обнял. – Ай, какой же ты стал большой – Марлон Брандо. – Он оторвался от меня, оглядел мое лицо и с укоризной заметил: А стрижетесь вы у натурального поца, молодой человек! Теперь на месте парикмахерской «У дяди Яши» продуктовый магазин. И самого Якова Ефимовича Гурвича уже давно нет на этом свете. Но часто, когда я захожу подстричься в светлый и просторный салон красоты с улыбающимся персоналом, где мне предлагают чай или кофе, я вспоминаю небольшую уютную парикмахерскую дяди Яши с ее невероятными запахами, классической музыкой из проигрывателя и слышу бодрый, чуть насмешливый голос: «Ну, что вы хотите: если к старому Якову идут-идут-идут и идут».
Учительница
– А директор и говорит: приезжает она утренним поездом. А потом разворачивает газету, смотрит, помолчал и сказал: » Красивая женщина! » — Мишка взахлеб, глотая слова рассказывал нам про то, как случайно подслушал разговор в учительской. Наш директор Николай Палыч рассказывал о новой учительнице русского языка и литературы. Она должна была приехать из города уже завтра. — А как зовут? – Молодая? – Замужем? – наперебой спрашивали пацаны. — Зовут, кажется, Ирина Борисовна, – отвечал Мишка, старательно сморщив лоб. – Ну, молодая уж, наверное, если красивая. Директор так и сказал: «Красивая женщина». Едет одна. Палыч поручил ее Василичу встретить. Василич – наш завхоз. Всегда хмурый, словно не выспавшийся, глядит из под лохматых бровей недружелюбно и слегка прихрамывает на правую ногу. Зрелище не ахти. Помню, в первом классе я жутко его боялся и только завидев из глубины школьного двора колченогую фигуру завхоза, бросался наутек. Я вдруг зажмурился и представил, как Василич подходит к молодой и красивой женщине, берет ее чемодан, при этом ворчит что-то себе под нос и тащит поклажу с таким обреченным видом, словно Сизиф, катит в гору огромный камень. На следующее утро все мы ждали нужный нам поезд, рассевшись на лавочках вокзального перрона. Мы – это Мишка Пасюк, ‚Валька Агапов, Димка Борисов, Женька Шульц и я. Одноклассники, друзья-товарищи, одна гоп-компания. Во что бы то ни стало мы решили встретить нашу новую учительницу и оградить ее от мрачного, нелюдимого Василича. Времени до прибытия поезда было достаточно, мы плевались шелухой от семечек и от нечего делать начали переговариваться. — Интересно, а какая она? – спросил Валька, ни к кому не обращаясь. – Если блондинка, то я первый подойду. — С чего бы это?! – возмутился Мишка. – Я вообще про нее первый узнал. Чур, я возьму самый тяжелый чемодан. Подкачу так пижоном и скажу: «Мадам, позвольте мне взять на себя эту ношу – непосильную для ваших прекрасных рук! — И она ответит : не вы ли тот самый Михаил Пасюк, который на экзамене приписал героическую поэму Бородино перу великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина? – расплылся в улыбке Димка. — Да брось ты, – отмахнулся Пасюк. — Когда это было… — Надо застать ее врасплох, – предложил Валька. – Подойти, поздороваться и спросить: «Не кажется ли вам этот почти дикий заброшенный уголок, коим предстает сейчас перед вами наш скромный маленький город, не слишком достойным вашей умопомрачительной красоты? — Хочешь городскую училку на вшивость проверить? – не сдержался я. – Думаю, она и не таких остряков видала! А вот «застать врасплох» – это мысль! – Я поглядел на соседнюю клумбу и подумал, что неплохо было бы перед прибытием поезда нарвать цветов и подарить учительнице. И ей будет приятно, и нас такой жест не выставит дураками перед незнакомым человеком. А то «не кажется ли вам..» Глупость какая-то. — Только сорвешь, сразу милицейский свисток, – перехватил мой взгляд Женька Шульц. – Вон он, родненький, прохаживается… Неподалеку и правда, сдерживая одышку ходил неторопливо туда-сюда толстый гладколицый милиционер в белом мундире. Он то и дело поглядывал на нашу компанию, словно ожидая от нас чего-то нехорошего. — Вот было бы здорово, если бы у нее были голубые глаза, – сказал Мишка. — Почему именно голубые? – спросил я. — У моей мамы были голубые глаза, – ответил он просто. – Я ее не помню совсем, а глаза помню. Большие голубые глаза… Мишкина мать умерла еще до войны. Все мы на какое-то время замолчали, повисла неловкая пауза, которую сам же Мишка и прервал. — А волосы каштановые… ‚ – протянул он мечтательно, – Вот не светлые, а именно каштановые. Думается мне, что сочетание голубых глаз и каштановых волос дает поразительный внешний эффект. — Много ты понимаешь во внешних эффектах, – рассмеялся Димка. – А мне вот интересно знать, о чем это так напряженно задумался наш рыцарь печального образа Евгений Семенович Шульц? Женька и правда сидел на лавке, поджав тощие ноги в больших не по размеру сандалиях к впалой своей груди, подперев острый подбородок белым кулаком, уставившись в одну точку. — Я вот….- сказал он после непродолжительной паузы, – думаю, сходу предложить новенькой училке остановится у нас. А что? У нас места много, комната отца свободна, окно там большое на теневую сторону и тихо. Она могла бы и тетрадки спокойно проверять… Лицо Шульца оставалось невозмутимым. Мы так и не поняли – в шутку он высказал такое смелое предположение или всерьез. Отец Женьки Семен Аронович был врачом. И как говорили врачом очень хорошим. Рассказывали, что когда началась мобилизация, его оставляли в районной больнице, но он сам записался на фронт. Шульц — старший погиб в первый же год войны. Санитарный поезд разбомбили. — Ну, ты и хват, Шульц, – разулыбался Валька. – Мы тут про лютики-цветочки-словечки, а ты сразу под бочок училку. Ай да, Женька! Где-то вдали протяжно ухнул паровозный гудок. И все мы, во все свои пять пар глаз уставились туда, откуда должен был сейчас выползти поезд…. Всего через пару лет Валька Агапов погибнет в драке. Его ударят ножом прямо под сердце. Димка Борисов станет знаменитым на весь Советский Союз спортсменом. А однажды поедет по туристической путевке в Ленинград, познакомится с девушкой, будет идти с ней по набережной и есть мороженное. И вдруг увидит, как человек бросится в Неву. Димка прыгнет за ним в воду и вытащит неудачного утопленника на берег. Об этом случае напишут в газетах, Димку наградят медалью и грамотой. А через пять лет, покончив из-за травмы с профессиональным спортом, Борисов начнет пить и однажды зимой упадет на улице и замерзнет. Люди будут идти по тротуару, обходить стороной лежавшего у стены человека, брезгливо отворачиваться. Но кто-то все-таки позвонит в скорую из ближайшего телефона-автомата. Когда Димку привезут в больницу, дежурный врач приглядевшись узнает своего кумира – заслуженного мастера спорта Дмитрия Константиновича Борисова. Но спасти не успеет. Мишка Пасюк поступит в военное училище. Станет отличным офицером. Я случайно встречу его ненадолго в Москве за несколько дней до того, как его полк должен будет отправиться в Афганистан. Мы пару часов просидим в какой-то «наливайке» недалеко от Арбата, он будет шутить, сыпать пошленькими анекдотами, накачает меня водкой и будет говорить-говорить-говорить без остановки. Потом посадит меня в такси, расцелует, и приложит к холодному стеклу свою теплую шершавую ладонь на прощание. Как сейчас я вижу отпечаток этой большой ладони. Подполковник Пасюк погибнет в бою, правда, в газетах об этом не напишут. Женечка Шульц станет врачом. В общем-то, рядовым, но профессиональным хирургом. Пережив два брака, уже седым и не очень здоровым, он встретит свою будущую третью жену в коридоре больницы. Банально, но ему предстоит блестяще прооперировать ее мужа. Но пока муж будет находиться в послеоперационном периоде, Евгений Семенович и Маргарита Францевна успеют понять друг о друге что-то очень важное. Маргарита Францевна подаст на развод и переселится к небольшую двухкомнатную квартиру Евгения Семеновича. Женя умрет тихо, во сне. Просто вернется вечером домой, попросит Ритулю заварить крепкого чайку, включит телевизор, сядет в кресло и заснет. Мне уготовано было судьбою стать журналистом. И, наверное, раз уж моя профессия заключается в том, чтобы добывать информацию, не быть равнодушным и всегда быть любопытным, я столько и знаю о своих друзьях. Я их люблю и потерю каждого из них переживал глубоко и долго. Из нашей шальной пятерки я все еще жив и обречен на память. И будто это было вчера: я ясно вижу медленно ползущий вдоль перрона поезд и наши вытянутые лица. Мы не знали из какого вагона должна выйти наша учительница, но ждали ее появления затаив дыхание. И как же хотелось нам, шестнадцатилетним мальчишкам, детям войны, почти всегда голодным, видевшим смерть и разруху, окружить вниманием совсем незнакомого нам человека. Каждый из нас в своем воображении рисовал ее портрет и был портрет этот лучше любого музейного полотна с самыми красивыми женщинами эпохи. Поезд зашипел, заскрипел, чихнул и через некоторое время остановился. Мы давно уже увидели хромого Василича и шли теперь за ним по перрону, огибая шумных, улыбающихся людей. Завхоз остановился у одного из вагонов. На перрон вышел военный, затем выплыла дородная дама с двумя детишками, старичок в смешной панамке и круглых очках огляделся, увидел кого-то, махнул сухонькой ладошкой и довольно бойко зашагал навстречу встречающему. Потом долго никто не появлялся. Нам показалось – целую вечность. Вдруг Василич рванулся к дверям вагона с готовностью принять багаж и на перроне показалась изящная невысокого роста пожилая женщина лет пятидесяти (о, молодость! Тогда женщины под пятьдесят и правда казались нам весьма пожилыми). Бледное лицо, совсем без косметики. Седая прядь вдоль наспех уложенных бесцветных волос. Заостренный нос, тонкие губы и глаза… совсем неопределенного цвета. Серые какие-то глаза. Василич что-то уже говорил ей, доставая из тамбура вначале один большой чемодан, потом сумку. Где-то совсем рядом железной тележкой загремел носильщик. Димка очнулся первым и бросился ему наперерез. — Таак, дяденька..сами справимся, – на распев заговорил он. Мы с Валькой и Мишкой почти наперегонки начали хватать кто чемодан, кто сумку. — Вот бестии, – заворчал Василич. – Откуда только взялись, окаяныши!? Учительница всплеснула руками, заулыбалась и лицо ее, и глаза сразу потеплели. И тут тяжелый теплый воздух прорезал пронзительный свист милицейского свистка. Мы словно по команде повернули головы и увидели, как петляя между встречающими и приезжими, бежит к вагону Женька Шульц. К груди он прижимал жиденький букетик цветов с вокзальной клумбы. И вдруг все мы, и Ирина Борисовна тоже в голос рассмеялись. Очень уж нелепым казался Шульц в этих своих сандалиях с чужой ноги. — Держи его! – кричал, задыхаясь, толстый милиционер, но люди на перроне наоборот расступались, давая дорогу взмокшему от бега долговязому мальчишке. А ту самую газету с портретом Ирины Борисовны мы все-таки увидели. Это была чуть пожелтевшая «Красная Звезда». Наша учительница на фотографии была действительно очень красивой. Она стояла, явно позируя фотографу, и улыбалась. На петлицах гимнастерки по одной шпале – капитан. На груди два ордена: Боевого Красного знамени и Отечественной войны. И непослушный локон, выбившийся из под пилотки. Может быть, даже каштановый. Статья называлась, кажется, очень банально: «Не женское лицо войны» или что-то в этом роде. А подпись под фотографией гласила: «Разведчица Ирина Томилина за выполнение особо опасного задания в тылу врага награждена орденом Отечественной войны I степени».
Любовь
— Вовка-а-а-а-а… — тянет Оксанка на распев, — ну, пойде-е-е-ем. Пойдем купаться! Ранее утро распахнулось над речкой. — Иди, если хочешь. — А ты? — А я не хочу. — Врешь. Ты со мной не хочешь…. — Не хочу, — соглашается Вовка и с плохо скрываемой досадой выплевывает травинку на песок. — А чо ты сидишь тут тогда? — Хочу и сижу. — Светку ждешь? — Тебе какое дело? – грубо бросает Вовка, даже не оборачиваясь. Знает, Оксанка сидит чуть поодаль, за его спиной и сейчас точно смотрит на выступающие его костлявые лопатки, или коротко стриженный мокрый затылок. Он чувствует этот ее взгляд. И от того еще больше сутулится. Неуютно ему от этого взгляда. — Иди домой. — А вот и не пойду! — Отстегать тебя хворостиной, что ли… — спокойно говорит Вовка. — Попробуй только! Ишь, герой какой! – «герой» Оксанка произносит, как «херой» и Вовка невольно улыбается. – Ты догони меня сперва, а потом уж стегай…. Вовка молчит. Оксанка давно ходит за ним хвостом. Ему семнадцать, ей четырнадцать. Что их может связывать? — А ты и некрасивый совсем, — говорит вдруг Оксанка, после длительного молчания. Вовка не отвечает. — И родимое пятно вон у тебя на спине. И уши разные. Чего в тебе только девчонки находят – не пойму… — Иди домой. — А чо ты меня гонишь? Чо гонишь? Твой чо ли пляж? Где («хде») хочу, там и сижу. — Сиди, — соглашается Вовка. — А чо ты мне грубишь? Сиди! Чо сиди? Я вот сейчас сама купаться пойду, понял!? Вовка чувствует, что она встает с песка, отряхивается. — Чего не идешь? — Не хочу. Ты меня глазами начнешь есть. — Что? – Вовка хохотнул. — А ничо! Думаешь, я не знаю, как ты на меня смотришь? Как облизываесся? А Светка твоя – вобла сушеная! — Ксанка, иди домой.. пока я тебя не мокнул. -Чо-о-оо!? А чо это ты меня мокать собираешься? Кто те позволит? А я вот твоим родителям скажу, как ты со Светкой целуешься, и как после школы с ней зажимаешься. Я, между прочим, вижу все. И замечаю все. И ты..ты! – он словно увидел, как она досадливо сжимает маленькие свои белые кулачки. И в этот миг Оксанка всхлипнула и разрыдалась. Впервые за все это время Вовка повернулся к ней. Оксанка стояла по щиколотку в желтом песке и размазывала кулачками слезы по своим щекам. — Ты черствый! Ты глупый! Сухарь ты, понял?! – голосила она сквозь рыдания. Вовка резко подскочил на ноги, подошел к ней, и оказалось, что он был выше ее почти на целую голову. Несмело он попытался обнять ее за плечи, но Оксанка дернулась, скорее для порядка, чем по желанию. — Дурачок ты, — сказала она, успокаиваясь. — Это почему? — Не «почему». Дурачок — и все. Она посмотрела ему в лицо и улыбнулась. — А уши у тебя и вправду разные…. Вовка дунул ей в лицо и совсем серьезно сказал: — Пойдем домой. Я тебя провожу. И тут оба они: и Вовка, и Оксанка услышали где-то вдали нарастающий гул. Оксанка первая посмотрела вверх и вдруг запрыгала весело, замахала руками и побежала вдоль пляжа. Она бежала, мелькая голыми белыми пятками, и кричала: — Летят! Вовка-а-а-а-а-а! Летят! Ураа-а-а-а-а-а! Самолеты летят! Вовка задрал голову вверх и замер. Самолеты, казалось, загородили все небо. На черных их крыльях белели кресты.
Классики
По первому моему детскому впечатлению поэт Сергей Есенин был человеком не только любящим выпить, но и любителем спаивать собак. Причиной такого моего странного, на первый взгляд, впечатления стал рассказ Ивана Тургенева «Му-му». Перелистывая однажды страницы этого рассказа, я наткнулся на короткое, но очень емкое предложение «Собака была сучкой». Признаюсь, я возмутился. Слово это я слышал неоднократно, с различными его производными, так как рос в районе, где употребляли и гораздо более бранные слова. Но, чтобы классик вот так ругал несчастную маленькую собачонку! Да, что она ему сделала!? Я тут же отправился к бабушке и предъявил ей нужную страницу. — Разве можно в книгах так ругаться? – наивно поинтересовался я. Бабушка меня успокоила. И рассказала, что сучкой называют собак женского пола. И что Иван Сергеевич Тургенев всего лишь имел ввиду, что собачка Герасима была девочкой. И что в литературе слово это вполне употребимо. Я остался удовлетворен. Когда через некоторое время я снял с полки томик стихов Сергея Есенина, которого в семье у нас очень хвалили и цитировали, я совершенно случайно (и это чистая правда) раскрыл его на стихотворении: Сыпь, гармоника! Скука… Скука… Гармонист пальцы льет волной. Пей со мною, паршивая сука. Пей со мной. На ту пору мне было семь лет. Скажите, что же я должен был подумать?
Классики- 2
Капитан Булгаков отрастил бакенбарды. Однажды, его вызвал к себе командир части подполковник Некрасов. — Что это за внешний вид у вас, капитан? Пушкины, товарищ Булгаков, нам здесь не нужны. Пришлось Булгакову бакенбарды сбрить.
Дед Мороз
Командир части подполковник Некрасов вызвал к себе капитана Булгакова. — Вот теперь другое дело, – сказал он, посмотрев внимательно на подчиненного. – Выглядишь, как человек (см. «Классики-2»). — Служу Советскому Союзу! – ответил Булгаков. — Ладно, – махнул рукой подполковник. – Ты, капитан, в самодеятельности когда-нибудь участвовал? — Так точно, – соврал Булгаков. — Вот и прекрасно! – оживился Некрасов. — Ты у нас человек новый. Тут тебе не Берлин (сразу после войны Булгаков служил в составе Группы советских войск в Германии). Новый Год на носу, а Деда Мороза у нас нет. Я пропал, подумал Булгаков. А как ты хотел? – подумал подполковник. — Майор Лесков уволился, – сказал командир части вслух и поморщился от воспоминаний. — Обычно он у нас был Дедом Морозом. Костюм он сам лично на какой-то барахолке покупал, когда еще служил в…. да неважно. В общем, он его забрал с собой. А в нашей дыре, не то, что костюма Деда Мороза…ну, ты понимаешь. — Так точно, – сказал капитан Булгаков. — Не издевайся, – печально махнул рукой подполковник Некрасов. – Я еще удивлен, что у нас тут у верблюдов рога не растут, м..ть их за ногу! В общем, так: детям нашим нужно праздник устроить? Нужно. Подарки я поручил заму своему по снабжению Фонвизину кое-какие прикупить, насчет елки тоже договорился. Искусственную на прокат у соседей наших вохровцев возьмем. Костюм Деда Мороза соорудить нужно из подручных средств, прийти и детям подарки раздать. Вот и вся канитель. Состыкуй как-то жен комсостава, пусть покумекают. Добро? — Сделаем, – не по уставу пообещал Булгаков. Старые, подточенные молью валенки нашли на складе. Там же – белую зимнюю шапку комначсостава образца 1940-ого года. Красную звезду из нее вынимать не стали, украсили шапку серебристой мишурой. Получилось живенько. Сварганили из ваты усы и бороду, мешок сшили из куска старого бардового занавеса клубной сцены, вместо шубы нарядили Булгакова в роскошный женский халат с павлинами, нос и щеки накрасили ярко-красной помадой, приклеили капитану ватные брови. В назначенный день перекинул он через плечо мешок с подарками и вошел в комнату со словами: — Здравствуйте, детки! А вот и я, Дедушка Мороз! Испуганные детишки с криком и слезами разбежались в разные стороны.
Карусельщик
Глаза у него очень добрые. Ну, бывает же такое. Перед тобой стоит весь человек целиком, а видишь ты только его глаза. Он сразу показался мне мужчиной без возраста. Ну, то есть понятно, что взрослый, пожилой даже, но вот спроси, а сколько примерно ему лет – сразу и не скажешь. Можно было предположить, что шестьдесят. А может быть и семьдесят. А может и старше, просто так выглядит. Бывает же. Он стоял у своей карусели и улыбался. Улыбался моему сыну. Я протянул ему деньги, он легко подхватил Ромку на руки и спросил негромко: — Ты в какой самолёт хочешь? Ромка указал рукой на выкрашенную в камуфляжные пятна «боевую машину» на крыльях которой краснели звезды. Карусельщик усадил его в самолёт, пристегнул и помахал ему широкой плоской ладонью. Затем нажал в будке какую-то кнопку и привел карусельную эскадрилью в движение. На Ромкином лице застыло выражение абсолютного счастья. — А помню вот здесь, – я указал рукой, – были ракеты. Я с дедушкой любил на них кататься. — Даже бетонное основание от них осталось, – подтвердил карусельщик. На его бейдже было написано имя – Фархад. – Две кнопки «вверх»-«вниз», летали – будь здоров! Не знаю, почему я заговорил с ним. Видимо, та же магия добрых глаз. А теперь я вполне разглядел и его скуластое широкое лицо, лоб с широкими бороздками морщин. А глаза продолжали улыбаться. — Все дети на каруселях счастливые, – сказал Фархад, наблюдая за Ромкой. В этот утренний час в парке посетителей было мало, и мой сынишка был единственным «летчиком» на этом аттракционе. Все остальные истребители летали без пилотов, пустыми. И мне почему-то стало от этого грустно. — Да, – подтвердил я. – Ничего не меняется. Вот эти лошадки и верблюды, – я указал на карусель за моей спиной, – тоже меня счастливым помнят, наверное. — Эх, – вздохнул Фархад. – Был же замечательный завод аттракционов, а теперь что? Один сплошной Китай. Он оживился, приблизился ко мне и даже слегка тронул за рукав, как бы сокращая между нами дистанцию. — Вот, вы говорите верблюды и лошадки. А я помню на этом самом месте ещё карусель без механизма. Двухъярусную. Внизу дети садились на лошадок, а наверх – добро пожаловать всем желающим. Приводить карусель в движение. А что?! Мне нравилось. Мы подростками частенько тут вертелись и я всегда наверх среди первых, – он широко улыбнулся и мелкие сеточки морщин у глаз расползлись в стороны. – И физическая нагрузка, и детям радость. — Это в каком же году было? – спросил я — Если этих лошадок в шестьдесят первом установили, то… году пятьдесят седьмом -восьмом, наверное. Фархад взглянул на наручные часы, подошёл к будочке и снова нажал кнопку. Самолёты стали потихоньку останавливаться. Лишнюю минуту Ромке подарил, отметил я про себя. Фархад отстегнул ремни у юного пилота и принес его мне на руках. — Ну, что летчик, – улыбнулся глазами карусельщик, – придёшь ещё к дедушке полетать? — Обязательно придем, – пообещал я и мы направились к другому аттракциону. В следующий раз, хотя детей в парке было много, Фархад нас узнал и махнул рукой ещё издалека. — Давай-ка, Покрышкин мы с тобой на другом сегодня самолёте полетаем, – сказал он Ромке. – Вот смотри, какой жёлтый красавец! Согласен? Ну, вот и замечательно. Ромка с радостью закивал головой. — Папа! Зёлтый! – показывал он на свой самолёт, пока Фархад усаживал его в кресло пилота. — Сразу виден опыт общения с детьми, – сказал я, когда самолёты отправились в полёт. Мне почему-то с неудержимой силой хотелось говорить с этим человеком. — Трое внуков, – ответил Фархад. – Ну, и десять лет воспитателем в интернате. — Офицерское прошлое? — Какое там… Закончил пединститут, факультет физвоспитания. Но до этого рабочим был, в шахте даже поработал немного. Ругают советскую власть, а она мне все дала. — Местный? Здесь родились? — Нет. В Душанбе родился. Сюда отца перевели после войны начальником стройки. Мне два годика было всего. А сейчас вот внуки. Что тут осталось… Мне сосед говорит – ты их жизнь проживаешь, неправильно это. А как же неправильно, если я свою уже прожил. Значит наоборот хорошо. Вторая жизнь у меня, получается. «Вторая жизнь у меня». Эти его слова я теперь часто вспоминаю, когда прохожу по парку. А тогда, по пути домой, я держал Ромку за руку и вспоминал почему-то своего деда. Я помнил его уже пожилым, хотя умер он всего в шестьдесят шесть. Говорили, что раньше мой дед был душой компании, он и действительно знал много анекдотов и забавных историй, но мне он казался грустным, я знал, что он болен, но как же мне с ним было интересно ни смотря ни на что. Он был настоящим героем, мой дед. Вся улица уважительно звала его «»полковником», о подвиге его артиллерийской группы во время войны писали даже в учебниках по тактике ПВО. Я ходил с ним на торжественный парад в День Победы, там его узнавали такие же, как он, ветераны, седые, с медалями и орденами на груди. Они обнимались, в пол голоса говорили о чем-то, потом кто-то из них доставал из внутреннего кармана флягу, дедушка становился ко мне спиной, чтобы я ничего не мог увидеть. Но я видел. Головы ветеранов время от времени слегка запрокидывались и кокарды на их фуражках вспыхивали на солнце ярким блеском. Когда мы возвращались, всегда заходили в парк. В кафе «Сказка» я ел мороженное, мы вместе катались на «Ромашке», на тех самых ракетах, от которых сегодня осталось лишь бетонное основание. Дедушка, пребывая в хорошем расположении духа ( тогда я не знал, что причина тому заветная ветеранская фляга), обязательно приводил меня в стрелковый тир, где неизменно выбивал десять из десяти мишеней и вручал мне положенный ему за меткую стрельбу приз. Пробовал стрелять, конечно, и я. Но после того, как попал пулькой в маленькое зеркальце, которое мишенью вовсе не было, а было просто зеркальцем, больше никогда не стрелял в тире. Я до сих пор помню? как дед доставал какие-то деньги, как инструктор в тире махал руками, отказывался от денег, показывал на награды деда на кителе и кричал: «Такой герой- ветеран, вах! Научи уже своего внука целиться, слушай, дорогой! » Может быть, когда дед возился со мной, у него тоже была вторая жизнь. Он мне об этом не говорил, а я не спрашивал. Когда мы снова уже всей семьёй пришли в парк в первые сентябрьские деньки, Фархада у самолётов не было. Вместо него истребители запускала пожилая женщина в утеплённой жилетке, с собранными в пучок крашеными волосами. — А где Фархад? – спросил я. – В отпуск ушел? — В вечный, – ответила женщина и вздохнула. Умер. Странно, но у меня почти, да что там почти, совсем не знавшего этого человека ледяная волна пробежала по спине. А может быть и не странно это. — Сердце? — Погиб он. Вечером уже дело было. Уходил уже. Шла мимо дамочка, вот прямо сюда к тропинке на выход из парка, – махнула рукой моя собеседница. — И тут парень на нее набросился, сумку вырвать хотел. Фархад наш вступился и получил ножом прямо в живот. Она помолчала и снова вздохнула – Как страшно все это. Господи, как страшно. Этот-то убежал, а дамочка «скорую», говорят, вызвала. Да только не довезли. Крови много потерял. Я застыл и какое-то время не замечал ничего вокруг. Встрепенулся от того, что Ромка тряс меня за руку. — Папа! Папа! Давай зёлтый саалёт! Зёлтый!
Плата по счетчику
Влад Непомнящий работал таксистом. Он имел опыт трехлетней отсидки в колонии и любил женщин. И сидел из-за женщины. Или из-за того, что любил. … Маша Уткина тогда была замужем за моряком. Тот вспенивал волну теплоходом «Иван Бунин», а она теряла голову от Непомнящего. Влад возил какую-то большую «шишку» из «Облсовтрансмаш….», неважно. Деньги у него были, и женщин он любил, а особенно Машу Уткину. Одевалась она исключительно в заграничное. Пахла тоже чем-то заокеанским, а Влад неудержимо тянулся к таким женщинам. Он чувствовал себя к ним, безусловно, причастным и потому счастливым. Они пили шампанское и ели эклеры, гуляли в парках и катались на прогулочных теплоходах. Непомнящий часто поглядывал на родинку в форме звездочки прямо под правым ушком Уткиной. — Так бы уплыть куда подальше, — говорил Влад, поплевывая шелуху от семечек в речную, бутылочного цвета, воду, — твой вон плавает-плавает и всё равно возвращается… — Он ходит, — уточняла Маша. — Что? — Моряки говорят не «плавать», а «ходить». — Вот и я говорю, твой ходит-ходит, а все равно приходит обратно, а я такой, чтоб уплыть и не возвращаться сюда. — Чем же тут плохо? — она с вызовом смотрела на него, — а я? — Так я бы с тобой уплыл, — с выдохом отвечал Непомнящий, обнимал предмет своего обожания одной рукой за плечо и добавлял тихо и с чувством, — к чёртовой матери! А потом они заваливались, хмельные, в квартиру Машиного мужа-моряка, полную всяких заграничных безделушек, импортного тряпья, аппаратуры и мебели, пахнущей свежеспиленным деревом и лаком, и кувыркались до утра на двуспальной кровати, которую изготовил знакомый Машин мебельщик — крупной кости мужчина с поразительно голубыми глазами. Ох, это было так давно…. А однажды утром моряк вернулся в свою квартиру, да не один, а с приятелем. Их загорелые лица, пропитанные морской солью, тускнели тяжелым похмельем. Из кармана форменных брюк у одного из них скромно выглядывало горлышко «Столичной». Каково же было их удивление, когда на кухне они застали среднего роста мужчину в одних трусах, который буднично жарил яичницу. Из ванной комнаты доносилось сбивчивое пение Маши Уткиной. — Коля, не дай ему уйти! — закричал моряк и бросился на звуки знакомого пения. Через секунду Маша тоже закричала. Непомнящий бросился к двери. — Стоять! — закричал Коля, скорее от испуга, чем для устрашения. Влад одним прыжком достиг противника, и молниеносно выхватив из его кармана «Столичную», обрушил бутылку на его же блестящую лысину. Коля молча рухнул на линолеум с рисунком фигурного паркета. В конце коридора слышались приглушенные рыдания Маши Уткиной. Она сидела в пустой чугунной ванной, поджав ноги к подбородку и закрыв лицо руками. Моряк, нависая над ней непреступной глыбой, лупцевал жену широким ремнем с позолоченной бляшкой, на которой был изображен якорь. — Вот тебе, сучье отродье! Вот тебе за верность! За то, что ждать обещала! За шмотки! За побрякушки! — каждое «за» непременно отмечалось ударом. Непомнящий навалился на спину моряка, тот увлек его куда-то вниз, круша настенные полочки с парфюмом, и вдруг затих. Уткина заорала истошно. Ее муж стоял на коленях, обняв раковину-тюльпан, и по белой эмалированной поверхности умывальника текла багровая кровь. Моряк разбил голову. — Вот те раз! — только и смог выговорить Непомнящий. Он терпеть не мог, когда обижают женщину. Тем более Машу Уткину. Хотя она и не была его женщиной по праву, он всё равно считал ее своей. Маша быстро пришла в себя, и пока её кавалер в спешке натягивал штаны, позвонила в милицию. Непомнящему заломили руки как раз в тот момент, когда он пытался помочь Коле, изуродованному осколками «Столичной». Потом был суд. Потом — этап. Ещё позднее — письмо от Уткиной. Первое и последнее. «Прости. Не осуждай. Нам было хорошо, но загорелое просоленное лицо и крепкие руки, обнимающие штурвал, я не променяю, ни на что». У Влада ничего этого не было. Лицо у него было самое обыкновенное, да и руки всегда обнимали не штурвал, а женские прелести. Он решил вычеркнуть Машу из своей жизни. Она предала его, и он забыл. Почти забыл о ней. К счастью, тогда на квартире, полной дефицита, он никого не убил. Из пяти положенных, Непомнящий отсидел три года и вышел по амнистии. На работу брать не хотели, по ночам он разгружал вагоны на станции, жил у старых знакомых, сначала на окраине города, потом снимал крохотную комнатёнку в коммуналке . Однажды на улице встретил своего бывшего шефа. Тот выходил из дверей торгового центра с огромной коробкой торта и никак не мог пристроить в руках дорогущий объёмный букет роз. — Помогу, Савелий Робертович? — узнал и обрадовался Влад — Ого! — от неожиданности воскликнул бывший шеф, — помоги, помоги, товарищ Незабываемый! Это он нарочно назвал Влада Незабываемым. Так сказать, перевернул его настоящую фамилию на 180 градусов. Что ж, значит, вспомнил. — Выглядишь скверно. Освободился? — Вроде того. — Чем занят? — Вроде ничем. — Позвони, — лукаво подмигнул ему важный чин и протянул визитку. Да, видимо не забыл Савелий Робертович тайных комнат-квартир, на которых верный водитель устраивал ему романтические встречи с дамами. Уже через две недели Владислав Владимирович Непомнящий был официально оформлен в третий таксопарк. У него была желтая «Волга» и радиостанция. Начиналась новая жизнь. Появились деньги, появлялись и женщины. Непомнящий по-прежнему любил их, но уже не безоглядно. Вначале была Светка — официантка из ресторана «Памир». Пышногрудая брюнетка, с ярко накрашенными губами, она курила дорогие дамские сигареты и любила повторять: «туды его в колыбелечку». Она не знала, что означает эта фраза. У нее это было выражением крайнего восхищения. Светка много ела, пыхтела, когда занималась сексом, но Непомнящий любил её за то, что она приносила еду из «Памира», поддерживала порядок в комнате и не задавала лишних вопросов. Он бросил её быстро, через несколько месяцев. Потом появилась Леночка — рекламный агент. Высокая, с точёной фигуркой и серыми глазками, она упоительно рассказывала о своих многочисленных поклонниках, чем оттолкнула Непомнящего окончательно. Вера Корсикова — учительница начальных классов, околдовала его с первого взгляда. Он как-то взял её на Тургеневской в жуткий ливень, и они потом долго беседовали ни о чем в желтой «Волге» с черными шашечками на борту. — Тебе бы в модельном агентстве работать, — говорил Влад, — а ты со своими школьниками палочки складываешь. Вера действительно была эффектна. Она единственная, пусть отдаленно, но напоминала Непомнящему Машу Уткину, отчего он испытывал к ней двойственные, щемящие чувства. Он искал в ней всё, что могло бы напомнить ему его очаровательную предательницу, а когда находил — гнал от себя, остервенело и грубо, отчего становился иногда нелюдимым, замкнутым. Таким он совсем не нравился Вере Корсиковой. Тогда она начинала называть его на «вы», чем приводила Непомнящего в бешенство. — Вы, Владислав, бываете откровенно отталкивающим индивидуумом. Разве можно грубить женщине? — Помолчала бы, — огрызался Непомнящий, — не замечаешь, как у школы твои коллеги-мужики о тебе переговариваются. Вот, говорят, упругие ягодицы пошли. — Синекдоха, — неожиданно сказала Вера. — Что? — Когда название целому даётся по его части, — заученно произнесла Корсикова. — Опять ты, как на уроке. Хорошо хоть, во время этого дела ты у меня фамилию не спрашиваешь и оценку после не ставишь. Вот, дуры бабы! Однажды он вышел за сигаретами и к Корсиковой в этот вечер уже не вернулся. Непомнящий любил женщин. Но искать в каждой из них Уткину было невыносимо даже для окаменевшего сердца бывшего зека. Иногда ему казалось, что он видит Машу ясно и чётко, идущей по улице вдоль одинаковых серых новостроек, но женщина оказывалась просто прохожей. Дать ей пощёчину было абсолютно не за что. А так хотелось. Потом женщин долго не было. Шумные компании, много водки, философские хмельные рассуждения о высоких материях в многочисленных пивных барах, бестолковые пассажиры, которым хотелось поговорить совершенно некстати, — всё это было. А женщин не было. Вернее сказать, не было длительных основательных отношений. — На хер они нужны! — поддерживал образ жизни своего коллеги Марк из второго таксопарка, — все беды от этих крыс. И геморрой тоже. — А геморрой тут причем? — С ними еще не то наживёшь, — ловко выкрутился Марк и закурил, — вот ты, Владик, про свою фифу рассказывал… как ее… Машу. Вот интересно, чтобы ты сделал, если бы встретил её на улице? Непомнящий помолчал. Задумался. — Не знаю, — честно ответил он, — давно её не видел. — Ну, ты представлял когда-нибудь, как это будет? — не унимался Марк, — вот как она будет выглядеть? — Красивая будет. Ровные белые зубки, запах — закачаешься, ноготки в порядке. Она ведь к хорошей жизни привыкла. — Краси-и-ивая! — передразнил Марк, — а ты из-за неё три года оттянул. Э-эх! — досадно махнул он рукой и опрокинул в себя очередную рюмку. … На город спускался тяжёлый серый вечер. Он ехал по Садовой и разглядывал пёстрые рекламные щиты. Вот парочка голосует. Он какой-то долговязый в сером пальто. Она в коротенькой шубке, ножки стройные, что-то резко выговаривает долговязому прямо в лицо. Влад притормозил. Долговязый согнулся напополам и открыл дверцу: — До Трамвайного подбросите? Непомнящий посмотрел на него. На его спутницу. Зачем-то нахлобучил на голову кепку. — Садитесь. Оба примостились на заднем сиденье. — Сколько? — спросил мужчина в пальто. — Плата по счетчику. Вы дверцу не закрыли. Долговязый хлопнул дверцей такси. — Еще раз. Хлопок. — Вот теперь поехали. Дама с хорошенькими ножками продолжала высказывать долговязому резкости. — Ты совершенно не представляешь, как я живу! Я вынуждена прятать все твои записки, односложно отвечать на твои звонки, просыпаться в страхе. Может быть, я назвала твоё имя во сне, понимаешь? Я становлюсь нервной и сварливой. Совершенно жалкой! — девушка игриво всхлипнула и продолжала с напором. — Толик постоянно дома, с тех пор, как его списали, он пьёт и не даёт мне продохнуть от своей нечеловеческой ревности! — Вы на нас не обращайте внимания, — вдруг обратилась она к водителю, наигранно улыбнулась, слегка обнажив два золотых зуба. — Ты эгоист! — продолжала она, уже повернувшись к долговязому. — Окончательно испорченный своей мамочкой эгоист! Мне давно нужно было это понять, но – как же! Ты меня ослепил своими ухаживаниями! Ты не даёшь мне почувствовать себя свободной, это совершенно невыносимо.… Куда это мы? — снова обратилась она к водителю. Машина свернула в скудно освещённый переулочек и ухнула на встречной кочке. — Так быстрее будет, — заверил Влад. — И всё равно, ты не должен так поступать со мной! — продолжалось в той же резкой тональности. – Ты меня совсем не понимаешь! — Ну, что же мне делать? — наконец вымолвил долговязый и понизил голос, — я же люблю тебя. Его спутница противно цокнула и махнула рукой. Мол, безнадёга. «Волга» остановилась. — С мотором что-то, — проворчал Непомнящий, — одну минуту. Он вышел на улицу, неспешно обошел автомобиль вокруг, потоптался на месте и показал парню в салоне: выходи, поможешь толкнуть. Тот нехотя выбрался на улицу, поравнялся с водителем, и в ту же секунду увидел его глаза. Сиюминутный, животный, унизительный страх обрушился на долговязого. Он не мог понять, как случилось, что эта волна подлого страха окотила его головы до ног, но ноги его стали ватными, рубашка прилипла к спине, и он ясно ощутил, что если бы хотел что-то сказать, то не смог бы этого сделать от внезапной потери голоса. И когда почти неслышно, одними губами Непомнящий произнес «Беги!». Парень резко повернулся и, не оборачиваясь, рванул прочь от автомобиля. В густых сумерках было видно, как развиваются полы его серого пальто. Тут же резко распахнулась дверца, выскочила из такси его спутница, заорала: «Стой! Ты куда!?» и вдруг их лица – таксиста и пассажирки встретились. Дама с хорошенькими ножками широко вдохнула воздух. Секунду молчала в оцепенении, боясь признаться себе в том, что узнала Влада. А затем сильные руки Непомнящего втолкнули ее обратно в салон. В полной, пугающей тишине несколько коротких ударов, казалось, были слышны на весь квартал. Девушка не кричала, а только жалобно, тихо поскуливала и пыталась найти в сумочке салфетку, чтобы стереть кровь с лица. Непомнящий гнал такси по темным, второстепенным переулочкам на выезд из города. А потом, когда стела с названием города осталась далеко позади, он съехал с трассы и долго еще переваливался по рытвинам и ухабам, пока не оказался где-то в поле, в окружении густой лесополосы. Мотор затих и Маша Уткина, а это была именно она, услышала тихое, но требовательное: «Раздевайся!» Она сбросила с себя шубку, кофточку, сапоги и с готовностью посмотрела на Влада. Он молчал. Весь вид Уткиной, хоть и было лицо ее заплаканным и жалким, а кровь на щеках смешана с растекшейся тушью, выражал готовность сделать все, что прикажет сидящий за рулем «Волги» мужчина. — Выходи, — вдруг сказал он. -Что? – не поняла Маша. Она была готова на все: быть избитой, изнасилованной прямо тут, в автомобиле, она готова была даже умолять пощадить ее и не убивать. Ведь могло же придти Владу такое в голову. Но… — Выходи! – почти выкрикнул Непомнящий. Маша еще секунду колебалась, а затем щелкнула дверцей и вышла на улицу. Сразу утонула ступней в холодной земляной жиже, покачнулась, но на ногах все-таки устояла. Тело от холода мгновенно покрылось мурашками и она обняла себя руками за плечи, впрочем, совсем не надеясь согреться. «Волга» заурчала, дернулась и двинулась вперед, в сторону трассы. Уткина еще немного постояла, провожая взглядом такси, и заковыляла по направлению к дороге. По пути она дважды упала на влажную землю, измазалась в грязи, разорвала колготки, но до трассы все-таки дошла. Автомобили проносились мимо, не замечая ее. Ветер усилился. Она совсем не представляла, сколько же нужно идти, чтобы добраться до города, но медленно, чуть прихрамывая, шла вперед. Главное не останавливаться. В какой-то момент ее ослепило фарами и Маша прикрыла лицо ладонью. К ней задним ходом медленно приближалась та самая «Волга». Это был не сон. Не видение. Это был автомобиль Влада с черными шашечками на багажнике. И когда она уже прибавила шаг навстречу, когда рот ее искривился в жалкой усмешке (простит, увезет, пожалеет), машина затормозила, на асфальт шлепнулись сапоги, затем кофточка и шубка. Дверца захлопнулась и «Волга» стремительно умчалась вперед. Теперь уже навсегда.
Побеждать легко
Я любил побеждать. И войну. Она завораживала и опьяняла. Я знал, где искать врагов, как незаметно проникнуть в их лагерь, как «снять» часовых и пробраться к вражескому блиндажу. Там, склонившись над картами, сидит вражеский генерал. Генерал был злым и усталым. Он уже несколько часов не мог занять наши позиции. Атаки его солдат неизменно разбивались о нашу храбрость. Генерал все придумывал, как обойти нас с тыла и нанести сокрушительный удар. Он не спал и не ел. Он думал только о том, как победить. А в это время я пробирался к его блиндажу, убивая одного за одним часовых и затыкая себе за пояс трофейные штык – ножи. Увидев меня в своем блиндаже, генерал не двигался с места. Только с сожалением бросал взгляд на свой пистолет, который лежал на столе. Лежал слишком далеко, чтобы резко схватить его и выстрелить в меня – своего врага. Генерал становился моим пленником. Я выходил вместе с ним из блиндажа, держа его сутулую, худую спину под прицелом. Он шел впереди на полшага, с достоинством побежденного, но сильного духом врага. Мы проходили мимо мертвых часовых, и он смотрел на них почти без выражения. И вдруг, генерал резко поворачивался ко мне, выбивал из рук автомат и бежал. Бежал петляя, чтобы я не сумел прицелиться. Но я и не целился. Я бежал за ним, догонял и бил в худую спину штык — ножом. Он падал, я заламывал ему руки и, прячась от вражеских выстрелов за кирпичной стеной старого сарая, тащил раненого пленного генерала к своим позициям. А потом приходили «наши». Кто-то бежал впереди с потрепанным красным флагом и все кричали: «Ур-р-ра»! Наши сметали все на своем пути и от вражеского лагеря оставались руины. И были пленные. И были убитые. И был я – счастливый и гордый тем, что выжил. И пленный генерал молчал на допросе. И ему угрожали расстрелом. Но для меня это было уже не важно. Я стоял чуть смущенный перед строем и наш генерал награждал меня медалью и именным оружием. Так легко побеждать – думал я тогда. Это совсем не трудно и даже почетно. Ты герой и все смотрят на тебя с нескрываемой завистью. …А потом мама махала с балкона рукой и звала меня обедать. И именное оружие превращалось в пластмассовый пистолет и штык – ножи за поясом оказывались выструганными из дерева. Пленный генерал всего лишь Ромка Пахомов из второго подъезда, а часовые, так мастерски убитые мною всего полчаса назад — мальчишки с соседнего двора. Мы объявляли перемирие до завтра и ждали этого завтра с нетерпением. Ждали, чтобы снова победили наши и проиграли «не наши», то есть враги. Ждали ради того, чтобы снова приятно удивиться – побеждать так легко. Нужно только, чтобы жребий выпал правильный. И обязательно поставил тебя в строй к своим. Потому что если ты попадешь к врагам, то неминуемо будешь убит и, возможно, бесславно, и никто не вспомнит о тебе и не наградит. *** Шестнадцать лет спустя, я лежал в канаве и старался не орать от боли. Наш УАЗик — буханку тряхнуло взрывом, потом затрещали автоматные очереди, мои коллеги-журналисты стали выпрыгивать на землю. Пригнувшись, я рванул в сторону от машины и еще видел перед собой спину моего оператора. В эту секунду снова прогремел взрыв. Осколок гранаты попал в бедро, меня отбросило в сторону и, похоже, контузило. Было по-настоящему больно и мне уже не казалось, что победить легко. Я думал только о том, чтобы выжить. Кто-то подхватил меня и потащил по земле. Сил сопротивляться у меня не было. Он полз рядом и тащил меня за собой, и это уже не казалось мне таким романтичным, как много лет назад. Это был свой. Кто-то из нашего сопровождения. Я вспомнил его. Ему было тяжело тащить меня, совсем не маленького. Он, кажется, матерился, но я его не слышал. Я закрыл глаза и постарался расслабиться. Нужно было стерпеть боль. Она злилась, издевалась надо мной и не уходила. И вдруг я словно почувствовал, что тот, кто тащил меня — замолчал. Именно почувствовал. Я по-прежнему ничего не слышал, но какая-то неведомая сила заставила меня открыть глаза. На меня смотрело окаменевшее лицо. Из уголка рта медленно ползла кровавая змейка. …Я тащил его остервенело. Вражеский генерал из моего детства был легче, и я знал, куда его тащу, и знал, что награда почти у меня в кармане, а этот…. этот был тяжелым, я нисколько не ориентировался на местности и наградить меня могли разве что пулей. Но я тащил его. Не знаю зачем. Со своим сыном я запускаю воздушных змеев, езжу с ним за город собирать в лесу грибы, зимой катаюсь на лыжах и учу его сколачивать скворечник. Но часто я наблюдаю из окна, как он пробирается вдоль стены в лагерь противника, чтобы взять в плен вражеского генерала. И ничего не могу с этим поделать.
Позаботься о лице
Дело было во время фуршета. Журналистка Маша П. сидела на диете и поэтому почти ничего не ела. Оператор Сергей Олегович В. об ограничениях коллеги ничего не знал и пытался по-отечески проявить заботу. Он настаивал на том, чтобы Маша обязательно съела что-нибудь. Маша вежливо отнекивалась. Выглядело это примерно так: — Скушай бутербродик, не стесняйся – громогласно предлагал глуховатый Сергей Олегович — Спасибо, я не хочу, – отвечала Маша. Через некоторое время Сергей Олегович снова атаковал: — Ну, хоть чуть-чуть. Вот возьми тарталеточку, съешь. Не обращай ни на кого внимания. — Нет, спасибо, что-то не хочется – настаивала Маша на своем, смущаясь, что за этой трогательной заботой начинают наблюдать окружающие. Сергей Олегович не сдавался. Он сам наполнил тарелку всяческими вкусностями и отнес ее Маше. — Еще немного и всё разберут, – сказал он по обыкновению громко. – Вот, смотри какая рыбка, надо попробовать! — Ну, что вы, Сергей Олегович, – смутилась Маша в очередной раз и быстро захлопала накладными ресницами. И тогда оператор предъявил козыри. Он сказал: — Почему ты ничего не кушаешь, не понимаю!? Надо поправляться. Запомни, попа – это лицо женщины! Все его, конечно, услышали. Маша П. на некоторое время потеряла дар речи.
Покорные любви
Я слышу телефонный звонок ещё на лестничной площадке. Тычу в замок ключом — он не попадает. Я снова пытаюсь открыть, но промахиваюсь. Звонок не умолкает. Я знаю, что это ты. Наконец замок щёлкает, и дверь отвечает на мой грубый толчок. У меня руки забиты пакетами, но я их бросаю, сдираю с ног обувь и бегу к аппарату. — Да! — резко срываю трубку. — Это я, — говоришь ты своим лёгким рокочущим голосом, — я прилетаю сегодня ночью. Я не могу сдержать радости и прямо с телефонной трубкой в руках подпрыгиваю на месте и кричу: — Я тебя встречу! Ура! Я обязательно тебя встречу, слышишь? Ты слышишь, но не отвечаешь. Но я чувствую, как ты улыбаешься. Я приезжаю в аэропорт за час до твоего прилета. Хожу по пустому залу и замечаю, что даже грызу ноготь на указательном пальце. В предвкушении абсолютного счастья выпиваю кружку горячего кофе и то и дело подхожу к бегающим строкам электронного табло. Фиксирую взгляд на номере твоего рейса и времени прилёта. Остается полчаса… двадцать минут… десять. Когда объявляют посадку, я стреляю глазами по толпе входящих в аэровокзал пассажиров. Увидев тебя, бросаюсь навстречу. Кружу тебя на глазах изумленных зрителей, и ты в какой-то момент легко отстраняешься от меня. — Как долетела? – спрашиваю. — Очень соскучилась! — отвечаешь ты. Мы в обнимку идем к машине, таксист открывает нам дверцу, и мы плюхаемся на заднее сиденье. В салоне пахнет хвойным освежителем воздуха вперемешку с табаком. Ты закуриваешь. Мы мчимся в мелькании ночных огней большого города. — А куда мы едем? — ты смотришь на меня широко раскрытыми, своими большими, бездонными, голубыми глазами. — Ко мне. У меня есть «Мартини», — хвастаю. — Отлично. Только давай сначала погуляем. Я так давно здесь не была. Я прошу таксиста остановиться на Театральной площади, расплачиваюсь, и мы идём по городу. — Ничего не изменилось, — говоришь ты без интереса, — только мой любимый театр заковали в леса. Мы сворачиваем в парк и долго бродим по тускло освещённым зелёным аллеям, вдыхая запах сбритой еще несколько часов назад газонной травы, время от времени хлопая себя по голым рукам, безжалостно убивая комаров. Я держу тебя за руку. Сквозь меня проходит электричество. Так бывает всегда, когда ты приезжаешь ко мне. Я перебираю твои пальцы в своей ладони, пытаюсь уловить каждый звук твоего тихого голоса, и мне кажется, что всё это со мной впервые, что тебя никогда не было рядом, и знакомы мы всего несколько минут. Мы гуляем час или два и совсем не устаём от этой бесцельной прогулки. Я долго рассказываю тебе о наших общих знакомых, ты внимательно слушаешь меня. О, небо! Ты всегда умела слушать. Мне хочется еще больше напитаться тобой, и только лишь когда ты говоришь: «Поехали к тебе», я радостно вскидываюсь и бегу к дороге, чтобы остановить машину. В моей квартире тебе всегда нравилось. Ты говорила, что это очень уютное гнездо. Ты и сейчас ходишь по комнатам и внимательно разглядываешь давно знакомые тебе вещи. Я знаю — тебе просто нравиться неспешно ходить среди этих вещей и чувствовать, что тебе хорошо. Пока ты расслабляешься, я быстро нарезаю фруктовый салат — бананы, клубника, киви, яблоки, ананас, заправляю всё это йогуртом и разливаю по бокалам обожаемый тобою «Мартини». Этот чёртов ноготь! Даже смотреть на него не хочется. — Тебе помочь? — кричишь ты из гостиной. — Всё уже готово. Мы едим салат большими деревянными ложками и валяемся на моей широкой кровати на животах, задрав ноги кверху. «Мартини» уже выпит, мне ударило в голову, и я начинаю медленно гладить тебя по спине. Ты вздрагиваешь — ещё не время. Но я настаиваю. Моя ладонь скользит по твоему позвоночнику, упирается в резинку от ажурных белых трусиков и ныряет в них. Ты не выдерживаешь, бросаешься на меня и заваливаешь на спину. Твои губы впиваются в мои, и твой горячий язык гуляет по моим розовым деснам. Мы сковываемся в сильных объятиях, и ты сама освобождаешь меня от нижнего белья. …Мы долго лежим без движения. Я слышу твоё дыхание, а ты, наверное, слышишь моё. Мне хочется обнять весь мир от счастья, но вдруг я понимаю, что счастье это только мое. Я не хочу ни с кем делиться моим счастьем. — Я уезжаю через два дня, — произносишь ты в пустоту. — Хочешь, я поеду с тобой? — спрашиваю, и тут же понимаю, мне нельзя ехать. Мне там нечего делать. У тебя там муж, дочка. Что я буду там делать? Даже если мы сможем встречаться, я всё время буду отпускать тебя к твоей семье. Каждый день. Нет. Мне там делать нечего! — Пожалуйста, — просишь ты, — подай мне сигареты. Я встаю и протягиваю тебе пачку «Вирджинии» и зажигалку. Ты долго смотришь на меня, так открыто, как очень давно не смотрела. — Аня, я буду очень скучать без тебя, — говоришь ты. Да я женщина. И я люблю женщину. Любовь имеет право на всё. Жаль, что мои родители думают иначе. Именно поэтому мы не общаемся уже пять лет. Они делают вид, что у них больше нет дочери. А я, если спрашивают о родителях, давно уже сочинила историю про то, что они погибли и я, бедная девочка, осталась сиротой, воспитывалась старорежимной бабушкой и в конце-концов сбежала от назойливого опекунского глаза куда глаза глядят. — Может быть, задержишься, хотя бы на один день? — спрашиваю я со слабой надеждой в голосе. В ответ ты только грустно улыбаешься. Я знаю. Ты уедешь. Я сегодня так счастлива, что мне кажется, что мы больше не увидимся.
Татьянин день
Находиться дома не хотелось. Давили стены, все напоминало о нем. Домашние тапочки, курительная трубка на полочке у телефона, тяжеленный Орфей, играющий на струнах души – Тэфи — дорогая его сердцу награда, а фотографии в разноформатных рамках, ослепляющие улыбками двух абсолютно счастливых людей и вовсе выглядели лживо и пошло. Известный тележурналист опять устроил скандал. Проверенный способ – нападать защищаясь. За двадцать шесть лет совместной жизни он изучил досконально то единственное, чем могла ответить ему жена на подобные выходки. Равнодушным молчанием. А это можно было и перетерпеть. Он и терпел день, два, а потом срывался вдруг среди ночи, возвращался с букетом роз, непременно красных и непременно таким букетом, чтобы ни в одну из ваз не помещался. Она не принимала, скорее для порядка, чем искренне, а он шутил, сыпал прибаутками, лез целоваться и разбрасывал розы по квартире. Сегодня, после очередной операции Татьяна Давидовна вошла в свой кабинет, и почти сразу затрезвонил телефон. Интуиция молчаливо забилась в угол. Таких звонков за день может быть сотни, что ж, от каждого ждать подвоха? — Зарецкая? – и, не дожидаясь ответа — Не вешайте трубку, — на том конце провода незнакомый, но, черт возьми, приятный молодой женский голос! – Ваш муж б….дует, как последний кабель. Не верите? – похоже, той кто звонил, вовсе не нужны были ответы, она продолжала, — сегодня он придет поздно, но на работе его не будет. Проверьте. А главное – спросите его сами, где он был, увидите… и все поймете. Прощайте. Вот и все, пожалуй. Короткие гудки и сорокавосьмилетняя женщина, заведующая кардиохирургией, специалист по чужим сердцам, с телефонной трубкой в руке. Молчит. И никаких эмоций. Ни гнева, ни злобы на эту неизвестную дуру, ни жалости к себе самой. С портрета на стене ей улыбался муж. Полуседой красавец в шикарном черном смокинге, тянул обе руки вверх, сжимая свою дорогую, долгожданную, выстраданную статуэтку. Домой Татьяна Давидовна шла пешком. Машину оставила на больничной стоянке. Интересно, думала она под монотонный шум людской толпы спешащей и тянущейся бесконечной вереницей, как же живут эти дряни, которые однажды решаются на подобного рода звонки? И зачем? Она ведь и так догадывалась, что Юра на женское внимание отвечает недвусмысленно, и даже пробовала громко ревновать. Но он всегда побеждал в этом поединке неравном и глупом. Он мастак на нужные слова, на правильные движения, на взгляды откровенные и полные страсти, и в постели почти Бог, хотя каков Бог в постели, кто его знает. А может быть эти стервы звонят, потому что у самих не вышло, сорвалось? В том, что эта крыса одна из бывших Юркиных Татьяна Давидовна почти не сомневалась. Способ мести у них такой! Уже в уютной большой квартире, облачившись в теплый мохнатый халат, согреваясь кружкой крепкого по обыкновению кофе, она позвонила на телевидение и спросила на месте ли Зарецкий. Странно, все вокруг считали ее сильной, железной женщиной. Прекрасный хирург, не менее талантливый руководитель, та, к которой шли, ехали, летели, чтобы спасла, сохранила, помогла, вдруг не выдержала и позвонила. И зачем? Узнать, действительно ли обманывает ее собственный муж. Да и еще и повинуясь грязному анонимному доносу. Ей ответили, что Юрий Алексеевич давно уехал. Она приготовилась терпеливо ждать. Он, конечно, приехал и конечно чуть-чуть навеселе, и конечно начал балагурить прямо с порога. Рассказывал, что выпили на работе после трудного монтажа, что Ларина пьяная не отпускала его, опять с мужем поссорилась, плакала, и он насилу вырвался, и ехал обратно осторожно, чтобы ГАИ наша родимая не принялась из известного журналиста деньги выкачивать. — Не ври Юра, тебя уже два часа назад не было на месте, — сказала Татьяна Давидовна бесцветно, будто обронила обычное «привет». Юрий Алексеевич осекся, и все еще находясь в угаре собственного шутовского стиля выбранного им здесь и сейчас, выкрикнул, страшно выпятив глаза: — На месте! Отлично! А где мое место?! Она поняла – началось. — Нет, ты скажи мне, дорогая, где оно — мое место? Может быть здесь? – он, как был в распахнутом пальто, опустился на коврик у входной двери. – Вот здесь и будет мое место, да? Так? Татьяна Давидовна молча ушла в гостиную. Уже оттуда она слышала: — Или лучше будет вообще спать за дверью… да, да за дверью. Ничего, Зарецкий, с тебя не убудет, не замерзнешь. Ты уже замерзал, на Севере, во льдах, а это пустяк, подумаешь, на лестничной клетке. Татьяна Давидовна заплакала. Он пришел от женщины. Это же ясно! Ясно! Ясно! Так явно она сейчас это почувствовала. А что же раньше? Гнала от себя это чутье, закрывала перед ним дверь хлопком, не думала или не хотела думать. Она не знала, что Зарецкий еще час назад закрывал лицо от летящих в него тарелок, крепко держал за руки свою молодую любовницу, чтобы в пылу не съездила по морде, не поцарапала, дура. Он твердо решил порвать с ней – истеричка, к тому же мнительная до безобразия. Приехал, чтобы ей об этом сказать, решил начать не с этого, и только выбравшись из постели в душ, а потом осторожно одеваясь, начал свой прощальный монолог…. Сбежал по лестнице вниз, в ушах еще звенели разбивающиеся тарелки и визгливый крик Лары, в первом же ларьке купил бутылку водки и пил прямо из горлышка. Ничего этого Татьяна Давидовна не знала. Дверь через некоторое время действительно хлопнула. В прихожей никого не было. Он ушел. Она громко, так что и себя не услышала бы, врубила музыку. Там какой-то рэп. Должно быть, младший сын забыл диск, он у нее такой музыкой увлекается. Ну, и черт с ним, с рэпом! Слезы появились снова и с новой силой. Бросилась на диван, уткнулась в подушку. Глупо! Что выплачешь? Только расшатаешь, съешь себя этими слезами. Вырубила музыку. Металась по квартире, почувствовала – душат слезы, долго дергала в горячке оконную раму, наконец, она поддалась, и в лицо ударил свежий зимний холодный воздух. Сорвала трубку телефона, набрала какие-то цифры. — Слушаю, — пробасила трубка. — Геночка, милый, я не могу, не могу больше…. – запричитала Татьяна Давидовна. Там оживились, появилось участие: — Танюш, ты что ли? Что случилось, Танюш? — Зарецкий, сволочь, дрянь, ублюдок чертов! Он мне изменяет, понимаешь? Я не могу так… не могу больше…. — Успокойся. Ты так мне еще больных распугаешь своим этим…. – на том конце провода не нашли нужного слова, — слышишь? Успокойся. — Ты его покрываешь… все вы мужики…. и ты гад… как же я теперь…. Там кашлянули. — Ну, знаешь… не обобщай, будь добра. Я все-таки главный врач клиники, где ты, понимаешь, работаешь, да? — Да, да…. Но все равно… Ей не дали договорить. — Танька! Тебе, как сокурснице прощаю. Слушай, а может тебе уехать? Нет, серьезно, поехать куда-нибудь, развеяться, мужика снять. Слышишь, что я тебе толкую? — Ты сумасшедший. — Пока еще нет. Ты же все равно через неделю отпуск собиралась брать. Горы, лыжи и тому подобное. — Какие лыжи теперь? Ты спятил. — Так. Я решил. Завтра утром жду тебя на работе, раскидаем твои больничные дела, и дуй на все четыре стороны. — Ты сумасшедший. — Слушай, Танька! – бас вдруг осенила какая-то поразительная мысль. – А давай-ка я Светке позвоню, а? — Какой Светке? – не поняла Татьяна Давидовна — Рожковой. Она же сейчас главный врач санатория в кавминводах. Где-то у меня ее телефон был. — Я завтра приеду, и мы все решим, — усталым голосом проговорила Зарецкая, уступая напору своего главврача и однокурсника, — но все равно: ты сумасшедший. Света Рожкова, в девичестве Никанорова в мединституте звезд с неба не хватала, но была усидчивой и упорной. Возможно, благодаря именно этим качествам она всегда достигала своих целей. Светка легко находила контакт с людьми и легко дружила, без трагедий, ревности и противоречий. Ее обыкновенная внешность не мешала ей завладевать вниманием мужчин почти мгновенно и надолго, что само собой не могло не вызывать зависти ее девичьего окружения. На последних курсах у них с Геной Елагиным случился роман. Головокружительный и глубокий. О них судачил весь институт, так громко и на распашку они демонстрировали всем свои отношения. Когда Светка забеременела, Гена аки благородный рыцарь просил ребенка оставить и даже готов был расписаться хоть завтра, но Никанорова в тайне от него сделала аборт. Собственно этот ее поступок и послужил причиной того, что отношения их треснули, вначале несмело, а потом все уверенней. После окончания института Никанорова работала в районной больнице, и говорят, была на отличном счету, а еще года через три вышла замуж за начинающего чиновника из Кисловодска, стала именоваться Рожковой и переехала с ним поближе к чистому горному воздуху. Годы спустя чиновник стал большим человеком в мэрии, а его супруга главврачом крупного санатория. Несколько лет назад она привезла своего сына с опухолью легкого именно к Гене Елагину, и он блестяще провел операцию. Они даже не смогли поговорить между собой о чем-то другом, кроме состояния больного. Все слова казались лишними, да и старое ворошить решили ни к чему. Теперь Елагин позвонил Рожковой и решил вопрос с заселением Татьяны в санаторий в пять минут. К тому же в его благодарных должниках ходил и начальник железнодорожного вокзала, так что достать билеты на поезд до Кисловодска тоже не составила труда. Утром Татьяна Давидовна еще была в больнице, совершила обход в собственном отделении, а уже вечером под монотонную мелодию колес мчалась к курортным благам на Кавказ. *** Зима в Кисловодске мягкая и снежная. Вид из окна открывается великолепный. Горы с белыми макушками подпирают серо-голубое небо, почти невесомый пушистый иней лежит на ветвях деревьев и все вокруг кажется сказочным и искрящимся. В первый день пребывания Зарецкой в санатории до позднего вечера просидели две бывшие сокурсницы в кабинете главврача, выпивая жестковатый просковейский коньяк и закусывая невообразимо вкусными шоколадными конфетами. — Близко к сердцу не принимай, — советовала Рожкова, — мы то с тобой должны знать, что мужик так устроен. Он животное, понимаешь? — Да? Ты серьезно? – Татьяна Давидовна смешно выпучила глаза и всплеснула руками. — Дуреха, — засмеялась Рожкова, — мы тут тебе такого мужичка отыщем, будь спок! – главврач санатория понизила голос до шепота и заговорила заговорщицки, — а за физическим, так сказать, здоровьем кандидата прослежу лично! — Да, брось ты ерунду молоть, — отмахнулась Зарецкая. — А помнишь, как Колька Маркин от меня к тебе бегал? Я ведь тогда все поняла…. – Рожкова вздохнула и снова рассмеялась, — Ладно, Танюша, кто старое помянет… сколько лет прошло. Зарецкой сейчас в сторону мужчины и смотреть не хотелось, не то чтобы…. Но судьба играла в свою игру и двигала фигуры совсем не так, как задумали создатели классических шахмат. Только ей были ведомы собственные правила этой замысловатой, многогранной, часто трагичной игры и здесь пешка вполне могла сойти за королеву и наоборот. Выходя от Рожковой Татьяна Давидовна все же сняла с пальца обручальное кольцо. Они встретились через пару дней, когда он открыл перед ней входную дверь корпуса, пропуская даму вперед, как истинный джентльмен. Тогда она не обратила на него особенного внимания, даже ничего не бросилось в глаза. Поблагодарила легким кивком и все. Но именно в тот момент и началась игра, задуманная судьбой. Их следующая встреча состоялась за обедом. Один из соседей Зарецкой по столу – здоровенный и малоприятно пахнущий мужчина с пышными усами не пришел. То ли процедуры задержали, то ли вовсе решил разгрузиться, потому что на завтрак тоже не явился, и его отсутствие Татьяна Давидовна отметила с явным для себя облегченьем. Остальные прибыли в столовую вовремя — худенькая, тонкая женщина в очках, которые ей совсем не шли и безликий мужчина без возраста, почечник, как догадалась Зарецкая по синюшным разводам вокруг глаз. Он подошел к их столику, когда еще не начали разносить тарелки, и обратился ко всем сразу: — Позволите присесть? Все молча согласились. Познакомились между собой. Он оказался Александром Сергеевичем. — Меня в школе даже дразнили Пушкиным, — сказал он, будто смущаясь, — а я негодовал, простачок. Не понимал, что этим гордиться надо. Ему на вид едва за пятьдесят, очень приятная, располагающая внешность, с виду легкий такой, а глаза глубокие. Ест неторопясь, аккуратно. То и дело промокает губы салфеткой, даже если этого и не требовалось. Волнуется. Зачем она все это фиксирует? — Я провожу вас, — не спросил, а утвердительно произнес он после обеда, снова пропуская Зарецкую впереди себя. Ей понравилась эта интонация, и она согласилась. Уже у двери ее номера он снова утвердительно произнес: — Встретимся с Вами завтра и погуляем, например, в парке. Погодка то стоит замечательная. Спасибо Вам за компанию – сказал и ушел. Не оборачиваясь. И они гуляли, похрустывая январским снежком. И разговаривали. — Я, знаете ли, Танюша профессор филологии. Преподаю в институте старославянский и древнерусскую литературу. — Ух, ты! Это, наверное, ужасно сложно? — Нет. Если хотите, я вас обучу некоторым речевым оборотам, это чрезвычайно интересно. — Научите, — согласилась Татьяна Давидовна. — Ну, а вы кто по профессии? Постойте, — он сделал останавливающий жест рукой и внимательно посмотрел на Зарецкую. Она остановилась в неожиданности, а он обошел ее вокруг и снова остановился, прямо глядя ей в глаза. — Вы врач. Правильно? Татьяна Давидовна рассмеялась. — И как вы догадались? — Это просто. Есть в вас что-то такое… спасительное. — Да что вы? Может быть, вы и специализацию мою отгадаете, а Александр Сергеевич? — Отчего же нет, — он с удовлетворением потер ладони и зажмурился. Вид его снова насмешил Татьяну Давидовну. Она поняла, что он старается ей понравиться. И это ему пока удавалось. — Вы.., — он сделал таинственную паузу, — Вы терапевт, должно быть. — Почему? — Ну, не спрашивайте. Терапевт и все! Правильно? — Абсолютно! – соврала Зарецкая — Вот видите! Они еще долго ходили пешком по заснеженным аллеям парка. Она уронила перчатку, он поднял и как-то особенно посмотрел на нее. Неловкость для обоих необъяснимая окутала их с головы до ног и мешала говорить свободно, безоглядно, не пускала в откровения. — Замерзла? – спросил он, когда вошли в корпус, и она вдруг вздрогнула. Перешел на «ты». – Я тебя приглашаю. У меня люкс на самом верху. Вид потрясающий! Опять он не спрашивает. Так и хочется плюнуть на все и пойти. Пойти за ним. В люксе тепло. Просторная гостиная с большим окном почти на всю стену, на письменном столе разложены стопками какие-то бумаги, современная согнувшаяся пополам настольная лампа дневного света нависает над ними. — Проходи, пожалуйста. А я пока коньяк разолью, согреемся. — А шампанское есть? – неожиданно для себя спросила Татьяна Давидовна. Он задумался, но только на долю секунды. — Проходи, — повторил просто. – Я сейчас. Она осталась одна в шикарном номере, сбросила пальто, сапоги и прошла в гостиную. Интересно, чтобы сказал покойный отец, еврей в пятом поколении, всю жизнь положивший к ногам ее матери, признайся она ему, что приняла приглашение едва знакомого мужчины провести в его номере пусть даже несколько часов? Татьяна Давидовна постоянно имела перед глазами пример супружеской верности и служения. Бескорыстного, почти слепого служения семье. Она и сама старалась так жить. С замужеством не торопиться, но уж если решилась на общий очаг, не предавать его и поддерживать огонь всеми своими силами. Александр Сергеевич появился вскоре с запотевшей бутылкой шампанского. — Прости, бокалов нет, — пожал он плечами. Она осталась у него в номере. Вопреки всему на свете, что еще так недавно было свято для нее, так незыблемо. Профессор филологии оказался неплохим любовником, и Татьяна Давидовна отдавалась ему с некоторым забытьем и даже вдохновенно. Ей нравилось отвечать на его ласки, она крепче прижимала его к себе, и шептала что-то, и стоном выходило из нее удовольствие. Он был новым и каким-то другим, не таким как Юра. Не таким. И это ее даже забавляло. — Может быть еще шампанского? – первое, что спросил профессор после короткого, но глубокого молчания. — Я бы сигарету выкурила, — еще не совсем очнувшись от произошедшего произнесла Татьяна Давидовна. Она убежденно не курила со студенческой поры, но сейчас, вдруг, нестерпимо захотелось. Так, что даже почувствовала запах сигаретного дыма и привкус ментола во рту. Александр Сергеевич встал, ловко завернулся в простыню и ушел в гостиную за сигаретами. Володька, наверное, осудил бы меня – подумала Татьяна Давидовна. Володька – ее старшенький. Пустился по папиным стопам в журналистику и надо сказать делает успехи, но за свои двадцать пять успел жениться, оставить жену (слава Господу детей не завели), и обзавестись новой – прехорошенькой девочкой из его окружения. Но его мать! Наверное, он и представить себе не мог бы такой ситуации. Как же это она сумела? Как смогла? И главное, почему до сих пор не могла этого сделать. А ведь варианты, что скрывать, были. От высокопоставленных пациентов, до известных во врачебном мире коллег. Морозов, нынче владелец собственной клиники. Калинин – заместитель мэра, красавец, надо сказать. Лапшин, Демидов, Лисницкий – все они, кто косвенно, а кто и прямо добивались расположения кардиолога Зарецкой. Демидов цветы присылал. Как угадывал настроение непонятно. Необычные букеты. Никогда домой не брала. Думала, совру, что пациенты отблагодарили, выдам себя как-нибудь взглядом. А что же теперь получается? Хранила нехранимое. Все равно. Уже сделано. И не жалею. — Дамских не держу, — услышала она голос профессора, — От «Кэмэла» не откажешься? *** А потом Александр повел Татьяну в ресторан. Они, конечно же, общались на «ты». И на следующий день тоже повел. А еще через день махнули на экскурсию в Домбай, и Саша ходил по снегу без свитера, хорохорясь и читая нараспев стихи, то ли Лермонтова, то ли Пушкина. А потом они ездили в Пятигорск, и он тащил ее вверх на гору Машук к бюсту великого поэта, показывал место, где проходила дуэль. И она снова ночевала в его люксе. Утром ее разбудило зимнее солнце, которое нагло пробивалось в спальню, сквозь жалюзи. Саши рядом не было. Она неторопясь потянулась, потерла ладонями лицо, освобождаясь от сна, откинула одеяло. А я еще ничего, отметила про себя. Кожа гладкая, грудь не виснет почти, аккуратные пальцы. Да, я точно ничего. — Ты знаешь, какой сегодня день? — спросил вошедший профессор филологии Секунду подумала и быстро ответила: — Четверг. — Сегодня двадцать пятое января. — Ну и что? — Татьянин день. Твой день, глупенькая! – он ликовал. То ли оттого, что помнил об этой дате, то ли потому что она так и не вспомнила. — Никуда сегодня не пойдем. Шампанское уже здесь, конфеты тоже, кофе я сварил. Будем заниматься любовью весь день. Хорошо? Она рассмеялась. Он просто прелесть. Прелесть и все тут! И они пили шампанское и ели конфеты, всякий раз, когда выбирались из постели. Так прошло несколько часов. — Переезжай ко мне, — сказал Александр Сергеевич, — в том смысле, что перевози вещи в мой люкс. -Уже? — А что медлить. И так, как будто на два дома живешь. Действительно. Со стороны можно было подумать именно так. Но что-то останавливало ее. Профессор, заметив задумчивость Татьяны, пришел на помощь. — Ладно. Я понимаю. Вечером ты уйдешь к себе и останешься до утра. Подумай обо всем. Я же чувствую, ты мучаешься, ты замужем, хотя и кольца нет, я все понимаю… — Опять телепатия? — Черт его знает. Интуиция. Так что, согласна? Татьяна Давидовна кивнула. — Но пока до вечера есть время, давай не будем терять его понапрасну. Так она не проводила еще ни один Татьянин день в своей жизни. Вечером она вошла к себе в номер, но дверь закрывать не стала. Приняла душ, включила телевизор и утонула в мягком кресле у окна. Что с ней произошло? Неужели ей действительно так нравится этот профессор филологии? Ну развлеклась, ну отдохнула от забот, ну мужу своему ответила изменой. Разве имеет вся эта цепочка событий какое-то отношение к тому, что она чувствует, о чем думает? Дверь скрипнула, и в прихожую ступил мужчина в пальто. Лица не было видно, но Татьяна Давидовна узнала его. — Проходи, — сказала она, — я ждала, что ты проявишься раньше. Мужчина вошел в номер и на свету оказался Юрием Зарецким. — Я увидела тебя еще в Домбае, на канатке. А потом ты следил за нами весь путь к Кисловодску. — За вами. Вот именно! За вами! Кто этот хмырь? Я спрашиваю, кто этот мужик, который с тобой…. — Хватит! – неожиданно резко оборвала его Татьяна Давидовна. – Это очень добрый и славный человек, он меня на руках носит, чтобы ты знал, и я была у него! — она тараторила, как пулемет, боясь остановиться — Да! Да! Да! И не только была, но и спала с ним, ты понял? Знаменитость, мать твою! Спала, и мне очень понравилось, потому что он это делал искренне, понимаешь ты, искренне, а не по долгу…. – ее оборвал хлопок. Вначале она не поняла, откуда он, почему прозвучал так явственно, и почему голова дернулась. Осознание пришло через мгновенье. Это была пощечина. Зарецкая обмякла в кресле и теперь снизу вверх смотрела на мужа. — Я вытряс у твоего Елагина куда ты уехала. Я здесь, чтобы вернуть тебя. Просто уедем домой. Ничего не говори. Там, у санатория машина. Если ты согласна, просто кивни. Сегодня же Татьянин день. Твой день, Танька. Он помнит. Всегда дарил мне цветы двадцать пятого января, и всегда розы. Где он их доставал…Татьяна Давидовна почувствовала, что подбородок предательски дрожит, и слезы хлынут вот-вот неконтролируемым потоком. И они, конечно, хлынули. — А где теперь твой муж? — В Москве. Конференция называется…. – она задумалась, вспоминая, — что-то вроде «развитие инфраструктуры курортных городов России». Ты мне лучше скажи, как наша докторша? Верит тебе? А то я тебя последние дни редко вижу, влюбился? Он неторопливо затянулся сигаретой. — Интересный экземпляр. Знаешь, иногда, кажется, что ее можно на раз прочитать, а иногда… — Ты смотри не заиграйся. Это вас в театральном учили: прочитать, не прочитать? -Перестань. Она не так проста, как кажется. На лице улыбка, а внутри мысли какие-то так и движутся, как молекулы. Даже в постели она не свободна до конца. — Еще бы! Ей рога мешают – она весело рассмеялась. — Слушай, а тебе не жалко ее? — А тебе? Тоже мне, совестник нашелся. Мне нужно, чтобы она в тебя влюбилась, понимаешь? Так, чтобы с тобой захотела уехать. Где ты там живешь, профессор хренов? — Какая разница. Я так понимаю, мне с ней никуда уезжать не придется. — Не волнуйся. Не придется. Ты мой. И будешь всегда моим. Ты же хочешь быть моим? Ну, скажи, скажи…. Он слегка отстранил ее от себя и поднялся с постели. — Пить захотелось, — объяснил он – Тебе соку принести? — Включи свет, — сказала она вместо ответа, — хочу тебя увидеть. Он щелкнул выключателем. — Ты у меня самый красивый мужик, Саня! – разлохмаченная, чуть опухшая от выпитого накануне Света Рожкова тянула вверх большой палец правой руки. — Вот увидишь, завтра утром она придет ко мне в люкс со своими вещами – уверенно произнес Александр Сергеевич. Но завтрашнего утра в элитном санатории Кисловодска для Татьяны Давидовны уже не было. Она дремала на заднем сидении «Лэнд Ровера» и он мчал ее по расчищенному от снега шоссе, ведомый известным тележурналистом Юрием Зарецким – ее мужем. Тихо играла спокойная музыка и еще больше убаюкивала Зарецкую. Ей хотелось уснуть и проснуться только дома, на своей постели, среди своих запахов, но она не проваливалась в сон окончательно, словно приговоренная ловить за окном сигналы клаксонов, шелест шин и переливы саксофона в салоне авто. Непонятно сколько времени они ехали, но в какой-то момент Татьяна Давидовна почувствовала – остановились. Хлопнула дверца. Сквозь прикрытые веки она различила фигуру Зарецкого. Он шел к цветочному павильону вдоль обочины. Выбирать розы.
Школа
Колокольчиков всю жизнь жил в одном доме. Этот дом сразу после войны построил его дед. Именно сюда принесли Кокольчикова, туго завернутого в пеленки. Здесь он рос, качаясь летом в люльке под тенью виноградных беседок, мальчишкой бегал в дедовском саду, сбивая палкой с веток черешни и груши. А рядом с домом стояла школа. Рядом, это еще мягко сказано. Школа стояла почти вплотную к дому Колокольчиковых. Она была построена раньше. Еще до войны. Во время боевых действий в ней размещался госпиталь, а потом в здание снова вернулись ученики. Когда пришло время, Колокольчиков пошел в первый класс. Как вы догадываетесь, именно в эту школу. Школа была маленькая. В два этажа, с крыльцом, чердачным помещением и подвалом в котором был оборудован гардероб. Если смотреть на нее, как принято красиво говорить, с высоты птичьего полета, то школа архитектурно образовывала вполне четкую букву «П». На фасаде под самой крышей между гипсовыми древками гипсовых знамен красовалась надпись «Школа № 8». На крыльце слева и справа от входа располагались зачем-то большие гипсовые шары. Мальчишки часто были замечены верхом на этих самых шарах. Многие из них (мальчишек, а не шаров: шаров было всего два, как я упоминал ранее) были биты по возвращению домой, ибо шары оставляли на штанах и куртках характерные белые меловые следы. А тогда, в конце пятидесятых не у всех в округе были стиральные машины рижского машиностроительного завода. И белье приходилось стирать с помощью доски и тазика. Колокольчиков закончил школу и поступил в техникум. Он продолжал жить в том же самом доме и видел свою школу каждый день. Он закончил техникум и поступил в институт. Шары со временем стали портиться и исчезли со школьного крыльца. Колокольчиков замечал, что гипсовые знамена время от времени подкрашивали алой краской, а навершия на древках в виде наконечников копий – золотистой. Входные двери менялись на более прочные. После института Колокольчиков ушел в армию и служил в какой-то среднеазиатской дыре, где иногда по причине песчаных бурь даже по веревке ходил по нужде, потому что не видно было не зги и заблудиться можно было запросто. Вернулся он в тот же родительский дом. Устроился на работу. На завод. А потом была свадьба. И жить молодые остались в том же доме. Надо ли говорить, что их сын, аккурат через семь лет после своего рождения, пошел в ту же школу? Он также оставлял свое пальто в подвальном помещении, также вбегал по потертым лестничным ступеням на второй этаж, а из огромных окон спортзала, освобожденный от бега по причине плоскостопия, с удовольствием обозревал свой двор. Он видел, как его дед чистит рыбу у колонки, или как бабушка выбивает ковер. Он видел, как дядя Армен в соседнем дворе ковыряется в капоте своего старенького заграничного автомобиля. Колокольчиков-младший вздыхал от того, что не может бегать вместе со своими одноклассниками и ловил их острые, как нож взгляды, полные решимости начистить ему физиономию прямо в раздевалке. А однажды инженер Колокольчиков уехал в командировку. Название этого маленького сибирского городка он давно забыл. Ехал он долго, с пересадками с поезда на автобус и в гостиницу попал поздним вечером. У входа тускло горел фонарь. Уставший Колокольчиков предъявил паспорт, получил ключ и, поднявшись в номер, уснул мертвецки. Утром он первым делом отправился умываться. Долго и с удовольствием фыркал, обливаясь холодной водой, а вернувшись в комнату, подошел к окну и рывком распахнул его. Колючий воздух промозглой осени ворвался в номер. Колокольчиков вдохнул его и… замер. Забыв прикрыть рот, он смотрел в одну точку и не двигался. Перед ним стояла его школа. В два этажа, с крыльцом, чердачным помещением и подвалом. Про подвал Колокольчиков не мог сказать точно, но здание перед гостиницей архитектурно один в один повторяло его родную школу. Более того, было обнесено точь в точь таким же металлическим забором. На фасаде под самой крышей между гипсовыми древками знамен красовалась надпись «Школа № …». Разглядеть номер Колокольчиков не смог. И не потому что его подвело зрение. Выпуклый номер был отколот, оставив только небольшую дугу. До происшествия это могла быть цифра два, три или…боялся подумать Колокольчиков – даже восемь. Инженер наскоро оделся и вышел на улицу. Улица была пустынна. Он пересек неширокую дорогу и оказался у школьного забора. Слева на крыльце сиротливо располагался грязно-белый шар, такой же, как в его детстве. Правого шара уже не было. А этот – слева, хранил на себе следы почтенно возраста. То там, то тут на его шарообразном теле виднелись сколы и выщерблены. Со стороны это напоминало Колокольчикову надкусанное в нескольких местах серого цвета яблоко. Гипсовые знамена порядком облупились. Черная металлическая дверь печально смотрела на улицу треснутым стеклом. Из-за поворота появился дворник. Поплевал на руки и начал неторопливо орудовать метлой. Колокольчиков все стоял у школьного забора, затаив дыхание. – Простите, – робко обратился к дворнику Колокольчиков, – а какой номер у этой школы? – У этой-то? – переспросил дворник, скорее для порядка. Он остановился, оперся на метлу и внимательно оглядывал Колокольчикова. – А вам зачем? – спросил деловито. – Понимаете, дело в том, что…- волнуясь, начал Колокольчиков, но договорить не успел. – Это наша старушка – «восьмерочка», – перебил его дворник. Во время войны тут госпиталь был, потом вечерняя школа, потом уж средняя. Моих двое детей тут учились. А сейчас под снос ее готовят. Трещины по зданию пошли, то ли грунт просел, то ли еще что. Э-эх..- дворник взглянул на здание школы, снова поплевал на руки и принялся за работу. – Посторонись-ка, мил человек, – буркнул он и Колокольчиков отошел в сторону. В этот же день Колокольчиков напился. В драбадан, в зюзю, в дымину, в стельку, вдрызг. Так, как не напивался ни разу за свою жизнь. Почему, спросите вы? Если бы я знал…
Сева
был кинооператором. Ну, это тогда — в незапамятные времена, когда у нас еще был спрос на документальное кино в провинции. Потом спрос этот поутих, Сева взял в руки современную технику и работал на телекомпании, телевизионные агентства, маленькие студии, вобщем выживал, как мог, снимая все подряд: презентации, юбилеи, фильмы о передовиках производства, фестивали и конференции, зарисовки и рекламные ролики. Надо сказать, оператор он был превосходный. И дело совсем не в том, что он закончил операторский факультет ВГИКа в Москве, снимал кино во Франции, Италии, Германии, когда его коллеги не выезжали дальше Чехословакии или вообще оставались в родных степях, фиксируя бесконечные битвы за урожай. Он просто прекрасно чувствовал «картинку», он в принципе виртуозно чувствовал: и натуру, и человека, и свет, и экспозицию. Видимо еще при рождении Господь заложил в него то, за чем другие не выстоят никакую очередь. Сева умел дружить. Пожалуй, именно эта его способность влекла меня к нему неудержимо на протяжении многих лет, и за все эти годы я не разу не пожалел о нашем знакомстве. Он был старше меня, и я подозревал, что гораздо старше. Но нашим взаимоотношениям это не вредило. Скорее наоборот: он заряжался от меня ушедшей молодостью, я от него – жизненным опытом. Сева, как и большинство творческих личностей, любил выпить. Нет, он не был «гениальным алкоголиком», но выпить любил. Чаще всего по конкретному поводу, находил эти самые поводы очень быстро и любому из них мог тут же дать философское обоснование. — Севка, опять принял? — Самую малость. И то в день взятия Бастилии. — А ты то тут при чем? Он делал сосредоточенную гримасу, переходил на шепот и многозначительно изрекал: — Каждый из нас, друг мой чуть ли не ежедневно штурмует свою Бастилию. Спорить с ним было бесполезно. Однажды поздним вечером, возвращаясь домой, я услышал как во дворе басит «принявший на грудь» Сева. Он с кем-то громко говорил, и я понял, что его собеседником была моя жена. Разговор шел обо мне и Сева явно напрашивался в гости. — Если бы здесь сейчас был Паша, он бы мне не отказал….- на этой фразе я появился перед дверью подъезда. Нина стояла в домашнем халате и шлепках и всем своим видом демонстрировала желание поскорей распрощаться с непрошенным гостем. Севка ей не нравился. Она увидела меня первой и сказала Севе с облечением: — А, вот и твой Паша. Сева оглянулся, улыбнулся перегаром и стал радостно хлопать меня по плечам. Я тоже похлопал. — А я знаешь, мимо проходил… дай, думаю зайду… Я чувствовал, что хмелею, и изо всех сил закрывался руками от дружеских объятий Севки. — Ты абрикосы купил? – огорошила меня вопросом Нина. — Какие абрикосы? – не понял я и даже перестал закрываться. — Для варенья. Завтра Маша с детьми приезжает. Мы с тобой собирались варенье варить. И тут я вспомнил. Племянница Нины Маша приезжает к нам в гости, везет с собой двух дочерей, а они обожают абрикосовое варенье. День был тяжелый, суетной и я абсолютно выбросил из головы эти чертовы абрикосы. А теперь уже поздно и я их нигде не куплю. — Ничего, — говорю я, — один раз и без варенья обойдутся. Нина фыркает и уходит в темноту подъезда. Я стою во дворе в свете тусклого фонаря. Напротив меня Сева. Он деловито чешет затылок и произносит: — От тебя позвонить можно? — Звони, — мне уже все равно. Вечер испорчен. Мы поднимаемся в квартиру. На кухне я замечаю свет. Там свою оюиду накапливает Нина. — Вот, — показываю на телефон Сева нажимает какие-то кнопки, ждет, приложив трубку к уху. — Добрый вечер, а Николая Сергеевича можно услышать? Молчит. Потом дерзит. — Все относительно. В Штатах сейчас ранее утро. И наконец: — Коля, привет. Разбудил? Прости застранца. – он смотрит на меня и улыбается.- Мне нужны абрикосы. Да, сейчас. Нет, я в своем уме. Нет температуры. Не ругайся. Снова молчит. — Выговорился? Абрикоса, говорю, нужна. На варенье. Сколько? – Севка поворачивается ко мне, — сколько? Я ничего не понимаю. — Киллограма три, — говорю растерянно — Ящиков десять, — говорит Сева в трубку, — Да, на целый дом варенье буду варить. Ну, что тебе трудно мне помочь? Если бы не срочно, разве стал бы я тебя беспокоить. Адрес? – он снова поворачивается ко мне. Я, словно, загипнотизированный диктую ему улицу, номер дома, подъезд. Он слово в слово все передает в трубку. — Спасибо, Коля. Кто? Сам ты такой. Что? Сам иди туда. Ну-у-у, спасибо, удружил. Так далеко меня еще не посылали. Спокойной ночи. Севка положил трубку и хлопнул меня по плечу. — Будут тебе абрикосы, дружище! – воскликнул он торжественно и громко. — Зачем столько-то? – только и смог вымолвить я. — Не грузись. Сколько смог, столько и выбил. Для тебя, между прочим. Цени! Я все еще ничего не понимаю. Стою растерянный в собственном коридоре и тупо молчу. Ситуацию спасает Сева. — Слушай, Паш, а выпить у тебя найдется? Через несколько минут, мы уже расположились на лоджии с выпивкой и нехитрой закуской. — А Нинка у тебя стро-о-огая, — на распев говорит Сева, — и правильно. Нас мужиков только так и надо! – и он молниеносно опрокидывает внутрь стопку водки. — Кому ты звонил, Сева? Он машет рукой мол, не думай. Потом становится серьезным и задумчивым. — Мириниади Николаю Сергеевичу звонил. Знаешь такого? Конечно, я знал. Мириниади был заместителем мэра и директором департамента торговли нашего города. Но какое отношение Сева Нильский мог иметь к Мириниади? Да еще и общаться с ним, мягко говоря, «накоротке». Севка будто прочел мои мысли. — Мы с ним в армии служили вместе. Тогда он еще никакой был не Николай Сергеевич, а просто Колька – Нос, — Нильский снова махнул рукой. Улыбнулся чему-то и смачно захрустел соленым огурцом, — Ты нос-то его видел? Я кивнул. А что? Обыкновенный греческий нос. Севка перестал хрустеть и тихо сказал: — Я ему жизнь спас. Он со скалы сорвался, а я держал его, пока ребята не подоспели. Давай еще выпьем, — и он уверенно потянулся за бутылкой. Абрикосы прибыли под утро. «Газель» крытая тентом и в ней десять ящиков абрикос. Мы с Ниной успели сварить варенье, а я разносил потом абрикосы по соседям, глупо улыбался и говорил, что это просто так и мне ничего за это не нужно. Чудак, наверное, думали соседи. Да, уж – соглашался я про себя. Один ящик я специально оставил для Севы Нильского. Я знал, что он появится. Ящик стоял в кладовой, а Сева как будто в воду канул. Несколько дней, а может быть и неделю, я о нем ничего не слышал. Однажды, в вечерней тишине выходного дня раздался звонок в дверь. На пороге стоял Сева. — Дружище, — сказал он, дыша в сторону, — у тебя абрикосы еще остались? Я засмеялся. И долго не мог остановиться. Но ему все же удалось отыскать недлительную паузу и вставить: — Ну, а выпить, надеюсь, найдется?
Сожаление
Я очень тосковал, когда уезжали родители. Поэтому часто играл со спичками. И в футбол с соседскими мальчишками. А однажды ударил по мячу и он, по роковой случайности полетел не в ворота команды – соперника, а в соседское окно. Мы даже смеялись, но не долго. Сосед Николай Васильевич что-то нудно выговаривал моей бабушке, и она качала головой, и доставала из серванта деньги, почему-то завернутые в тряпочку, и отдавала соседу, а он все выговаривал и выговаривал. Впрочем, он мог бы и лаконичнее выражать свои мысли, ведь смысл им сказанного сводился к одному: «этому сорванцу не достает внимания родителей». Что на это могла ответить моя бабушка? У нас был веселый двор. Мы прятали от местного дворника его же метлу, приводили в действие взрывпакеты, забросив их в мусорные жбаны, на велосипедах мчались в сады через поле и воровали у дачников яблоки, груши, черешню. Ох, как кричали эти загорелые дядьки или тетки в цветастых халатах: до сих пор мне кажется, что первые крепкие матерные выражения, я услышал именно от дачников. Так не ругался даже наш дворник. Когда мальчишки спрашивали, где мои родители, я коротко отвечал: «На Севере». Они, конечно, ждали от меня подробностей, но я молчал, важно оттопырив нижнюю губу, изо всех сил делая вид, что многого не договариваю. На самом деле, я знал только, что их длительные командировки называются «геологическими экспедициями». Я знал, что по вечерам не спешу засыпать и представляю себе, как к родительской палатке подходит белый медведь и мой отец, высокий, сильный человек выходит и начинает с ним разговаривать, совсем как со мной. Медведь долго слушает и, наконец, поддавшись силе убеждения, медленно и лениво топает обратно. Я знал, что вот пройдет несколько месяцев, и я буду щекотать лицо об отцовскую бороду, разбирать его большой, пахнущий сыростью рюкзак, спрошу о медведе, и он рассмеется весело мне в лицо. Я знал также, что мама в последнее время чувствует себя неважно, и что отец подыскивает ей невыездную работу, а она настаивает на совместных экспедициях, и говорит что-то о науке, о разработках, о диссертации. Как будто наука, такая большая и всеобъемлющая не может обойтись без моей маленькой и слабой мамы. Они приезжали и узнавали о моих приключениях. Они ставили меня перед собой и спрашивали: «Что случилось? Почему ты так себя вел? Зачем обносил сады и забрасывал портфели одноклассниц на монумент павшим воинам?» Я ничего не мог ответить. Что я им скажу? Я приводил каждую девочку, с которой гулял, домой на борщ или пирожки. С ними знакомилась бабушка. Потом мы с ней обсуждали каждый предмет моего обожания. И как-то никто из них, милых бестий с косичками, не дотягивал до идеала в моем представлении. А мне, непременно нужен был идеал. Вы же понимаете! Свой идеал (как мне тогда казалось), я нашел позже, в городской кипящей суматохе. И о чудо, когда я решил привести мою избранницу в родительскую квартиру, вся чета оказалась дома. Ира родителям понравилась. Особенно маме. Они сразу подружились. Мне даже казалось, что они чем-то похожи друг на друга. То ли взглядом, то ли теплом ладоней. А может быть, это и было моей навязчивой идеей – найти женщину похожую на мать?! Мы вскоре поженились. Осенью. А развелись через четыре года совместной жизни, тоже осенью, почти день в день. Тогда, после развода, родители спросили меня: «Почему»? Как и много лет назад я молчал. Много всего нужно было рассказывать, а я от чего-то не хотел. А потом, я в составе группы киношников- документалистов уехал на Кавказ, снимать фильм. Когда мы вернулись, отец увидел мои тронутые сединой волосы и спросил: «Зачем»? Я молчал. Что я мог сказать ему тогда? Прошли годы. У мальчишек из нашего двора жизнь сложилась по-разному. Кто-то стал депутатом, кто-то уехал за границу, двое оттянули срока. Одна из тех девчонок, которая пробовала бабушкины пирожки теперь известная киноактриса. Сады по-прежнему существуют, и я недавно даже нашел двор, в котором рвал с дерева черешню. Алименты моему сыну все еще уходят в далекий от меня город на Урале. И я продолжаю тосковать без родителей. Я теперь все чаще о чем-то спрашиваю их, а они молчат. Зато теперь я могу навещать их, когда захочу. Вот такие дела.
Правильное решение
Снимали в ростовских полях документальное кино о битве за урожай. Тема, мягко скажем, не новая, пейзажи не сногсшибательные, жара под сорок. Одна радость – кормят и поят хорошо, председатель колхоза лично следит, чтобы кинохроникеры в этом нужды не знали. Банька топится, речка течет, самогон в бутылях потеет. Кинооператор Роман Усатов страдал. Во-первых, здоровье не позволяло ему много пить и есть жирного. А во-вторых, как человек творческий, Усатов мучился отсутствием какой бы то ни было живой картинки. Красный комбайн, утопающий в золотистом поле, зерно, с шуршанием убегающее сквозь натруженные пальцы ладоней местного агронома и даже закат солнца на фоне жирных колосьев – не в счет. Злой от голода и недостатка жидкости в организме, рыскал Усатов по деревушке в поисках творческого решения. И вот видит он – сидит на скамье у избушки древняя бабушка. Колоритная такая старушка, каких увидеть можно только здесь, в глубинке. Дерзкий и гениальный план мгновенно созревает в кипящем мозгу Усатова. Подходит Роман к старушке, кланяется почтительно, как здоровье интересуется – все честь по чести. Затем достает из своей сумки кубик Рубика и протягивает бабушке. – Погляди, мать, какая штука у меня есть. Ты, наверное, и не видела такую? – Да где ж мне увидеть, – всплескивает сухими ручками старушка. – А зачем это нужно, сынок? Чего это за разноцветные квадратики-то? – А это просто, – отвечает довольный Усатов. – Штука эта вот так вот вращается, крутится, в общем. Надо, чтобы у всех квадратиков со всех четырех сторон цвет был одинаковый. Берет старушка этот кубик в руки и начинает крутить. И на лице у нее такая палитра эмоций, что мало не покажется. А Усатов делает пару шагов в сторону, камеру-то он на плече все это время держал, и начинает снимать. И вот такой получается у него кадр: в глухой деревне сидит на крылечке бабуля и сосредоточенно осваивает кубик Рубика! Рассказывают, что кадр этот вошел в готовый вариант документальной картины. А позже фильм взял множество призов на различных конкурсах. Его и в кинотеатрах перед сеансом крутили в составе киножурналов. А кубик Усатов бабушке подарил. На память.
Раздумывать некогда
Моему дедушке, Добрицкому Владимиру Митрофановичу…. 1 – Шир-р-ре шаг, не растягиваться! – зычно командовал круглолицый пожилой лейтенант, – подтянись, бойцы, подтянись! Взвод шагал через Театральную площадь освобожденного накануне Ростова. И как назло шагал вразнобой. Усталые, измученные тяжелым наступлением, солдаты едва передвигали ноги. Капитан Романов, наблюдавший эту сцену со стороны здания Управления железной дороги, вдруг ловко прицелился в солдат фотоаппаратом, что-то щелкнуло, и Романов удовлетворенно крякнул. Он сделал отличный снимок: усталый мешковатый взвод вчерашних победителей бредет по очищенной от снега площади, а за ними – взорванный фашистами театр. Когда-то он был построен совсем не так, как классические театральные здания, и напоминал со стороны огромный трактор. Сегодня «трактор» искорежен бомбежкой. И от этого вид его останков становится зловещим и скорбным одновременно. Ни эти усталые солдатики, ни военный корреспондент– ростовчанин Анатолий Романов – не знали тогда, в феврале 1943 года, что театр еще поднимется из руин и примет в своих обновленных залах миллионы и миллионы зрителей. 2 Анатолий Степанович открыл глаза. Со стены на него смотрел старый, увеличенный снимок в самодельной деревянной рамке. На фоне разрушенного театра-трактора шагает взвод солдат, а их командир указывает рукой куда-то вперед, словно ведет бойцов в атаку. Романов медленно поднялся на кровати, свесил вниз ноги, все в ручейках темно-синих венозных сосудов, и, нащупав домашние тапочки, нырнул в них белесыми старческими ступнями. Рядом с известной нам фотографией – множество других снимков. Вот бойцы с автоматами наперевес бегут по какой-то заснеженной ростовской улице, выбивая из домов отстреливающихся немецких солдат. А вот медсестричка, совсем не красотка – кряжистая, низкорослая, больше похожая на мальчишку – прикуривает от папиросы солдата-инвалида. А вот тот же самый театр только с другого ракурса: на снимке отчетливо видно, что бомба попала прямо в сцену. На следующей фотографии бравый офицер идет под руку с девушкой по весеннему парку. У девушки в руках цветы. У офицера на груди поблескивают награды. Оба счастливо улыбаются. А фуражка у него заломлена почти на затылок. Неправильное ношение военной формы? Нет, просто май, Победа, любовь – тут не до фуражки. Высокого роста, но уже ссутуленный, дряблый старик, Романов прошел вдоль стены, мимо собственных фотоснимков, на кухне поставил на плиту чайник и включил радиоприемник. «В Ростове семь часов утра», – объявил бодрый голос ведущего, записанный, вероятно, еще со вчерашнего вечера. «Доброго утра желает вам радиостанция «Южный берег» и уникальный препарат для восстановления мужской силы…». – Тьфу, – сплюнул Анатолий Степанович и крутанул влево ручку регулятора громкости. Радиоприемник замолчал, утопив в молчании название уникального препарата. В окно сквозь листву пробивались первые лучи солнца. По Советской в сторону Театральной площади прошелестел старенький троллейбус. Романов накинул на плечи рубашку, посмотрел на трость, примостившуюся в коридоре у стены, но не подошел, не взял ее, чтобы опереться, и как был, в трусах, выбрался на балкон. Каких-то сто метров отделяли его дом от площади Карла Маркса и парка Фрунзе. Анатолий Степанович давно взял за правило: как только погода в Ростове налаживалась, он каждый вечер выходил из дома на прогулку. Шел мимо Совета ветеранов, здания районной администрации, спускался в подземный переход и выходил уже на площади, перед памятником автору «Капитала». Потом – в парк Фрунзе к Вечному огню. Тяжело, но уверенно преодолевал ступени, некоторое время стоял неподвижно, приводил в порядок дыхание и молча смотрел на изображение скорбящей матери на монументе. Потом медленно обходил все плиты с фамилиями захороненных здесь солдат. Искал и находил знакомые имена. Долго мог стоять и смотреть, как дрожит язык пламени на ветру. В такие минуты Романов вспоминал… 3 – Ну, куда-а-а, Толя, ну погоди… – румяная девчушка в тулупе, прохудившихся сапожках и теплом платке, прикрывающем темные вьющиеся волосы, упиралась скорее в шутку, чем всерьез, желая раззадорить своего спутника. Они только что бежали, взявшись за руки, шумно глотая морозный воздух, и теперь она хотела отдышаться и не желала никуда идти. Ее черные, как маслины, глаза горели азартом. – Пошли, пошли, я тебе афишу покажу, – говорил бравый парень в шинели с капитанскими погонами. – Представляешь: первую афишу после освобождения города! Будет концерт, дуреха! – Ты, как мальчишка, Толя, – звонко засмеялась вдруг девчушка, обнаружив красивую улыбку. – Всю войну прошел, а радуешься афише! – А я и есть мальчишка, – офицер приблизился к девушке, коснулся руками ее плеч, но она ловко высвободилась из робких объятий и резким движением сняла шапку с его головы. – Ага, – сказала она совершенно серьезно, – седых волос-то, как у старика. Они стояли и смотрели на афишу. Настя, так звали девушку, читала вслух: «Помещение Театра Муз. комедии (Книжная, 108). 2 марта. Первый открытый концерт в фонд обороны Коллектива солистов Гос. Ордена Ленина Академического Большого театра Союза ССР». В это невозможно было поверить! Настоящий праздник! И можно не опасаться налетов и бомбежек. Анатолий и Настя сидели в холодном зале Театра Музыкальной комедии, прижавшись друг к другу. Музыка лилась на них со сцены и, казалось, что не было ничего вокруг, кроме этих завораживающих звуков. Впереди были два года войны. Два года лишений, смерти и голода, но двое молодых людей в нетопленном зале, здесь и сейчас, были счастливы. Ростов отряхивал с себя тяжкое бремя оккупации. Он оживал, и эта музыка была тому подтверждением. 4 Щепотку заварки – в чашку и залить кипятком. Накрыть сверху – блюдцем. Когда настоится – можно пить. Анатолий Степанович хлебал горячий чай шумными глотками. Настя не любила эти его прихлебывания, всегда, даже в старости, делала ему замечания. Дочь армянина и еврейки, самая красивая девушка Нахичевани, Анастасия Наджиян из всех многочисленных женихов, увивающихся за профессорской доченькой, выбрала самого молчаливого и скромного – военного корреспондента, офицера-фронтовика двадцатидвухлетнего капитана Романова. Арменак Саркисович Наджиян – профессор математики, принял в своей квартире нового гостя с присущим кавказским народам гостеприимством. Это, увы, не касалось столового убранства, с едой тогда даже у профессоров было туговато, но он был с гостем прост и приветлив, рассказывал множество потрясающих историй и анекдотов. – Стоит армянин и продает с мангала горячий шашлык, – говорил он совершенно серьезно, настраивая всех сидящих за столом на долгую увлекательную историю. – Арменчик, тысячу же раз уже рассказывал, – с улыбкой мягко перебивала его супруга Ревека Михайловна. – Вай, но Толик же не слышал! – возражал профессор. – Так вот, стоит армянин и продает шашлык. К нему подходит вдруг женщина и говорит: «Почему вы продали мне плохой шашлык, а этому вот товарищу хороший?». Армянин молчит. Она опять ему: «Вай, почему вы мне плохой шашлык продали, а вот ему хороший, почему?». Армянин опять молчит. Она в третий раз у него спрашивает: «Эй, почему такое дело? У меня плохой шашлык, а у него хороший?». Тогда армянин не выдерживает, воздевает руки к небу и изо всех сил, хлопая себя по лысине, говорит: «Потому ч-т-а он мне нра-вит-ся»! И сам же Арменак Саркисович весело смеется рассказанному анекдоту. Все его с удовольствием поддерживают. Анатолию всегда нравилось в доме Наджиянов. Его неудержимо тянуло в их большую квартиру, заставленную книгами, даже когда умер от сердечной недостаточности тесть и тяжело болела, мучилась без движения теща. Вот и Насти уже нет. А он все живет, навсегда приговоренный к пожизненной памяти, очень разной, а потому особенно тяжелой. С тех пор как умерла жена, Анатолий Романович не заходит в их спальню. Все вещи там именно на тех местах, где их оставила Настя. И даже ее стоптанные тапочки стоят у кровати так: левый чуть носком вовнутрь, а правый и вовсе перевернут и возлежит на боку, словно уставший в дороге путник. Вдруг звонит телефон. Звонок продолжительный и настойчивый. Международная. Это сын звонит из Нью-Йорка. Один раз в месяц шестидесятилетний пожилой человек, сидя ночью в своей квартире, набирает международный номер, чтобы ранним утром в Ростове-на-Дону его услышал собственный старый отец. – Хай, папа. Как ты там? Как здоровье? – говорит сын с заметным акцентом. – Не умер пока, – мрачно шутит отец. – Не спеши, папа. Не надо с этим спешить. Я скоро должен быть в Москве по делам, и думаю, вырвусь к тебе на день, может быть, на два. Слышишь? – Слышу, – говорит Анатолий Степанович и ищет глазами сигареты. Он не видел сына почти восемь лет. – Тебе лекарства какие-нибудь привести? Что-то дефицитное, может быть? – Сын, тут давно уже нет ничего дефицитного, только деньги нужны, и все можно купить. – Ах, я болван. Деньги! Я перешлю тебе деньги. Обязательно. – Не надо. Мне хватает. Не думай об этом. – Я позвоню, когда буду приезжать, папа. А сейчас надо укладываться в кровать, – сын хохотнул, – жена настаивает. – Это святое дело. – А помнишь, как ты меня с Богатяновского катал на санках? – спросил вдруг сын совсем неожиданно. – Я отчего-то очень хорошо это помню. Снег такой хлопьями. И какой ты был, тоже помню. Очень высокий и седая шевелюра на ветру развивается, как флаг. Ты молодой, а волосы седые. Папа, ты слышишь меня, папа, что со связью у вас там ? Анатолий Степанович слушал сына, прикрыв рот ладонью. По его щекам текли слезы. 5 Вечером, когда небо начинает тускнеть, Романов выбирается на прогулку. В этом случае без трости не обойтись. Коленный сустав в последнее время предательски разнылся, раскис и не давал покоя. Он прошел привычным своим маршрутом до площади. Кажется, в теленовостях он слышал, что отца марксизма собираются заменить на императрицу Екатерину. И площадь станет Екатерининской. Он вдруг вспомнил, как еще долгое время после возврата улице Энгельса ее исторического названия – Большая Садовая, старики и старушки, садясь в автобус, спрашивали: «По Энгельса идет»? И водители соглашались: «Садись, бабуля. Едем по Энгельса». «Лишь бы Вечный огонь не потушили, – подумал вдруг Романов. – Нас вот не будет, а он гореть должен». Он шел вдоль плит с фамилиями погибших бойцов, иногда останавливался, касался выпуклых букв своей сухой ладонью. «Соколов – младший сержант. Не жилось тебе младший сержант Соколов, да? Обязательно под пули надо было. Эх, ты…». И Романов шел дальше, ощущая отблеск Вечного огня на своем лице. Совсем уже стемнело, когда Анатолий Степанович собрался идти обратно. Но вдруг увидел, как в глубине мемориального ансамбля две черные тени, пригнувшись, скручивают медную табличку с фамилиями солдат-героев. Они и не очень-то скрывались, эти деятели, желающие украсть под покровом темноты память. Его, Анатолия Степановича Романова, память. Память Кавалера Ордена Красной Звезды, фронтового корреспондента Романова, который в таких передрягах бывал, что не всякий мемуарист и описать возьмется. – Стоять! – крикнул Романов, собрав все остатки жесткого командного тона. Кто-то из двоих обернулся на крик, но, увидев старика, спокойно продолжил свое дело. Анатолий Степанович решительно двинулся в их сторону. Так и шел, звонко постукивая тростью о бетонные плиты. – Эй, дед, ты чего бузишь? – две тени разъединились и теперь уже было видно, что это две крепкие молодые фигуры. У одной из них под мышкой лежала медная табличка. Романов молчал. – Дед, дар речи что ли потерял? – Да оставь ты ветерана, пусть воздухом дышит, пошли, – поторопил второй и нахлобучил на лоб кепку. – Стоять! – повторил Романов, но уже тихо, охрипшим от волнения голосом. Он видел сейчас перед собой врагов. Словно вернулся туда, на передовую, когда уничтожение врага было главной задачей. – Да, ты дед, оказывается, суровый какой! – один из «врагов» подошел к Романову ближе. Анатолий Степанович не успел разглядеть его лица. – Иди домой, ветеран, по-хорошему. Бабушка, наверное, уже волнуется. – «враг» засмеялся, и ничего, кроме гадливости, в этом смехе не было. Романов отреагировал мгновенно и ударил тростью снизу вверх, угодив прямо между ног своему «врагу». Удар получился коротким, но сильным. В ту же секунду смех захлебнулся в громком матерном вопле. Скрючившись, продолжая посылать проклятья, «враг» отполз в сторону. Второй, тот, что с кепкой на лбу, не выпуская таблички, вдруг резко подскочил вплотную к старику, и что-то горячее обожгло Романова под ребром. Он почувствовал, что ноги стали совсем слабыми и понял, что медленно оседает на землю. – Рвем когти! – …отбил все мне своей палкой, сука… – …случайно не убил его?… – …ходу… Романов слышал и не слышал. С грохотом упала на бетон табличка с фамилиями погибших солдат-героев. «Враги» бросили свою добычу, спасаясь бегством. Ладонью старик пытался прикрывать рану, но липкая кровь текла сквозь пальцы. «Кажется, отверткой саданул, сволочь», – успел подумать Романов. Как же несправедливо было умереть сейчас, спустя столько времени, после самой главной Победы. «Помогите!» – звал ветеран, чувствуя, как его медленно покидает сознание. 6 Все вокруг слилось в молочно-белый свет. «Интересно, рай это или ад? – подумал Романов и тут же заключил. – Я думаю, значит, я жив. Всем, как писал Симонов, смертям назло». Слабость завладела уставшим, дряблым телом старика. Каждым суставом. Каждой клеточкой. Ему и глаза-то открывать было больно, а уж пошевелиться и подавно. – Что же вы так, Анатолий Степанович? – услышал он миленький женский голос и с трудом разлепив веки, увидел перед собой славную медсестричку в белом халате. – Доктора заставили переживать, больные вот за вас тоже беспокоятся. Нельзя же так. Прогулки прогулками, а беречься нужно. – Как вас зовут? – одними губами спросил Романов, но медсестричка поняла: – Настя. – Хорошее имя, – взглотнул ком в горле Анатолий Степанович. – Мне, Настенька, раздумывать было некогда. Вот и случилось… – Слава Господу, теперь все в порядке, – она нагнулась к лицу старика, и ее темные волосы коснулись его щеки. – Вы молодец, Анатолий Степанович. Крепкий вы ветеран. Живите еще сто лет. Под удаляющийся стук ее каблучков Романов подумал о том, что сто лет – это, пожалуй, многовато. Но пару лет еще надо вытянуть. Обязательно.
Теперь будет так
Дорогая, теперь будет так: Я никогда не буду уезжать в командировки надолго. И буду брать отпуск каждый год. Меня никуда уже не переведут, и нам не придется снова собирать чемоданы. Наш сын сможет исправить, наконец, свои оценки и закончить именно эту школу. А по выходным мы будем все вместе выбираться за город. Там хорошо. Там речка и свежий воздух. И трава пахнет свободой. Я знаю, у Димки здесь есть друзья, и даже подруга. У нее хитрые голубые глаза, короткие светлые волосы и загорелые руки. Он называет ее Светлячок. Видишь, я интересуюсь жизнью нашего сына. Теперь так будет всегда. Теперь ты не будешь не спать по ночам, ждать телефонных звонков и репортажей из «горячих точек» по телевизору. Ты перестанешь бояться тишины. А я перестану разговаривать во сне, просыпаться и просить воды, и мять в руках влажную от пота подушку. Ты не будешь провожать меня в слезах в который раз, и не станешь костылять со своими подругами нашу доблестную армию за то, что она так невнимательна к своим офицерам. Мы, наконец-то, сможем купить собственную мебель, потому что совсем скоро, через год, а быть может и раньше, получим квартиру. И я буду читать. Наберу в библиотеке книг, и буду читать упоительно и с удовольствием, потому что так давно не читал, мотаясь по гарнизонам и валяясь в госпиталях. Мы каждый год будем выезжать в горы и я, наконец-то, научу тебя кататься на лыжах. Я еще успею построить с Димкой десяток скворечников и поймать самую большую рыбину в этих местах. Я смогу, успею сказать тебе самое главное, то о чем мы часто забываем в рутине дней и событий, то, о чем редко говорят между собой муж и жена после тринадцати лет совместной жизни. Но я скажу. Обязательно. Только вот слетаю в командировку в последний раз, ну, ненадолго, да, да, в самый последний раз, вот увидишь. Обещаю. И поедем за город. И будем валяться на траве. И я тебе буду читать стихи. Какие? Да, все равно! Обещаю. Обнимаю тебя, моя дорогая. Целую. Люблю. Жди. Дождись. Надо. Надо улетать. Но это ненадолго. Совсем. И в самый последний раз. Не веришь? Правильно. Ты ведь у меня всегда была мудрой женщиной, моя дорогая.
Старость – не радость
— Куда ты опять засунула грелку, сука ты старая?! – это Порфирич кричит своим старческим, слабым голосом. — Хватит орать, кретин, — ворчит в ответ Никаноровна, — сам куда-то сунул и забыл, бестолочь трухлявая. Кто поясницу грел себе два дня назад, соседка что-ли? — Поговори мне! – грозится Порфирич и размахивает сухим кулачком. — Эка, грозный какой! – Никаноровна тихо сплевывает в угол избы и вновь садится перебирать бусинки в старой, как и она сама шкатулке. — Чем бы ни заниматься, только бы ничего не делать, — снова сипит Порфирич, — вот кошелка дырявая! Так они ругаются еще долго. И, надо же, не устают. Слова обидные и не очень, находятся, словно сами по себе. Два древних старика будто бы подбирают их без труда и бросают друг в друга легко, даже без особенной злобы, просто потому что нужно ответить. Не проглатывать же «кошелку», «старого козла», «полоумную старуху» или «бестолкового осла». Они давно уже одни. Сын много лет назад погиб, разбился на машине. Дочь, уже и не припомнят, сколько времени живет в большом городе и носа не показывает к своим родителям, да и сама уж не молодая, кажется, под шестьдесят набежало. У Порфирича и Никаноровны есть и внуки и правнуки. Только они их и не видели никогда. Так уж сложилось. Кто же сюда, к ним приедет? А сами дальше дворика своего захудалого и не выходят уже. Продукты им женщина приносит. Такая хорошая женщина. Из органов соцзащиты. Улыбнется, новости – сплетни расскажет. Но в избу вот не заходит никогда. Пахнет в избе прелостью и старостью. Настойчиво скребется в углах мышь, а нынешней зимой ударили холода и подуло морозом из всех щелей, тех, что маленькие и побольше, но если укутаться потеплее в махровые платки и кофты можно перетерпеть днем, а ночью еще и голову теплыми полотенцами обмотать и тогда можно уснуть. Сон, само собой, не крепкий. Старческий сон: ворчливый, крякающий, стонущий. Вот почему так: все тело начинает именно ночью ныть? Скрипишь, переворачиваешься, вроде бы и удобно улегся, а нет, все равно где-нибудь стрельнет, потянет, застучит. Вот и искал Порфирич грелку, чтобы поясницу свою успокоить, хотя бы и ненадолго, но эта мымра скрюченная опять ее куда-то засунула! — Так скажешь, где грелка, морда твоя свинячья? – снова заругался Порфирич. — У себя в одном месте поищи, может, найдешь чего, — не отстает Никаноровна. — Ах, ты карга старая! Ну, я тебе покажу…- он не находит слов и опять грозит кулачком. — Чего ж тебе там показывать уже, тополь ты усохший? – улыбается почти беззубым ртом Никаноровна. Маленькие бусинки выскальзывают из ее маленьких ладоней и с шелестом рассыпаются по полу, некоторые проваливаются в щели между досками. Никаноровна всплескивает руками и издает звук, похожий на стон. На лице ее неподдельное страдание. Она ничего не говорит. Так и замерла, сложив руки на груди и наклонив голову на бок. Все. Плакали ее бусинки. Раскряхтелся, заохал Порфирич. И только через мгновенье увидела Никаноровна, как, опираясь на лавку у стены, спускается ее старый пень, бестолочь трухлявая, душа ослиная вначале на колени, потом упирается в пол ослабевшими своими руками и уже вот таким манером, на четвереньках собирает с пола рассыпавшиеся ее бусинки. Маленькие, едва видимые шарики выскальзывают между пальцами, но он настойчиво пытается собрать их в маленькую сухую ладонь. — Что ты, Ваня, что ты, зачем? – запричитала Никаноровна и не заметила даже, как назвала своего старика по имени. — Заткнись ты, дура старая, — огрызнулся Ваня, — сам знаю, что делаю. Он еще собирал маленькие скользкие бусинки, когда так же на четвереньках подползла к нему Никаноровна, опустилась на пол рядом с ним, взяла его старое морщинистое лицо в такие же свои ладони и вдруг, повинуясь одному ей понятному порыву, обняла своего Ваню и прижала к себе. — Какие же мы с тобой старые, Ваня, — сказала она, глотая невесть откуда взявшиеся слезы. Они душили ее, щипали глаза, но она плакала и говорила: — Какие же мы с тобой надоевшие друг другу, да? И не нужны никому. И совсем одинокие, совсем одни…. — А помнишь, как я с войны пришел, Нинка? – просипел вдруг Порфирич и тоже всхлипнул. Закивала Никаноровна, прикрыла глаза, вспоминая. — А баян мой помнишь? Никто так не играл. — А как же! Помню….ты что ж, Ваня плачешь? Зачем это? И не думай даже! Зачем? Порфирич слезы унять не мог, только громко шмыгнул носом и снова взглянул на свою Нинку. — Куда же ты грелку подевала все ж таки, старая крыса? – спросил он беззлобно, — я ж теперь подняться не смогу, прострелило меня, ядрена корень!
Кокосовый крем
1 – Ты меня любишь? – задал я вопрос Монике. – Ненавижу, – ответила она спокойным и ровным голосом. Я повернул голову и посмотрел на нее. Моника лежала на спине совершенно голая, согнув одну ногу в колене, а вторую запрокинув сверху, и рассматривала свои ногти на пальцах рук. Прекрасные длинные ее пальцы возбуждали меня. Аккуратный неброский и элегантный французский маникюр лишь подчеркивал прелесть ее ангельских ладоней. – Потому что, если тебя любить, ты становишься слабым, – объяснила она. – Ты раскисаешь. А ты мне нужен сильным. Она встала, сладко потянулась, подошла к столику у зеркала, раскрыла тюбик с кремом, нанесла по две белые точечки на каждую ладонь и стала втирать крем, распространяя по комнате кокосовый запах. По телевизору в местной программе новостей сообщали о том, что какого-то бизнесмена нашли убитым в бассейне собственного особняка. Я взял пульт и переключил канал. В последнее время, я стал опасаться плохих новостей. Наверное, Моника права. Как только я ощущаю, что женщина проявляет ко мне ласку и нежность, сам становлюсь, как пластилин. С этих пор меня можно мять, вытягивать, скручивать, сгибать и раскатывать. Теряю бдительность. – А ты мог бы убить человека? – спросила вдруг Моника. – Наверное, – ответил я не сразу. – Чтобы, например, спасти собственную жизнь убил бы. – А как потом жить? Я задумался. – Не знаю. – Хочу шампанского, – заявила вдруг Моника. Она могла вот так сразу переключать разговор на другое. Резко, без всяких переходов. Вначале это раздражало, но со временем, я стал ловить себя на мысли о том, что мне это даже нравится. Я уже натягивал джинсы. Гастроном находился на первом этаже многоэтажки, где я пару лет назад купил квартиру. Моника была вовсе не Моникой. Она представилась так, когда мы познакомились, и я не задавал вопросов о том, откуда у нее такое необычное имя, а когда мы вместе ездили отдыхать в Италию, подглядел аккуратно в ее паспорт и увидел имя и фамилию: Ольга Бернацкая. Уже в отеле, я как-то позвал ее по имени из паспорта. Она заглянула в комнату из кухни, с бокалом белого вина в руке и безразлично сказала: – Терпеть не могу свое имя. Зови меня Моника. – И все-таки, почему Моника? – спросил я в этот же вечер за ужином. – Красиво, – ответила она. – По одной из версий это имя произошло от слова «монос», то есть единственная. По другой, оно означает – вдохновлять. Мне нравятся оба варианта. – Мне тоже. – Вовочка, посмотри на это так, – продолжала она. – Ты – Владыка мира, а я твоя Единственная женщина. Каково? – Прекрасно. Конечно, я никогда владел ею безраздельно. С тех пор, как мы были вместе, страсть моя к ней не ослабевала, но вместе мы не жили, Моника была против слияния под одной крышей. Зато виделись часто, иногда вместе путешествовали, но она всегда вела себя независимо и даже с вызовом. Иногда я подолгу не мог ей дозвониться, нервничал, ревновал, затем бросал эту затею, а когда она вдруг перезванивала, бросался к трубке, как собака, у которой выделяется слюна в ожидании пищи. Моника никогда не объясняла, где пропадала, а просто приглашала меня куда-нибудь, мы ехали в ресторан или шли гулять в парк, а потом мчались к ней или ко мне – все равно, чтобы соединиться в страстном и горячем переплетении наших тел. Я помню наш первый раз. Мы сидели под хмельком в такси, мчались по ночным улицам ко мне домой и целовались. Надо сказать, Моника умела целоваться. В какой-то момент она вдруг резко отпрянула от меня и громко спросила: – А презервативы у тебя есть? – Нет, – ответил я растеряно. – Блин! И у меня нет. Я ни разу их не покупала, представляешь? Стыдно как-то, – и она рассмеялась во весь голос. – А вот мне один мой старший товарищ когда-то говорил, что презервативы должны быть всегда только у женщины. – Да? – искренне удивилась Моника. – А почему? Деликатный водитель такси помалкивал, лишь время от времени бросая на нас взгляд в зеркало заднего вида. – Ну, потому что мужик, он ведь как: ему одно подавай. А женщина должна достать из сумочки презерватив и сказать мужику – давай-ка, дорогой мы с тобой обезопасим нашу встречу. – Фуууу, – надула очаровательные губки Моника. – Так вот прямо и говорит?! И снова громко рассмеялась. А потом взяла в свои ангельские ладони мое лицо, лизнула влажным и горячим языком у меня за ухом, и сказала. – Дурачок ты, дурачок, Вовочка! Женщина никогда никому ничего не должна. Запомни. – Я запомню, – сказал я, почувствовал, как напряглись мышцы внизу живота, как запах кокосового крема от ее ладоней опьянил меня, впился в ее губы своими губами и долго не отпускал. А когда мы отпрянули друг от друга, чтоб набрать в легкие воздуха, попросил водителя притормозить у ближайшей аптеки. Тогда у меня в квартире Моника без устали крутила и вертела меня в постели так, что мне показалось, что я на миг даже забыл, где нахожусь. Опустошенный, распластанный по влажной простыне я лежал на животе, тяжело дышал, а она гладила меня по спине своими красивыми ладонями, и я ощущал лишь легкую, чуть уловимую шершавость от ее прикосновений. Ладони ее спускались все ниже и наконец, когда она легким движением раздвинула мои ягодицы, влажное тепло хлынуло по моим венам, и я усталым своим мозгом осознал, что она вытворяет, я лишь застонал в ответ и успел подумать: надо же, а презервативы покупать ей стыдно. Однажды мы лежали у нее дома на широкой кровати, закутанные в белоснежные простыни. Я держал ее ладонь в своей руке, мы говорили о каких-то пустяках, я поглаживал ее пальцы и время от времени подносил к своим губам, чтобы поцеловать. И тогда я заметил на внутренней стороне ее ладони на кожных складках небольшие по величине слои затвердевшей кожи. Странно, подумал я тогда. Моника не похожа на девушку, которая работает в саду лопатой, или секатором. Я постеснялся спросить у нее о мозолях, но помню, спросил: – А чем ты занимаешься? – Трачу деньги, – не задумываясь, ответила Моника. – У меня же очень состоятельная семья, Вовочка. Ты разве не слышал ничего о Бернацких? Я не слышал. – Это польский дворянский род. В четвертую часть дворянской родословной книги Смоленской губернии внесен, между прочим. А прадедушка мой был министром финансов последнего состава Временного правительства. Я присвистнул. – Да-да. Так что я у тебя злостная растратчица фамильного добра – и рассмеялась громко по своему обыкновению. – А еще я каждые вторник и четверг потею в спортзале. Турник, штанга, гантели, беговая дорожка. Иначе, откуда ты думаешь у меня такая упругая задница? – Я думал она у тебя фамильная. Моника засмеялась. – Нееет. Только труд. А ты кто по профессии? Странно, подумал я. Мы знакомы уже несколько недель, а не знаем даже кто из нас, чем по жизни занимается. – Я журналист. Пишу статьи в разные журналы и веду на радио программу о русском языке. Моника прижалась ко мне своим бархатным горячим телом и шепнула прямо в лицо: – Мне нравится, как ты кричишь на грубом и грязном русском языке, когда… – Моника! – Что? – Моника! – Ну, что? Я резким движение откинул с нее простыню и почувствовал, как вдруг взлетел над кроватью, плавно покачнулся и улетел туда, где не нужны ни профессии, ни слова, ни литературный язык, о котором я вел программу «Говорим по-русски». 2. Моника любила петь. С этой целью мы посещали разные караоке-клубы, где Моника жадно сидела над толстой папкой со списком песен, потягивала коктейль и тщательно выбирала композиции. А когда она пела, ею любовались все, кто был в этот момент рядом. Стройная, красивая молодая женщина она всегда выходила в центр затемненного зала, чуть покачивалась в голубовато – зеленом тусклом освещении и прикрывала глаза. Каждое ее исполнение срывало оглушительные аплодисменты. Однажды, когда я сидел в темном углу караоке-зала, утонув в мягком диване и любуясь поющей Моникой, кто-то тронул меня за плечо. Чуть склонившись ко мне, стоял мой школьный друг Миша Ивакин и улыбался запахом хорошего коньяка. – Ивака, – назвал я его сразу школьным прозвищем. – А ты как здесь? Я знал, что Мишка богатый человек, бизнесмен, депутат и прочая – прочая, но меньше всего ожидал увидеть его здесь. – Это мой клуб, Вольдемар! Недавно прикупил. А я смотрю – ты ли не ты? – он засмеялся и полез обниматься. – Твоя? – спросил он, плюхнувшись рядом со мной на диван и мотнув крепкой короткостриженной головой в сторону Моники. Туту же, словно из-под земли появилась девушка в белом передничке, с блокнотиком в руке, готовая записывать пожелания хозяина. – Чего желаете, Михаил Олегович? – Тащи нам виски. Самого лучшего! Фрукты. Шампанское. Шоколад. Девушка улыбнулась, и исчезал в полумраке также быстро, как и появилась. – Моя, – ответил я не без гордости, наблюдая за Моникой. – Хороша! И поет прекрасно. Где взял? – Где взял, так уже нету, Ивака. – Опасная, – вдруг сказал Миша совершенно серьезно. – Это почему? – удивился я. – Красивые всегда опасные. Музыка закончилась. Раздались аплодисменты, какой-то мужик даже прокричал «браво! », и Моника чуть наклонив голову, отдала микрофон мальчику в фирменном жилете и поплыла в сторону нашего столика. Миша уже поднимался ей навстречу. – Моника, это Михаил. Мой школьный друг, – представил я Ивакина. Он игриво щелкнул каблуками, взял ее протянутую ладонь и наклонился к ней, делая вид, будто целует. – У вас прекрасные руки! – сказал он, – и пахнут кокосом. Моника рассмеялась. -Неужели вас так зовут по-настоящему? – не унимался Миша – Конечно. Я при рождении сама выбрала себе такое имя. Теперь рассмеялся Ивакин. Официанты уже расставляли на столике фрукты, стаканы для виски, ведерко со льдом. – Давайте выпьем! – шумел Миша. – Будем пить и петь до рассвета! У моего уха выстрелило пробкой шампанское. Я увидел, как высокий бокал наполняется искристым напитком, и пена невесомой шапкой сползает по хрустальному краю. Моника взяла бокал за длинную ножку двумя пальцами. – За встречу, – сказала она и улыбнулась. Было уже, кажется, далеко за полночь, когда Моника, извинившись, поднялась, одними губами сказала мне «пи-пи» и, одернув платье, направилась к выходу из зала. Клуб почти опустел. В противоположном углу за столиком сидел крупнотелый кавказец с густонамалеванной дамочкой и она капризно что-то у него выпрашивала. За ширмой кто-то хриплым отвратительным голосом пытался петь, но, то и дело забывал слова и пьяно рычал, заполняя паузы. Хмельно посмеивались девичьи голоса. – Вольдемар, – снова стал обниматься со мной Миша, – уступи мне свою Монику! – Ты что, Ивака? Как это уступи? – Ну, хочешь, я ее у тебя куплю… – В морду дать? – спросил я беззлобно. Мишка был пьян, что с него возьмешь. Ивакин помотал головой и уткнулся лбом мне в плечо. – Плохо мне, Вольдемар. Чувствую, колечко сжимается. Ходят. Ходят невидимые тени за мной. Хочу бросить все и уехать к чертовой матери. А одному, – он провел ребром ладони по горлу, – одному, как уезжать? – Надо поспать, Мишаня. Утро вечера мудренее. – Ничего-то ты не понимаешь, Вольдемар. – Миша приблизился ко мне вплотную и зашептал горячо и быстро. – Когда мудрость войдет в сердце твоё, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от злого пути. Понимаешь? – Нет, – честно признался я. – Это из Библии, Вольдемар. А мое знание неприятно душе моей. И приведет меня к…- он вдруг запнулся и выпалил, – Есть у меня тайна одна, Вольдемар. Хочешь, тебе скажу? – Нет, Ивака, не хочу, – я поднял руку, чтобы подозвать официанта и когда тот подошел, попросил счет. – Михаил Олегович распорядился – за счет заведения. – Обижааааешь, Вольдемар, – пьяно скулил Ивакин. – Счет ему подайте! За все рассчитаемся там, – он нетвердой рукой указал на потолок. – Вовочка, – услышал я голос Моники, – поехали? Я схватился за нее, как за спасительную соломинку. Мы быстро покинули клуб, подошли к ближайшему автомобилю у обочины. – Отвезите нас домой, – смеялась Моника, – мы заплатим золотом! Когда мы подъезжали к дому, Моника спала на моем плече. Впереди раскорячились три автомобиля и мешали проехать. Наш водитель посигналил. –Что там? – проснулась Моника. – Кажется авария, – недовольно пробурчал водитель. –Вовочка, посмотри…- сладко зевнула Моника и провела своей белой ладонью по моему лицу. Это была авария. Скорее всего, один не пропустил другого и тот, отлетая от удара задел рядом стоящий автомобиль. Во двор заехать было невозможно. Мужики у машин ругались, брюзжа слюной. Я схватил ртом воздух, несколько секунд постоял, пошатываясь. И вернулся к Монике. Она стояла красивая, высокая, стройная, чуть выставив вперед правую ногу, и смотрела на меня. – А где машина? – Уехала. Я расплатилась. Я подошел к ней и обнял. Запах кокосового крема для рук смешался с ее безупречным французским парфюмом, и я запустил свое лицо в ее роскошные пшеничного оттенка волосы. – Ты сейчас такой маленький, – сказала она и снова засмеялась. – Хочется взять тебя на ручки и прижать к груди. 3. Моника ела мороженое. Я любовался, как она облизывает круговыми движениями языка молочно-белый шарик, а потом слегка покусывает его, оставляя на гладкой поверхности характерные углубления. Отчего-то мне было смешно. Краем глаза я улавливал, как таращились на нее встречные мужики. Он шли по аллее парка со своими женами или подругами и смотрели на Монику. А те папы-одиночки, что шествовали с колясками, и вовсе вертели головой без стеснения. На нее нельзя было не смотреть. – А ты бы хотел ребенка? – спросила она вдруг. – У меня уже есть. – Да?! Ты никогда не говорил. – Ты просто не спрашивала. У меня сын. С его мамой мы развелись. Давно. – А как его зовут? – Никита. – Ни-ки-та Вла-ди-ми-ро-вич, – по слогам произнесла Моника. – Звучит. На тебя похож? – Все говорят, что да. И вдруг я увидел за столиком в кафе под открытым небом моего отца. Это был без сомнения он. Высокий, седой, со шрамом над левой бровью. Он держал в своих ладонях белую тонкую руку своей молодой спутницы и что-то говорил ей, а она слушала заворожено, время от времени округляя глаза от удивления. Дааа. Он всегда мог запудрить мозги. Это у меня от него – умение поддержать разговор на любую тему, искрить эрудицией в компании, очаровывать тех представительниц человечества, которые по устоявшейся традиции любят ушами. У моего папочки всегда находились анекдоты, смешные или напротив, душещипательные истории, которые он непременно выдавал за случаи из собственной жизни. Я тронул Монику за локоть, извинился, и пошел по направлению к кафе. Папочка заметил меня за несколько шагов. – Сынооок! – затянул он, улыбнувшись. Я взял в руки бокал с коктейлем на столе и выплеснул ему в лицо. – Давно хотел сказать тебе: ты сделал из меня ничтожество и я каждый день – понимаешь ты, каждый день помню об этом. До сих пор, когда ко мне на близкое расстояние приближается человек, я сжимаюсь всем телом, потому что жду неприятностей. Я жду крика, жду в свой адрес самых отвратительных оскорблений, жду удара по уху, жду, что рука вцепиться мне в волосы. Я все время ждал, когда же я стану старше, когда я стану сильнее тебя и смогу дать тебе в морду! За то, что ты унижал мою мать на моих глазах, а на утро она повязывала тебе галстук вокруг шеи, подавал тебе начищенную обувь, и целовала на прощание в чисто выбритую рожу. За то, что ты всегда и всем казался положительным и даже респектабельным. За то, что ты всегда хотел, чтобы я чему-то соответствовал. За то, что ты убил мою мать. Что? Ты говоришь, что не убивал ее? Конечно. Ты не перерезал ей горло, не утопил в ванной, не сбросил с балкона. Ты просто ушел. А она этого не смогла пережить. Да. Она оказалась слабой. Но даже повзрослев, став сильнее, я понял, что никогда не ударю тебя. Я понял, что не стану переживать еще одно, возможно самое сильное унижение в моей жизни. Жизнь сама ударит тебя, подумал я тогда. А теперь, ты стоишь здесь, рядом с тобой молодая кобыла и ты натираешь ей уши какой-то сладкоголосой лабудой. Я хочу, чтобы ты знал – я никогда не любил тебя. А если и любил когда-то, в молочном моем детстве, то этого, конечно не помню. Я тебя ненавижу. Ненавижу! Будь ты проклят! Очнулся я в постели. Своего тела не ощущал. В глазах все расплывалось. Я уперся взглядом в потолок и вдруг узнал люстру. Когда-то, мы с Моникой резвились здесь, на этом матрасе, я сдернул с нее тонкие трусики и подбросил их вверх. Вниз они не вернулись. В тот момент, я не обратил на это никакого внимания, и уже потом, тяжело дыша и бухнувшись спиной на подушки, увидел – трусики преспокойно висят на люстре. Мне показалось, что они даже посмеиваются надо мной. Значит я у Моники. И я жив. Еще какое-то время я полежал с открытыми глазами, наблюдая вензеля на канделябре люстры, и снова отключился. Следующим кадром передо мной возникло лицо Моники. Сколько прошло времени, я не знал. – Ты меня напугал, – сказала она. – А что со мной было? – Потеря сознания. Я вызвала скорую, потом ты метался в поту, жар сжигал тебя. Тебе что-то укололи и ты успокоился. Кто был этот мужчина? Там, в парке. – Не знаю. Я много наговорил ему? – Совсем ничего не говорил. Только угостил его коктейлем, – улыбнулась Моника. Неужели, я схожу с ума? Или так причудливо проявляет себя мое одиночество? Дело в том, что мой отец умер. Два года назад. Тогда мне позвонила последняя его пассия, кажется, ее звали Наташа. Нет ничего пошлее этого имени, как мне кажется. Есть даже такой анекдот: надо же, такая маленькая, а уже Наташа. Она спросила, не могу ли я ссудить ей денег на похороны. Я отказал. Она стойко это перенесла, видимо в ее списке были еще имена, и она назвала дату и время похорон. Я ответил, что не приду. Но я пришел. Наблюдал со стороны. Наташа рыдала, выла, как белуга, бросалась на крышку гроба. Театр абсурда. Останки моей матери лежали тут же, на этом кладбище, в соседнем квартале. – Сирота ты, сирота, – тихо сказала Моника и обняла мое лицо своими «кокосовыми» ладонями. – Ты просто очень устал. – А твои родители? Живы? – Живы. Я счастливая дочь. На каждый свой день рождения получаю поздравительную открытку. – Они далеко? – Я завтра уеду. На пару дней. – Моника снова резко изменила тему разговора. – Если хочешь, оставайся у меня. Холодильник забит. Если приведешь девушек, уберите за собой! – и подмигнула. – Презервативы не бросай в унитаз. Два дня я жил в квартире Моники. Увлеченно работал над очередной статьей, съездил на радио. Однажды вечером, почувствовал прилив того самого неприятного чувства, когда хочется проверить шкафы и ящики стола близкого тебе человека, о котором ты совсем ничего не знаешь. И к моему удивлению ничего не нашел, кроме шмоток, обуви, множества косметики, нескольких книг неизвестных мне авторов и потрепанных глянцевых журналов. А что я хотел найти? Не знаю. Мне просто хотелось знать о ней больше. Может быть, случайно обнаружить фотографию, на которой кто-то запечатлел ее на пляже с мужчиной или записную книжку с номерами телефонов. Но не было, ни одного, ни другого. 4. А еще через несколько дней мне позвонил Ивакин. Он пригласил нас с Моникой к себе на яхту. Она не выказала никакого интереса, но видела, что мне хочется развеяться, что мне все-таки, как ни крути, льстит приглашение богатенького дружка и согласилась. На причале нас ждал крепкого телосложения мужчина в белоснежной форме капитана и фуражкой с высокой тульей и якорем вместо кокарды. Он отдал нам честь и протянул руку Монике, чтобы провести ее по мостику. На яхте стоял Миша, в светлых штанах, шелковой рубашке на выпуск и с бутылкой виски в руке. Другой рукой он махал нам и улыбался. – Приветствую вас, дорогие гости! Пусть эта скромная посудина несет нас по волнам широкой реки и да будем мы счастливы! Только обувь, мои золотые снимайте. Таковы правила! Он расцеловал руки Моники, по-братски обнял меня и пригласил нас вниз, где был уже накрыт стол. Я увидел на палубе еще двух крепышей в майках-борцовках, поверх которых у обоих висели кожаные ремни кобуры. Наружу выглядывали черные рукоятки пистолетов. Мишка перехватил мой взгляд и похлопал по плечу: – Безопасность, брат мой Вольдемар, превыше всего, – сказал он. Чего только не было на этом столе. Крупные раки, лениво возлежавшие на широком блюде, пахли сногсшибательно. Горячие люля-кебаб испускали сок. Ломти ветчины, белый адыгейский сыр, круглые кавказские лепешки, жареные грибы, свежие помидоры величиной с кулак. Между всем этим изобилием стояли бутылки белого и красного вина, несколько запотевших банок пива, обязательный «Jack Daniel’s» и специальные розеточки с маслинами и оливками. – Зачем так много? – удивился я. – Нам и за три дня не съесть столько! – Гуляю, Вольдемар! – взмахнул руками Ивакин. – Имею право я накормить от пуза своих дорогих гостей? Я посмотрел на Мишку. И мне почему-то показалось, что внутренности его сжигает тоска. Моника не засиживалась за столом. Ей хотелось на воздух, и она при первой же возможности сбежала от нас наверх. – Все-таки я ее у тебя куплю, Вольдемар! – цокнул языком Ивакин – Дулю тебе! Все дело в том, что она мне не принадлежит. Она – сама по себе. – Такая женщина… – сказал Ивакин мечтательно. – И кокосовый запах ее рук меня возбуждает, – он поднял ладонь, – только не обижайся. Это я так. – У тебя проблемы, Миша? – С этим, – он показал на низ живота и сделал характерное движение вперед-назад, – никаких проблем. А вот во всем остальном… Тебе, как старому друг скажу: готовлюсь к выезду на пэ-мэ-же. Перевожу отсюда все активы, к собачьей матери. Буду валить. Что-то неладное происходит здесь. Он вдруг повел носом, словно гончий пес и тряхнул головой, совсем как тогда в караоке-клубе. — Будь сторожен, – сказал я. – Буду, – пообещал он. – Пойдем и мы наверх. На палубе было хорошо. Хрустальные брызги оставляли капли на наших брюках. Их тут же высушивал свежий юго-западный ветер. Моника крутила декоративный деревянный штурвал. Ее светлые пшеничные волосы развевались на ветру. Она заметила нас и помахала. – А капитан доверил мне управление, – весело крикнула она. – Урррааа! Вперед! Моника приложила ребро ладони ко лбу, будто всматриваясь вдаль – Земля-я-я-я-я, – вдруг закричала она и рассмеялась. – Очаровательна, – сказал Миша, отпивая глоток виски. – Знаешь, мне иногда кажется, что она нереальна, – признался я. – вот сейчас я ее вижу и слышу, а на самом деле ее нет. – Ну, хотя бы в этом деле, – Миша показал в каком именно, – она реальна? – Не знаю. Мы помолчали. Каждый из нас смотрел на Монику. – Она реальнее, чем ты думаешь, Вольдемар, – тихо сказал вдруг Миша, и мне показалось, что голос его дрогнул. Уж не влюбился ли мой школьный друг Ивакин, подумал я вдруг. В эту минуту у Миши затрезвонил телефон и он, приложив руку к груди, как бы извиняясь передо мной, отошел в сторону. Я слышал, как он с кем-то ругался, но слов не мог разобрать. Потом Моника гадала Мишке по руке. Захмелев, Ивакин сам отчего-то заговорил о том, что наша судьба непременно находится только в наших собственных руках, а сам он никогда не верил в гадания и заговоры, чем злоупотребляла его бывшая жена, которую он в конце-концов выгнал на улицу. –Ну, меня-то вы, Мишенька не сбросите в реку? – весело спросила Моника. – Вас – нет, о прекрасная нимфа! – Тогда дайте вашу активную руку, если хотите узнать о настоящем или будущем, – говорила она. Ивакин с готовностью протянул ей правую ладонь. Как это у нее получается? Он ведь только, что сказал, что не верит в гадания. Все. Решительно все от нее без ума. Я сидел напротив в плетеном кресле и наблюдал эту умилительную сцену. Ивакин – сука такая, смотрел на Монику жадно, ни капли меня не стесняясь, а она будто играла с нами обоими сразу – водила красивым своим пальчиком по внутренней стороне его ладони, надувала губки, облизывала их кончиком языка и то и дело посматривала в мою сторону. – Человеческая ладонь, Мишенька – это его зеркало, – говорила Моника. – Вот ваша линия сердца, например, начинается под средним пальцем, вот здесь. Это означает, что в отношениях вы порядочный эгоист. –Точно! – восклицал Ивакин. – Но для друзей, Моника я готов на все. Она словно не обращала внимания на его комментарии, и вдумчиво продвигалась по ладони, читая все секреты судьбы Мишки Ивакина. – А что у меня с линией жизни? – спросил вдруг Миша. Моника на мгновение остановила движение своего пальчика, но тут же снова продвинулась по широкой ивакинской ладони. – Линия жизни у вас не четкая, – тихо сказала Моника. – Здоровье у вас отменное, и болезней серьезных нет. Но линию жизни я прочесть не могу. Она вдруг сжала Мишкину ладонь, несильно, но меня словно ударило током. Я подпрыгнул, опрокинул кресло и бросился на верхнюю палубу. – Что это с ним? – спросил Ивакин. Я не видел, как Моника загадочно улыбнулась. Не помню, сколько времени я так простоял, глядя на воду. Но руки Моники вернули меня в действительность. Она обняла меня сзади за шею, и я ощутил, что теряю под ногами твердь земную. Все-таки, люблю я ее или это всепоглощающая, безумная страсть и где грань между тем и этим? – Прости меня, – сказал я. – У Мишки проблемы. Я думаю, он опасается за собственную жизнь, но хорохорится, не хочет, чтобы кто-то понял. Мне показалось, что это жестоко по отношению к нему – нечеткая линия жизни. Понимаешь? – Но если я вижу нечеткую линию, я не могу соврать. – То есть, что ты Моника, ты можешь соврать, а тут нет? – спросил я и тут же подумал, что получилось грубовато. Но Моника не обиделась. – Признайся себе, Вовочка. Твоя реакция с бедами твоего приятеля никак не связана. Ты просто меня ревнуешь. – Нет. – Да. –Нет же. – Да – Нет, я…. В этот момент Моника впилась языком в мои губы и припечатала меня долгим поцелуем. Ветер беспощадно разметал ее волосы по моему лицу. Мы вернулись к причалу поздно вечером. На набережной наш ждал огромный с бульдожьей мордой джип. Это Миша распорядился отвезти нас к месту назначения. Веселая и хмельная Моника все дорогу целовала меня и массировала мой вулканический очаг в штанах. Я обессиленный уступил ее натиску, хотя и не собирался сопротивляться. А еще через день Моника исчезла. Я снова не мог ей дозвониться – сигнал шел, но она не брала трубку, не отвечала на сообщения. Я поехал к ней домой, долго звонил в дверь ее квартиры, пока не вышла соседка, бабушка – божий одуванчик и не сказала, что Моника куда-то ушла еще вчера вечером и ночью не возвращалась. В конце-концов, у каждого из нас своя жизнь. И мы сразу договорились. Никто ни перед кем не обязан отчитываться. Но, черт возьми, я снова ощущал, как она утекает сквозь пальцы, я привык к ней, она приросла к моей коже, и я уже ничего не мог с этим поделать. Я вернулся к себе. Закончил статью, заливая в себя кофе, потом долго не мог уснуть, ворочался в постели, подминая под себя подушки. И вдруг меня осенила догадка. Я начал звонить Мише, плевать, что ночь, но он тоже не отвечал. Я набрал его домашний номер. Долго никто не отвечал, но потом я услышал заспанный женский голос. Это оказалась экономка Ивакина. Она мило поприветствовала меня, не смотря на поздний час, и сказала, что Михаил Олегович еще вчера уехал на яхту и пока домой не возвращался и никаких распоряжений не давал. Я вызываю такси и мчу на набережную. От фонарей светло, как днем, золотистым светом отливает вода. И ни одной живой души. Даже музыки не слышно из ресторанов. Жутковато. Я припустил к нужному, самому крайнему, скрытому от посторонних глаз причалу бегом. Не знаю, что я хотел там обнаружить. Монику в объятиях школьного моего друга Миши? Вот и ивакинская яхта. Мостик. Декорированная цепочка преграждает путь. Я срываю цепочку, одним махом преодолеваю мостик и оказываюсь на палубе. Тихо. Мне страшно. Кровь бьет в голову. Вдруг понимаю, что у меня подрагивает левая нога. Нервы ни к черту. Присаживаюсь на корточки и прислушиваюсь. Передо мной лицо. Мертвые стеклянные глаза. Только через мгновение я понимаю, что это один из тех крепких парней – телохранителей Ивакина. Во лбу у него аккуратная дырочка с запекшейся кровью. Я встаю на ноги и иду дальше. У правого борта лежит второй телохранитель. Его рука отброшена в сторону, голова чуть запрокинута, а нога неестественно согнута в колене. Рукоятка пистолета в кобуре. Он даже не успел выхватить пистолет. Холод обжигает спину и я чувствую, как кружится голова. Моника поехала к Ивакину. И их всех здесь убили. Миша же говорил о какой-то тайне, о том, что он боится, собирается покидать страну, что-то там про то, что знание неприятно душе его. Господи! Сказано: приди в покаянии, пока еще есть время любви и мира. Нет уже времени. Ничего уже нет. Я складываюсь пополам через борт яхты. Меня рвет. Потом я стою так еще какое-то время и глубоко дышу. Я хочу бежать отсюда без оглядки, но ноги сами несут меня вниз, туда – где мы так широко трапезничали еще пару дней назад. Яхта вдруг покачнулась, я споткнулся и кубарем скатился в нижний ярус. Первое что я увидел – это мужская ладонь. На мизинце перстень. Это ладонь Миши. Он лежит, распластавшись на мягком ковролине, и во лбу у него такая же дырочка, как у его охранников. Что-то толкает меня в грудь, я начинаю учащенно дышать, взглатываю слюну, наружу вырывается всхлип, и я чувствую, что по щекам моим текут слезы. Слезы заливают мои глаза, и я сам не замечаю, как начинаю громко рыдать. Рыдать навзрыд. Ладонь Ивакина пахнет кокосом. На улице тихо. Лишь вода с тихим причмокиванием бьется о борт белой яхты на самом дальнем причале. И никто не слышит, как я вою – жалобно, с присвистом, измазавшись в собственных соплях, и захлебываюсь слезами. *** Светлым солнечным днем к одному из самых дорогих отелей Вероны Due Torri Hotel подкатил шикарный лимузин. Швейцар поспешил открыть дверцу, служащий отеля, уже доставал чемоданы из багажника. Из салона показалась прекрасная женская ножка в элегантной туфельке, а затем на улице возникла высокая жгучая брюнетка с безупречным каре. Она еле заметным движением одернула обтягивающее строгое платье, поправила на лице темные солнечные очки и, слегка покачивая бедрами, прошла к центральному входу отеля. В холле ее встречал управляющий. – Добро пожаловать, мисс Девайн, – ослепительно улыбнулся он гостье. – Ваш номер готов. – Спасибо, Марио. Попросите, чтобы меня пару часов не беспокоили, – произнесла мисс Девайн на безупречном итальянском. – Конечно. Ни о чем не беспокойтесь. Мисс Девайн вошла в номер, дождалась пока внесут ее багаж, отдала два евро коридорному, прошла в спальню и села за туалетный столик перед зеркалом. Сняла очки, осторожно и неторопливо извлекла из глаз карие линзы, легким движением освободилась от парика. Ее натуральные длинные волосы, были аккуратно собраны почти невидимыми булавками. Затем мисс Девайн спонжем стала снимать с лица косметику. Через несколько секунд перед зеркалом сидела Моника. Она раскрыла свой изящный клатч, достала тюбик с кремом для рук, нанесла по две точечки на ладони и стала не спеша втирать крем в кожу нежными движениями. По спальне распространился знакомый сладкий кокосовый запах.