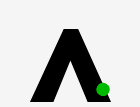Добавлено в закладки: 0
И он увидел в ее глазах солнечную дорогу, да что там дорогу, дорожку, маленький кривой переулочек между домами, сельский, залитый солнцем, горячий, совершенно летний.
Сначала куст акации, с которой все срывали плоды, похожие на горох, но несъедобные, которые тут же выбрасывались. Потом небольшая рощица, в которой все лето угукали голуби, такое она слышала только здесь, они как будто говорили: идите… Бабушка обратила ее внимание на это очень давно, еще в раннем детстве: — Света, прислушайся, как они нежно говорят: идите, идите, идите… Слева портил безмятежную картину высокий забор. Она всегда смеялась над людьми, которые заводили себе такие огромные заборы, что они там такого скрывают не хорошего. У них всегда был обыкновенный рядовой деревянный забор.
Она прекрасно помнила, как молодой отец его ставил с соседскими мужиками, еще до ее первого замужества, то есть почти в детстве. Свежее дерево сияло на всю улицу, красота неописуемая, видна была колоссальная работа, и мужики однозначно заслуживали поощрения. Если бы не одно но. И об этом недочете тут же узнала сначала вся длинная улица вниз до больницы, а к вечеру и вся деревня, конечно. Работники оставили на улице сливу. Называется, лучше бы они умерли. Бабушка, отцова мать, устроила грандиозный скандал. Драматизм, видимо, в крови этого рода. Всегда же можно просто сказать – переделай, пожалуйста. Это наша слива, она должна быть в саду, в черте участка, одним словом. Но. Тогда ведь не будет истории, шоу не будет, а шоу маст гоу он. Поэтому шоу было на весь поселок. Переставили забор. Ну а как иначе?
Когда он пришел к ним, то сразу, как будто, узнал эту квартиру. Как будто из далекого детства, как будто квартира любимых соседей, или бабушки, у которой бывал не часто, или родителей друга. В общем, своя, знакомая, привычная и понятная. Разваливающаяся, с оборванными обоями из-за котов и сотней картин на стенах. Открытая, хлебосольная, на полу здесь легко можно было найти и косточку от курицы, украденную котами, и пробку от вина или шампанского, которая куда-то там выстрелила и закатилась, заколку, крабик, который он потом научился искать ей, зубочистку, зажигалку. Здесь везде курили, ибо бабушка до этого прокоптила всю квартиру, выкуривая по две пачки сигарет в день. Сейчас бабушка жила в приличном пансионате на окраине Москвы, и он скоро узнал об обязанности ездить к ней каждую неделю. Начал ездить, ну а куда деваться.
Очень хотелось стать частью этой семьи, где тебя всегда поймут, услышат, обнимут, поплачут с тобой, если надо, и обязательно поржут. Просто смехом это назвать было нельзя, они именно ржали. Постоянно, из-за пустяка, потом рассказывая друг другу через несколько дней или лет, из-за чего они смеялись, забывая, путая детали, на ходу придумывая новые хохмы, укатываясь при этом еще больше. Чувство юмора было как будто входным билетом в эту семью, как рыцарским посвящением, типа мальчик подрос, пора ему делать обрезание, так и у них – ой, Света выросла, так начала хохмить, ну а что, 12 лет уже, пора бы.
Он себя чувствовал здесь легче, моложе, здоровее, здесь ничего не болело, а если вдруг голова, так зелененькую таблеточку возьми, где-то они были… Все было как-то проще, приятнее, вся жизнь, все беды, все болезни, все тревоги, все тяготы. Ты заходил в эту смешную, обшарпанную, неправильно поставленную и разрисованную еще дочерью подростком дверь и оказывался как будто под одеялом, или в теплой ванне с пеной или еще точнее – в том самом пузыре в животе у мамы, где всем нам когда-то было хорошо, пока мы не познакомились с реалиями этого холодного и жестокого мира.