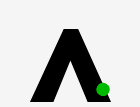Добавлено в закладки: 0
В нашем ковидном отделение, в прочем, как и в каждом нашей больницы, имеется мобильный телефон, на который звонят родственники, чтобы узнать про своих лежащих в отделение мужьях, жёнах, папах, мамах, бабушках и дедушках. Такой обычный сотовый — маленький прямоугольник черного цвета. Он часто звонит. Никто его брать не любит. Руководство дало указание отвечать на все звонки.
В этот день телефон разрывался. На трубке — дама, требующая к телефону только заведующую. Все это — официальным тоном, близким к раздражительному. Так получалось, что они по времени не совпадали: или дама звонит, а заведующей нет, или последняя на месте, а телефон молчит. Наконец ближе часам к 6 вечера ее звонок пересекся со стоящей в дверях и уходящей домой заведующей. Ее рабочий день закончился два часа назад. Сегодня в отделение за день умерло четыре пациента. Она в течение целого дня моталась из отделения в реанимацию и обратно, потом она отзванивалась родственникам, чтобы сообщить им об умерших. Также, помимо этого, уже в конце работы у нее была долгая беседа по телефону с дочкой тяжёлого пожилого больного, который несколько дней категорически отказывался есть — бывает при коронавирусе такой период с полной потерей аппетита. Она терпеливо объясняла в эту черную трубку, что мы все делаем для того, чтобы он ел и что ему надо передать из дома. И вот теперь я даю ей ещё раз этот телефон. Она смотрит — сначала на трубку, потом на меня — усталым взглядом и обессиленно, почти шепотом, просит ответить самому. А тебе вот только что сестры передали из реанимации историю умершего пациента, — это уже пятого за сегодня — и надо на него написать посмертный эпикриз. И ещё у тебя куча бумажной работы — дооформление документов по трём умершим больным. Встаю из-за компьютера, отворачиваюсь в сторону, говорю, что заведующая уже, к сожалению, ушла и спрашиваю в трубку, какой у нее, — звонившей — вопрос. Требовательный голос интересуется состоянием тяжёлого больного, которого положили три дня назад и которого сразу же после поступления перевели в реанимацию. Она за него очень переживает, она сегодня целый день не может узнать о его состоянии. Это ее папа. Она называет фамилию, называет его имя и отчество. Ты уже видел фамилию этого человека, — она стоит на истории, которую тебе только что передали из реанимации. Он поступил через неделю после начала болезни. Поступил с тяжёлой пневмонией, с 75-процентным поражением лёгких, с температурой за 38, у него был многолетний сахарный диабет и очень высокие сахара. Это то, что я успел прочитать за те несколько минут, что держал историю в руках. Три дня его в реанимации пытались спасти, три дня колоссальными усилиями ему дали прожить, и вот сегодня в два часа дня его не стало.
Говорю в трубку, что скончался. Называю время. Чтобы тебя услышали через респиратор, приходится эти слова почти выкрикивать. На том конце требовательный голос смолкает. Возникает недолгая пауза. Потом из трубки слышится какой-то то ли жалобный стон, то ли вздох. И после этого — непрерывно, на одной протяжной ноте: «Скажите, что это неправда!» — непрерывно, настойчиво, несколько раз подряд. Потом, — через паузу — уже со слабой надеждой в дрожащем голосе на той же ноте: «Ведь это же неправда?..» И ты не понимаешь, как прервать этот льющийся из телефонной трубки стон и глухо, через респиратор повторяешь, — отрезая призрачную надежду: «Он умер. Сегодня. В реанимации». Добавляешь уже от себя: «К сожалению». А из черной трубки снова и снова пробивается этот протяжный вопрошающий стон. И ты не знаешь — что туда ещё говорить, надо ли говорить, и чем можно успокоить этот рвущий душу тихий крик. Слова от усталости подбираются с трудом. Стараешься сказать по четче. Говоришь в этот черный прямоугольник, — исходя из того, что ты понимаешь и знаешь, — что папа ее был тяжёлый, шансов было мало, их почти не было, что-то ещё говоришь, мысленно боясь повторения оттуда этого стона. Она слушает, — уже молча, беззвучно, не перебивая. В трубке стоит пронзительная тишина, связь отключается, трубка положена.
Потом она ещё раз перезвонила. Все, что она спросила — это когда можно забрать папу из морга и ещё про его вещи — уже совершенно другим — глухим, погасшим, внутренне прогоревшим голосом.