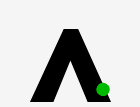Добавлено в закладки: 0
— А ты же этот, как его там,-Валентин Петрович морщит лоб и беспорядочно щелкает пальцами,-писатель, во! На заводе тебя видел.
Он выпускает из своих широких лёгких облака едкого дыма, и белая конница рысью мчится вдоль потолка моей кухни.
— Да…только, я скорее журналист
— Да какая разница, я тебя умоляю, что один бездельник, что другой — одно и то же.
Мне, безусловно, понятна позиция Валентина Петровича. Разве стоит требовать от человека, прожившего столь нелёгкую трудовую жизнь, глубокого понимания литературы? Или глубокого понимания хоть чего-то? Скорее всего, нет.
— Ты бы вот пошёл к нам, в кислородно-конверторный, у нас ведь и платят хорошо, и санатории, и туда-сюда.
— Садясь, Валентин Петрович манерно отгибает свои изношенные трудом пальцы и заглядывает мне в глаза, пытаясь проникнуть в душу.
— Но мой труд и так хорошо оплачивается.- Я невольно ухмыляюсь и смотрю на часы за его спиной, тикающие громче Курантов.
— Что-что, труд? Вон у шахтёров труд, у строителей труд, а у вас, прости Господи, так это, баловство одно.
Валентин Петрович чувствует себя победителем, как бы простодушно и лояльно он ни звучал. На его лице распласталась самодовольная ухмылка, единство которой нарушает лишь торчащая в правом углу рта папироса. Я смотрю в его глаза, пытаюсь уловить в них мутные очертания зрачков и ничего больше не вижу. В моей руке чуть ли не до скрипа сжимается пластмассовая баночка соли.
— Вот,- я легонько подталкиваю соль к нему,- мне кажется, вы уже задержались.
— Ох, даже не дашь больному человеку посидеть и лишнюю сигаретку выкурить,- он встаёт, потягивается и протяжно говорит,- интеллигент!
Он оставляет меня наедине с прошедшим разговором и спускающейся с потолка конницей.
Когда я, маленький мальчик с очками на пол лица, пришёл в пятый класс, то мне пришлось познакомиться с ним. С нашим гуру, покровителем и наставником на ближайшие годы — Валентином Петровичем Карповым. Его урок труда воспринимался нашим классом как проповедь мудрости и мастерства жизни. Я же его недолюбливал. И чувствовал, что это взаимно. Любая наша встреча была похожа на рыцарский поединок, или, скорее, на гладиаторский бой, в котором противники не испытывают друг к другу ни капли уважения. Я спорил с ним по любому вопросу, не связанному с ручным трудом — он же в отместку заваливал меня двойками. Получалось у меня всё из рук вон плохо: пилки, ножовки, лобзики и пилы приходили в негодность после моего использования, за что я, соответственно, терпел справедливую кару. Я рыл себе яму, в которую рисковал сию же секунду провалиться, а класс, хоть первое время и встречал мои выходки в штыки, позже лишь с интересом следил за ними. И всё уже который год шло своим чередом, пока один день не встал в моей школьной жизни клином.
Это был самый тёплый май, какой я помню. Беззаботная жизнь наливала вены чем-то лёгким, отчего шаг, обычно грузный и тяжелый, становился пружинящим. В моих руках была коробка конфет, врученная родителями, а в голове цель — исправить труды. Любыми методами. От хорошего аттестата и статуса гордости семейства меня отделяла лишь одна тройка, замалевать которую вряд ли получится, тем более коробкой горьких и невкусных конфет. Но надежда умирает последней.
— Ой-ой-ой,- протяжно выдыхает Карпов,- что же мне с тобой делать, а, Мильнёв? Я молчал, ведь на языке у меня не крутилось ничего приятного.
Он, как языческий идол, наседающе привстал и начал:
— Ты хулиганье, вот ты кто. И только прикидываешься умным и хорошим. Это, наверное, единственное, что ты и умеешь в жизни — притворяться. Всё. Гуляй, погода отличная, а аттестат, знаешь ли, в жизни не главное.
В моих глазах наворачивались слёзы, но я их упорно сдерживал. Казалось бы, несколько фраз, но они ранят намного больнее, чем большие и злобные тирады. Я посмотрел в его тогда ещё ясные глаза, поблёскивающие издевательскими искорками, и вышел. Беззвучно заплакал. Так, чтобы никто и никогда не узнал. Мои кулаки сами собой сжались; я беззвучно вернулся и увидел: его широкая, обтянутая клетчатой рубашкой спина виднелась в нашем широком железном шкафу с инструментами. Он что-то чинит, полностью стоя в шкафу лицом к стенке. Злоба, уже безоговорочно взявшая надо мной верх, толкает меня вперёд. Я касаюсь холодных металлических ручек и резко захлопываю двери. Моментально застёгиваю висящий на одной из них амбарный замок и отхожу. Он бьётся внутри, как зверь в запертой клетке. Я страшусь собственного поступка, собственной жестокости и злобы…и убегаю, надеясь навсегда забыть это, провалившись в жизнь, как в ледяную прорубь.
В аттестате магическим образом появилась четвёрка. Ко времени моего выпуска Карпов уже ушел из школы по собственному желанию и устроился куда-то на завод. Что же до меня? Поступил на журфаг, отучился, вернулся. Всё довольно прозаично и без лишней романтики. Пришлось снять квартиру, потому что родители не давали работать; писать же пригласили в местную газетёнку. По законам жанра, за гроши.
От очередной статьи про комбинат меня оторвал резкий стук в дверь. На пороге я увидел высокого человека, небритого и одетого в стереотипную тельняшку, в лице которого виднелись следы глубокой болезни. Я узнал его. И в первый раз за довольно долгое время меня сковал страх. Пропустив его в квартиру, я тенью пошёл на кухню, где он бесцеремонно начал курить в открытую форточку, приглядываться ко мне, морщить лоб и бесцельно щёлкать пальцами…