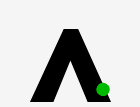Добавлено в закладки: 0
Зимой в деревне пусто голой:
под старой ивой невеселой
собаки бегают в проулке.
Все то же здесь по каждый год,
то с сумкой баба проползет,
то дальний говор слышен гулкий.
И Кама, Волга и Онега
укрыты в белый саван снега —
парча лесов, полей и рек.
Подобьем старого гриба
стара под соснами изба
глядит на свежий новый снег.
Ее былые обитальцы,
беспечно-нищие страдальцы,
сошли давно уж на тот свет.
Среди теней их я один
брожу по снегу меж руин —
и здесь сопутников мне нет.
Кругом минувший только прах
при рыжем солнце в облаках,
заборы падшие, в домах
разбиты стекла, пали крыши,
прогрызли мебель всюду мыши,
и пыль в обваленных полах.
То Запустенье неживое
да снег в давно минувший быт
за мной таинственно следит,
и смотрит бдительно за мною
из стекол сталинских буфетов
и в плесень пятнами портретов.
Кругом кусты малины, доски
гнилые в вымершей траве.
Проглянет солнце в синеве,
советских песен отголоски
из грампластинок на шкафах.
И тени, прячася в углах,
дымят советской папироской.
Все что-то жалуются, снег
лежит на веждах серых век
как их загробное страданье.
Как будто плачет некий хор
в полуобрушенный забор,
но мне невнятно их шептанье.
Вот ветер поднялся холодный
над всей деревней безысходной,
и подурнел мир серебристый.
И солнце скрылось осторожно.
Но как молиться за безбожных,
за упокой их, атеистов?