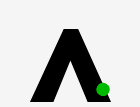Наталья КУРАПЦЕВА
СУЩЕСТВО СРЕДНЕГО ПОЛА
Моно экзистенция для театра
Это не сцена. Просто комната, дом. Вязанье и книги валяются вперемешку с сумками, пепельницами, одеждой, подушками, игрушками, косметикой. На стенах – картины, эскизы. Дом-мастерская. Вряд ли кто-то захотел бы здесь жить, кроме тех, кто живет.
Появляется Лина. Снимает и бросает пальто на кресло или тахту. Оглядыва-ется затравленно. Садится на угол тахты, снимает сапоги, надевает тапочки. Начи-нает звучать голос, который кажется зловещим:
Голос. Она у меня – женщина… Женственная… Ты понимаешь, что такое жен-ственность?.. Женщина до кончиков пальцев… Женщина… Ты спрашиваешь, чем она лучше… Она не лучше. Она – женщина. А ты – нет, ты существо среднего пола…
Лина вскакивает и теперь оглядывается уже точно затравленно, как будто го-лос принадлежит человеку, который прячется за шкафом или под столом.
Никого нет. Лина одна. Она подробно оглядывает комнату, даже обходит ее, трогая вещи, перекладывая книги, не замечая ничего. Потом она словно случайно ви-дит себя.
Лина. Нет, а почему джинсы- то, я не понимаю? У тебя что, юбки нет, девочка моя? Почему джинсы? С утра до ночи, с вечера до утра… Техасский рейнджер ты мой… (Она распахивает шкаф и начинает вываливать одежду прямо на пол, на сту-лья, на кресло, на тахту.) Так. Секонд хенд, поздравляю. И это тоже, и это… Богато жить не запретишь, верно? Нет, а что: среди этой груды барахла не найдется две-три приличных вещи? (Вытягивает вещь из общей груды.) Блузочка…Блузочка! Вполне… Сарафанчик… На помойку! Жилеточка… Ну, не знаю, жилеточка, не знаю… Юпочка, как Катька говорит, юпочка… (прикидывает на себя). Юпочку надо померить. А чулки? Боже, а что же это у нас такое – чулки? И помнить забыли такой предмет туалета, да?.. Нет, но где-то же должны быть колготки. Ищи, зараза! (Роется в шкафу, наконец, дос-тает коробочку с колготками, вытаскивает их.) Малиновые!… Отлично! «Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит…» Ай да Пушкин, ай да сукин сын… А вот на хрен тебе понадобились малиновые колготки, дура ты старая? Задушись теперь ими!… Идиотка!
Пауза
Лина. Так, стоп. Кто опять ругает Лину? Кто позволил?
Или ты хочешь, чтобы Лина плакала? Ты хочешь, чтобы… (Плачет, начинает пихать ногами свои вещи, потом садится, утыкается лицом в колени, недолго всхли-пывает и вытирает лицо первым подвернувшимся под руку куском материи).
А плакать мы не будем. Сказал… Ну, сказал… Обижаться глупо. Он и не соби-рался тебя обижать, наплевать ему не тебя. Наш папа самоутверждается через посред-ство молодой жены. Чего плакать-то из-за этого? А тошно тебе, потому что он прав. Причем совершенно независимо от своей молодой жены. Удар пришелся по самому больному месту… Женственность – вот оно наше больное место. (Начинает себя уго-варивать.) Ну вот если бы у тебя была кривая рука, ты бы не плакала. Это была бы просто реальность. Вот такая же реальность – твой средний пол. Из-за чего расстраи-ваться? Ну, средний пол, ну, не женственная, не красивая, не обаятельная и не привле-кательная… Это не помешало тебе родить Нинку. Тут все в порядке. Ты – мама. Чего еще нужно?
Ах, тебе нужно восхищение, преклонение, внимание и обожание? Глупости это все! Выдумки. Книжно-киношные розовые слюни. Если ты женщина – должна рожать детей, вот и все. Сурово и несправедливо. Вот так! Успокойся. Раскидала тут все…
А что, это мысль: надо все это барахло перемерять и посмотреть, что можно ос-тавить, а что пора выкинуть. Блузки, юпочки… А джинсы все равно лучше! Всю юность мы мечтали о джинсах, а надели их только в сорок лет. У Нинки первые джин-сы появились в пятнадцать, для нее это пройденный этап. Ей теперь требуется бархат-ное коротенькое платьице фисташкового цвета. А тебе требуется бархатное платьице? Бархатный коричневый костюм Ирэны Форсайт… Вот это вещь! А ведь был такой кос-тюмчик, помнишь, трикотажный, в белую крапинку, почти бархат…Финский, за сто рублей. Кто-то его принес, ты тут же померила, встав на стул – и взяла. И поехала в нем в Москву…. «Москва, какой огромный, странноприимный дом. Всяк на Руси бездом-ный, мы все к тебе придем…» А в поезде, между прочим, ты была в брюках, в идиот-ских брюках, в еще более идиотской рубашке, а сверху – синенький джемперочек с ко-роткими рукавами на блестящей пуговке. Паноптикум! И вот этот паноптикум москов-ский гражданин дипломатического вида и неотразимой испанской внешности совер-шенно не заметил. А тебя – увидел. И заговорил. И свидание назначил… И оно состоя-лось… А над Москвой ходили грозы, и бархатная юбка намокала и прилипала к но-гам… Куда как лучше – в джинсах да в кроссовках! (Перебирает наряды, но бархатно-го костюма нет.)
А была ли ты тогда женственной, Властилина Михайловна? Ты хотела остаться в Москве, поступить в институт, снимать документальное кино и стремиться в заоблач-ные дали вместе с гражданином дипломатического вида, играющем фламенко на две-надцатиструнной гитаре…
Вот тебе и бархатный коричневый костюм Ирэны Форсайт! Книжек надо мень-ше читать, милая моя. Комиссия вежливо посмотрела твои фотографии, тебе задали во-просы и отпустили с миром. Ну и хорошо! Ведь хорошо?
Ты будешь бредить Ленинградом,
Как я – потерянной Москвой…
(Лина встает, нажимает на кнопку магнитофона, возникает музыка, под ко-торую она кружится. Кружась, берет то одну, то другую вещь и танцует с ней, как с партнером. Потом останавливается и пытается быть трезвомыслящей.)
Лина. Надо было либо экзамены сдавать, либо личную жизнь устраивать. Как известно, за двумя зайцами погонишься, ни одного не догонишь. И не поймаешь. На-крылась твоя Москва, накрылась твоя фотографика. Пришлось возвращаться в родной дом, к маме и папе.
Мама тогда пришла в ярость. От всего: от Москвы, от ГИТИСа, от бархатного костюма. Она так разозлилась, как будто я отправилась поступать в публичный дом. Ушла из дома!.. Катастрофа! Преступление! Театр, кино – это разврат и безответствен-ность. Вот, посмотри, мама, на свою квартиру – и ты увидишь разврат и полную безот-ветственность. Как это ты говорила? «Без меня в грязи зарастешь». Считай, что – за-росла. И, кстати, с удовольствием большим. Мама, ну как тебя угораздило придумать мне такое имечко? Властелина! Не человек, а финансовая пирамида. Властелина Ми-хайловна. Кошмар и ужас. Почему не Таня? Не какая-нибудь Наташа? Нет, Властели-на… Ты же сама сократила меня до Лины. Зачем все это, зачем, мама?
Мама… (Лина встала, подошла к портрету на стене.) Нина Васильевна, това-рищ первый секретарь райкома партии… Бедная моя мама, ты и слова такого не слы-шала – женственность… Синий бостоновый костюм в белую полоску, две белые коф-ты… «Что вам, товарищ…» Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Тебя и по-хоронили в этом костюме, потому что, кроме него, был еще домашний халат и летний сарафан. И это все. Зато были речи, некролог в газете «Ленинградская правда», граж-данская панихида в актовом зале ремонтного завода… (Плачет.) Мамочка, ну почему ж ты меня совсем-совсем не любила… Или, может, любила, а я этого не поняла?
Когда я была маленькая, ты меня стыдилась. Меня – стыдилась! «Сгорала со стыда…» Потом, когда родилась Нинка, моя Нинка, я все пыталась понять: что же та-кое она может сделать, чтобы мне за нее – ребенка – было стыдно? Ничего! Не может быть матери за своего ребенка стыдно! Он – ребенок, он имеет право на все! А я тоже была маленькая девочка с косичками, и больше ничего. (Кричит.) Меня нельзя было стыдиться! Надо было радоваться, что я есть, что у меня такие ручки, ножки, глазки, носики… (Плачет.) Помнишь, мама, я тебя спрашивала: «Лина хорошая?» И ты всегда – всегда! – говорила: «Лина – нехорошая!»
А вот моя Нина– хорошая, понимаешь – хорошая. Просто потому, что она – есть. Я это знаю, и она это знает. А ты так и не узнала, что я, дочка твоя, – хорошая. А я добрая, я умная, я веселая… Я!.. А неженственная, потому что ты меня так воспитала! Никаких нарядов, никакой косметики, никаких украшений! Рабочий комбинезон, ват-ник и кирзовые сапоги – вот вам и строитель коммунизма. Пол значения не имеет. Главное – идеологическая составляющая.
В первых классах был у нас такой предмет – «Домоводство». Одна замечатель-ная женщина, Валентина Ивановна, учила нас шить, вышивать, даже готовить винегрет. Однажды я пришла домой и сделала винегрет такой вкусноты!… Я даже сейчас помню, как это было вкусно… И отец похвалил, и даже тебе понравилось… Вот Валентина Ивановна была единственным человеком в моей жизни… единственной женщиной, ко-торая попыталась сделать из меня женщину. И сделала бы! Она это умела, у нее это было в генах – учить девочек быть женщинами. А что сделала ты, мама? И с Валенти-ной Ивановной и со мной?
Одна из самых страшных историй в моей жизни. Хотя как все красиво начина-лось – сказка!
Валентина Ивановна на уроке рассказала нам сказку. Или притчу. Она спросила: «Вы знаете, какой длины надо отрывать нитку для шитья?» Мы удивились: разве не все равно? А вот и нет, сказала Валентина Ивановна…
В тридевятом царстве, в тридевятом государстве жил-был царь. А может, не царь. Просто человек. И была у него дочка, которую он любил больше жизни… Поче-му-то, когда Валентина Ивановна рассказывала, мне представилась дикая скалистая ме-стность, почти без деревьев, где всегда зима… И пещеры… В одной из таких пещер си-дела девушка несказанной красоты с золотыми волосами, в белом шелковом сарафане и шила шубу. Вокруг нее на полу валялись тяжелые жесткие шкуры, под ними подламы-вались руки, руки были тонкие, слабые… А в пещерах по соседству сидели еще две де-вушки, крепкие, сильные, в свитерах и шерстяных юбках, ловко управляющиеся с кус-ками меха. Они умели шить шубы! А моя героиня – тоже умела. И у нее была сила, но другая…
Вот что я себе представила тогда, на уроке, слушая Валентину Ивановну. А она рассказывала, что юная дочь царя полюбила простого пастуха. А отец хотел выдать ее замуж за богатого человека… Нет, не так… Я путаю все сказки. Не дочку отец выдавал замуж, а сына женил. А сын уже любил девушку. Это и была моя героиня. Это она си-дела в пещере в белом шелковом сарафане. А невест было три. Отец жениха устроил состязание: кто быстрее сошьет шубу. Он знал, что девушка, которую он прочил в же-ны своему сыну, была мастерицей по этой части. А моя… я назову ее Эльгой. Эльга никогда не шила шубы. Но она – любила! И сердце ей подсказало не спешить, а шить ровно, ладно, с любовью.
Ее соперницы торопились, они мечтали обогнать Эльгу, поэтому отматывали огромной длины нитки. Нитки путались, рвались, они только теряли время. А Эльга отрывала нитку точно для работы: вот так. (Лина как бы прихватила двумя пальцами нитку и быстрое обернула ее вокруг локтя.) Самая удобная длина нитки для ручного шитья – два локтя. И Эльга победила! Она сшила шубу быстрее всех и лучше всех. Отец жениха не смог отказаться от своего слова и женил своего сына на Эльге.
Мне было восемь лет. Я была потрясена, очарована этой историей. Мне было необходимо немедленно рассказать ее маме, чтобы для самой себя усвоить: любовь – это искусство. Мне всегда кажется, что песня Окуджавы «Искусство кройки и шитья» – про это. Откуда-то Булат Шалвович узнал сказку моей Валентины Ивановны. Может, они встречались, и она сама ему рассказала…
Вечером, когда мама пришла с работы, я воскликнула: «Мама, а ты знаешь, ка-кой длины должна быть правильная нитка для шитья?» Мама подняла брови. Она этого не знала. Я начала взахлеб рассказывать новую сказку, но осеклась уже не втором сло-ве: я почувствовала, что мама – не одобряет моей истории. Мне было так трудно рас-сказывать, я почувствовала стыд, как будто в сказке содержалось нечто неприличное, я скомкала всю историю, чтобы быстрее сказать, как правильно измерять длину нитки. Мне казалось, это важный практический момент, и мама будет довольна, что я теперь знаю, как отмерять нитку… Мама сурово сдвинула брови и сделала вывод: «Какие глу-пости вам рассказывает эта учительница!..»
А через неделю, когда я прибежала в любимый класс домоводства, он был за-крыт, урок отменили, а девчонки стали перешептываться у меня за спиной. Я набралась храбрости, подошла к нашей классной руководительнице и спросила, не заболела ли Валентина Ивановна. Учительница посмотрела на меня как-то странно: «Нет, она больше у нас не работает. А разве тебе твоя мама об этом не сказала?..» Только в стар-ших классах я случайно узнала, что мама ходила в школу и потребовала, чтобы «аполи-тичная» Валентина Ивановна у нас больше не преподавала. А меня все десять школь-ных лет считали стукачкой…
То есть когда я поняла, что Валентина Ивановна тоже… что она уверена: я на-жаловалась маме… А я!… Ведь я – восхищалась! Я была счастлива… Разве я знала, что маме ничего ни про кого нельзя рассказывать? Но если бы я не сказала, моя мама нико-гда бы не узнала про Валентину Ивановну. Выходит, вольно или невольно я ее предала. Вот тебе и сказка про ниточку… Кончилась сказка. Убили ее. Как убили отца Валенти-ны Ивановны в каком-то КарагандаЛАГе. Прекрасный был сказочник. Теперь вот его книжка вышла в издательстве «Азбука». Друг Хармса, сподвижник Проппа… Сказоч-ник. Его дочери, дочери врага народа, даже много лет спустя нельзя было рассказывать сказки, нельзя было учить детей…
Мам, а тебя, наверно, тогда наградили – за бдительность?
А ты, урод, благополучный сын благополучных родителей, еще смеешь мне го-ворить, что я – неженственна?!
Голос. Ну, я не имею в виду ничего конкретного… И твоя мать тут совершенно ни при чем, она жила в одной эпохе, а мы с тобой – в другой.
Лика. Нет, дорогой мой муж, я не признаю твоих обвинений. То, что я – излома-на, скручена в жгут – это правда. То, что я изначально была смята и скомкана, как лист плохого черновика – это правда. А вот то, что твоя молодая жена лучше, потому что женственнее меня, – это неправда. Если бы ты захотел мне помочь… Если бы ты видел во мне женщину… Это сейчас, в пятьдесят лет, ты узнал такие слова, как женствен-ность, изящество, незащищенность. А тогда тебе нужно было, чтобы я была рядом – и все. Чтобы можно было меня разбудить ночью – и говорить, говорить, говорить…. Или вызвать меня телеграммой в сибирскую глухую деревню, чтобы я прочитала твой сце-нарий. Это было можно. Этому – я соответствовала. И что на мне в тот момент было надето, не играло никакой роли. Ты сам тогда больше всего любил ватник и сапоги. Те-перь носишь смокинги… Все правильно. Тогда ты нуждался во мне, в моей слепой преданности твоему таланту.
Твой талант был моим оправданием, понимаешь? Ведь я сама – ноль, никто и ничто. Мама постаралась, и я ей поверила. Я ничего этого тебе не говорила, но неужели ты не понял? Ты так умеешь расщелкивать людей, с первого раза попадаешь в «яблоч-ко». Неужели ты ни разу не задумался о том, что происходит внутри меня? Когда ты делал фильм о репрессированных, я тебе рассказывала о Валентине Ивановне, пом-нишь? Об ее отце, о том, как мы столкнулись с этой историей в Университете, что мы думали… Я тогда забыла про Эльгу и ее ниточку, это было мелочью в том полотне, ко-торое ты создавал. После бревен Абуладзе это был самый настоящий прорыв, недося-гаемая вершина образного обобщения ГУЛАГа… Я шла за тобой и радовалась каждому новому шагу, уровню своего понимания того, что ты делаешь… Это было точно проти-воположно тому, что делала мама в отношении отца. Она всегда была выше, значила больше, чем он…
Пауза. Подходит к семейному портрету на стене.
Лика. Он был до такой степени унижен… Он мне говорил: «Твоя мама большой человек…» Говорил это почти с осуждением, во всяком случае, с глубочайшим сожа-лением. Тошно ему было, вот что! Тошно… бедный папа, бедный бывший генерал… тихий алкоголик, затравленный своей партийной женой… А ведь он в войну командо-вал полком. Он хотел тебе что-то доказать, мама. Помнишь, как он тихо шептал: «Нина, так нельзя, Нина, так нельзя…» Но ты не слышала – не слушала. Ты все решала сама. О, ты была великая женщина… большой человек… районного масштаба. Отец и пил от этого. А ты всем сообщала, что муж – это твой крест, который ты будешь нести до кон-ца. Какой крест? Ты ж атеистка, да еще воинственная. Мне кажется, ты просто его не любила. А кого ты любила? Ты любила только свои коммунистические идеи. Партию ты любила, и ей служила, как служат религиозные фанатики своим идолам.
После твоей смерти остался партийный билет – красная книжечка. Я держала ее в руках и понимала, что она тебе заменила все: и Пушкина, и Шекспира, и Библию…
А я слушала Высоцкого! А ты орала, что выгонишь меня из дома, если еще раз услышишь этого антисоветчика. А я тогда врубала Галича! А я врубала «Битлов»! И совсем не бархатные платья мне хотелось надеть. Мне, по твоей милости, грозила сми-рительная рубашка.
«Ты меня позоришь…» Тебя снова и снова было за меня стыдно. Все, что была я, было дико, неправильно, требовало исправления. Меня надо было каждый день «приводить в чувство». В детстве ты оставляла меня без сладкого, ставила в угол, запи-рала в ванной, а потом… ты прятала мои трусы, чтобы я не могла уйти из дома. Один раз мне удалось убежать – в Москву. Но мне пришлось вернуться, действительно, с по-зором. Тогда я испытала настоящий стыд за то, что ни на что не гожусь. И я поверила тебе, что Лина – плохая.
Лина – плохая, Лина – плохая… И сколько я ни буду себе твердить, что это не-правда, мне все равно это не изменить. Когда осуждает мать, исправить это не может никто.
Мама для ребенка – это весь мир, Господь Бог, истина в последней инстанции… С рождения до самой смерти. И ты для меня Бог, мама…
Я так любила смотреть на тебя… Медленно-медленно скользить взглядом по твоей руке, ноге, рассматривать ушную раковину, маленький белый шрамик на пальце левой руки. Я могла смотреть часами, просто смотреть, мне было достаточно того, что ты рядом. Глазами я тебя обожала… Если бы ты просто молчала…. Если бы я была глухая!
«Не хочу!» – «Через не хочу!»
И ложка стукается в зубы. Как ты вообще мне зубы не выбила?
«Не хочу!» – «Через не хочу!»
«Не хочу!» – «Через не хочу!»
«Не хочу!» – «Через не хочу!»
«Не хочу!» – «Через не хочу!»
Не хо-оо-чу-у!
Пауза.
Лика. Когда я вернулась из Москвы… Я спрятала свой бархатный костюм в ста-рый чемодан на антресолях. А через день он висел на спинке стула, изрезанный в лох-мотья опасной отцовской бритвой. «В моем доме, – сказала ты зловещим шепотом, – этой буржуазной заразы не будет никогда».
После Москвы ты отправила меня на завод. Коммунизм строить. Из оставшихся лоскутков ты сделала половик, чтобы все наступали на эту красоту, и я сама, втапты-вая в грязь все – и любовь, и мечту, и надежду… Все, все…
Неженственная? Да я была готова убивать! Все силы ушли на то, чтобы отстоять свое право просто быть.
Когда-то ты сказала, что если я положу на пол твой любимый ковер, за которым ты два года стояла в очереди, ты перевернешься в гробу. Коммунистическая аскеза и ковер, символ буржуазного благополучия… Нестыковочка получается. А я положила его на пол! Вот он, на полу! Видишь? Мы ходим по нему ногами. (Топает по ковру.)
Ты думала, что муж – это крест на шее? А я вышла замуж, чтобы восхищаться своим мужем, чтобы стать достойной его таланта. И если он сегодня говорит, что я – неженственная, то виновата в этом ты, мама. Ты меня изуродовала, ты меня превратила в существо среднего пола.
Начинает потихоньку убирать разгром в комнате.
Лина. Вот и все, Властелина Михайловна. Ты мечтала о любви, ты мечтала о дружной семье. Ничего этого не получилось. Муж ушел. Дочка выросла. (Сгущается темнота. Лина остается совершенно одна в круге света. Нелепая, одинокая, совсем немолодая.) А что могло получиться? Что могло получиться у человека, изначально изуродованного, почти сломанного?… Нет, конечно, можно надеть вот этот славный костюмчик… (Переодевается.) Можно найти нормальные колготки. (Находит в шкафу колготки.) Причесаться. (Причесывается перед зеркалом.) Накраситься. (Быстро, в не-сколько штрихов делает макияж ярче, интереснее.) Улыбнуться… Улыбнуться не по-лучается… Пока не получается! Займемся комнатой. Это… это… это… выносим на помойку… (Берет большой полиэтиленовый пакет, начинает складывать туда не-нужные вещи.) Как это Даша с Катей называли? «Чистить перышки…» Это правильно на все времена. Ага, шарфик. Очень даже полезная вещь. (Повязывает шарфик, огля-дывает себя в зеркало, делает из шарфика бант, снова развязывает, достает бусы, брошки, скидывает тапки и надевает туфли.) А вот мы еще музычку поставим. (Включает магнитофон. Вспыхивает полный свет) Вот и улыбочка появилась. Да, до-вольно жалкая. А мы другую помаду. Ага? А тени к глазикам? А чай попить? А кушали мы когда? Позавчера. Вот именно!
Уходит, затем появляется со столиком на колесиках. На столике – кофейник, чашка, бутерброды, конфеты, печенье.
Голос. А готовишь ты замечательно. У тебя каждый обед – праздник…
Лика. О! Каждый обед – праздник. Это он про тебя, Линочка, так говорил. Это у тебя каждый обед праздник, равно как ужин, завтрак и любой перекус. (Наливает кофе, жует бутерброды.) И что ты сегодня зациклилась на этой женственности? Пострадать захотелось? Давно не страдали, да? Помни только хорошее! Не думай о плохом! Сейчас покушаешь, морда лица придет в чувство, можно хоть на бал.
Мама плохая… Придумаешь тоже… Мама как мама…. Время как время… «Придут другие времена, взойдут другие имена…» Что она могла сделать, чему нау-чить? Чтобы в те годы быть женщиной, надо было… даже не знаю, что… Но кто-то же ходил в рестораны? Кто-то шил в ателье наряды? Кто-то покупал духи бриллиантовые колье?.. В мыслях не было! Марина Цветаева носила, как известно, серебряные кольца. Ахматова в Комарово садилась на ломаный стул, царственно закрывая юбкой непре-зентабельное седалище. Жизнь духа в предлагаемых обстоятельствах. Всегда быть вы-ше! Презрение и гордость! И теперь мне заявляют…
Голос. Она у меня – женщина… Женственная… Ты понимаешь, что такое жен-ственность?.. Женщина до кончиков пальцев… Женщина… Ты спрашиваешь, чем она лучше… Она не лучше. Она – женщина. А ты – нет, ты существо среднего пола…
Лика. (Встает.) Теперь мне заявляют, что я – существо среднего пола. А задача быть существом женского пола и не ставилась. Ставилась задача быть существом ду-ховным. И, худо-бедно, с этой задачей я справилась. Я даже художницей умудрилась стать, вопреки всему и всем. У меня, между прочим, завтра выставка открывается.
Я вас люблю, красавицы столетий, *
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.
Еще за то, что, стиснув створки сердца,
клад бытия не отдавал моллюск,
открыть и вынуть – вот простое средство
быть в жемчуге при свете бальных люстр.
Как будто мало ямба и хорея
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!
Капризы ваши, шеи, губы, щеки,
смесь чудную коварства и проказ –
я все воспела! Мы теперь в расчете!
Последний раз благословляю вас!
Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал – поверит, что я жизнь свою
всю напролет, навытяжку стояла
.пред женщиной, да и теперь стою.
Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Невмочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшего зверье и детвору.
Наскучило чудовищем бесполым
быть другом, братом, сводником, сестрой,
то нежничать, то враждовать с глаголом
пред тем, как стать травою и сосной.
Я выбираю – поступясь талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом!
А что есть ямб – знать не хочу о том!
Лукавь, мой франт! Опутывай! Не мешкай!
Я скрою от незрячести твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я! Я – друг моих друзей!
Красавицы, ах это все неправда.
Я знаю вас – вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.
Люблю, когда ступая, как летая,
проноситесь, смеясь и лепеча…
Суть женственности – вечно золотая –
всех, кто поэт, священная свеча.
Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?
Пауза. Тишина.
Звонок телефона.
Лина. (Берет трубку). Да!
Голос дочери. Мамсик! Это я, Мурзик.
Лина. Мурзик, ты где?
Голос дочери. Я у Алены, ты мне ничего не говори…
Лина. Ну?!
Голос дочери. Нет, ты мне ничего не говори…
Лина. Ну!!!
Голос дочери. (Хохочет.) Ой, мамсик, мамсик, это все. Значит так.
Лина. Ну.
Голос дочери. Ты меня не перебивай, я волнуюсь.
Лина. (Смеется.) Это заметно, как ты вся изволновалась. Был твой красавец?
Голос дочери. Андрюшенка…. Ах! А куда ж он денется, гад такой?!
Лина. Уже гад? Это прогресс.
Голос дочери. Мам, я взяла у Алены платье, вишневое, на лямочках, помнишь, я летом в нем как-то приходила?
Лина. Да, помню. Отпад?
Голос дочери. Полный! Отпад! Андрюша пошел по стенке, потом красными пятнами, а я – очи долу, ничего не замечаю, вся сдержанно- величественная…
Лина. Класс! Нинка! Ты молодец! Я тобой горжусь. Значит, ты освободилась? Я так рада!…
Голос дочери. Да что ты, мамочка, я его так люблю, у меня земля из-под ног уходит. Освободилась… Куда там! Он мой, понимаешь, я это сразу поняла, еще два го-да назад. Ну, он теперь у меня попляшет! Я ему покажу!
Лина. Фу-уу-у. Нет, Мурзик, я этого не понимаю. Это уже, видимо, высший пи-лотаж. Я на такое не способна. Я ведь у тебя «существо среднего пола».
Голос дочери. Что-оооо?!! Это что такое? Чем ты там занимаешь без меня? У тебя завтра выставка открывается, ты не забыла, часом?
Лина. Да тут… (Пытается шутить.) Один гражданин… изволил мне сообщить радостную весть о том, что я – существо среднего пола.
Голос дочери. А ты поверила, да? С какой стати? А-ааа… Я, кажется, знаю, что это за гражданин. Это мой замечательный папочка. Да?
Лина. Ну… Он ведь тоже человек. Мужчина… Между прочим, единственный в моей жизни.
Голос дочери. Мам. Открываешь форточку, выбрасываешь в окно. Все, ставим точку, забыли, проехали. Ты его кралю видела? А я видела. Кукла Барби. Они меня на какую-то свою презентацию звали. Меня чуть не вырвало. Мама, если ему ЭТО нравит-ся… Пфууу… Ты его последний фильм помнишь? Ну, так это все одного поля ягоды. Кукла Барби. «В плену соблазна». Тоже мне, Берлускони…
Лина. Давай не будем об этом, ладно? Так что Андрюша?
Голос дочери. А! Вот! Я тебе и звоню. Мобильник отключила, к Алене уехала. Если он объявится, ты не представляешь, где я есть. Я есть плену соблазна… (Смеет-ся.) Мама, ты знаешь, мама, что ты самая лучшая мама на свете? Властелиночка ты моя Михайловна, завтра мы встречаемся в одиннадцать утра у моей Наташки, будем тебе делать голову. Платье надеваешь зеленое. Или костюм…
Лина. Я сейчас как раз его примерила. С шарфиком.
Голос дочери. (Подозрительно.) С каким таким шарфиком?
Лина. Ну, ажурный шарфик, с кистями.
Голос дочери. Допустим. Это я завтра проконтролирую. Все, мамсик, Алена тут какую-то еду подогрела, я ведь голодная, как собака, с утра ничего проглотить не мог-ла. Целую.
Лина. Целую, Мурзик. (Кладет трубку.) Ну вот… (Звонок телефона.) Да. А кто ее спрашивает? Нет. Ее нет дома. Попробуйте позвонить завтра вечером, хотя я не уве-рена… Всего хорошего. (Кладет трубку.) Вот тебе! Завтра-то нас точно не будет! Ум-ри, несчастный!
Ну что, «существо среднего пола», пошли спать, завтра у тебя великий день.
КонецЪ
22 ноября – 5 декабря 2002
Пьеса написана на конкурс моноспектаклей, который проводил З.Я. Корогодский. «В номинации «Драматург» присуждается 1-я премия Курапцевой Наталье Павловне» 20 мая 2003 года.