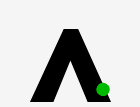Добавлено в закладки: 0
…Юровскій шагнулъ въ комнату, гдѣ ждали латыши.
Съ Юровскимъ вошли Петръ Ермаковъ, Григорій Никулинъ, Павелъ Медвѣдевъ, Михаилъ Кудринъ, и еще одинъ — пулеметчикъ Алексѣй Кабановъ. Всѣ держали въ рукахъ оружіе. У всѣхъ лица были чернѣе земли.
— Всѣ въ сборѣ?
Хриплый голосъ Юровскаго хлестнулъ воздухъ надъ головами.
— Всѣ, — спокойно, даже лѣниво отвѣтилъ Латышъ.
— Хорошо. Готовы?
— Да.
— Нѣтъ!
Впередъ шагнулъ сначала одинъ рослый сивый латышъ, въ фуражкѣ, за нимъ другой, съ голой соломенной головой.
— Это что еще?!
Тотъ, что впереди стоялъ, наклонился и положилъ на полъ наганъ.
— Не буду стрѣлять въ женщину и дѣтей, — сказалъ, ломая языкъ.
Тотъ, что сзади, тоже впередъ вышагнулъ и тоже револьверъ на полъ бросилъ. Желѣзо лязгнуло.
— И я не буду… стрѣльятъ… въ русскыхъ царьей.
Юровскій сжалъ кулаки до побѣлѣнія.
Онъ не былъ готовъ къ такому повороту.
Но вотъ онъ, поворотъ; и срочно надо развернуть это авто и погнать туда, куда надо.
Иначе все — рухнетъ. И костей не соберешь.
— Йимахъ шмо вэ-зихро! — Онъ выругался по-еврейски. И еще разъ по-русски выхрипнулъ: — Проклятье!
Не двинулся съ мѣста. Сейчасъ главное — не заварить кашу паники. Бунтъ на кораблѣ?! Ну это мы еще поглядимъ.
— Идите вонъ.
Старался быть спокойнымъ.
Латыши четко, жестко пропечатали шагъ къ двери. Вышли.
Послѣ нихъ въ комнатѣ остался сложный запахъ махорки, пороха, пота и свѣжей ваксы. И кваса. И отчего-то — аптечной ромашки.
Дверь моталась чуть пріоткрытой, и въ щель изъ коридора дулъ сквознякъ. Шевелилъ безумную волосяную поросль на головѣ Ермакова.
— Возьми быстро изъ охраны! — крикнулъ Ермаковъ.
— Самъ знаю. Никулинъ! Быстро приведи сюда, — соображалъ на ходу, — Люкина… и… Лямина.
— Сейчасъ.
Никулинъ скрылся. Слышенъ былъ дѣтскій, медвѣжій топотокъ его сапогъ.
Потомъ шагъ замедлился, отяжелѣлъ. Половицы скрипѣли.
…Ляминъ стоялъ на посту. Постъ номеръ три. Онъ все помнилъ, но какъ будто ничего не помнилъ. Такъ разуму было легче: знать, но не помнить. Или наоборотъ: помнить, но не знать.
Топотъ. Чьи-то тяжелые сапоги. Или тяжелый человѣкъ такъ тяжело, грузно идетъ. Никулинъ.
— Привѣтъ, Григорій, — холодными губами сказалъ Ляминъ.
Никулинъ злобно глядѣлъ на его красно-рыжую, безъ фуражки, голову.
— Идемъ, — загребъ воздухъ согнутой рукой.
Ляминъ нагнулся, повернулся и поднялъ фуражку съ пола. Нацѣпилъ на огонь волосъ.
Пошли оба. Быстро, молча.
Лямину винтовка стучала о лопатку.
«Что случилось? А что-то уже случилось».
Старался дышать не шумно, размѣренно. Однако внутри все заколыхалось — такъ ураганный вѣтеръ гнетъ и трясетъ деревья, стремясь вывернуть съ корнями.
Вошли въ подвальную комнату съ полосатыми обоями.
Ляминъ увидѣлъ людей, и у всѣхъ въ рукахъ — наганы.
«Такъ вотъ какъ оно все это будетъ-то».
Силъ не было даже слюну проглотить. Дышалъ носомъ, потомъ ртомъ.
Легкія словно слиплись, такъ съ трудомъ раздвигались при вдохѣ.
Зачѣмъ-то здѣсь стоялъ еще и Сашка Люкинъ. Сашка былъ лицомъ бѣлый, будто щеки ему вымазали известью. Закрасили, какъ царское окно.
Юровскій шагнулъ къ Лямину и вложилъ въ его руку наганъ.
— Держи. Будешь казнить.
Михаилъ зажалъ револьверъ въ холодной и потной рукѣ.
Ермаковъ стоялъ рядомъ съ Юровскимъ и держалъ два револьвера, въ каждой рукѣ — по нагану.
«А два-то зачѣмъ?»
Внезапно понялъ.
Сашка глядѣлъ на Михаила загнаннымъ зайцемъ.
«Сашка, какая я тебѣ сейчасъ помощь! Мнѣ бы кто нынче самому помогъ».
Все крѣпче, безповоротнѣй сжималъ наганъ.
Старался стоять на раздвинутыхъ ногахъ крѣпко, влито, чтобы не упасть.
А полъ ходилъ подъ ногами палубой въ непогоду.
Еще сильнѣе сжалъ — и рѣшился.
Какъ трудно было это произнести! Но онъ произнесъ.
Каждое слово выдавливалъ отдѣльно и, сказавъ, ждалъ. Чтобы силъ для другого — хватило.
— Я. Не буду. Стрѣлять.
Наганъ самъ вывалился изъ руки и грохнулся объ полъ.
Мишкѣ показалось — полъ сейчасъ разверзнется, аки земля на Страшномъ Судѣ, и въ трещину провалятся всѣ они, тутъ стоящіе, и адскіе гады и огонь подземный весело, торжествуя, ихъ пожрутъ.
Юровскій неожиданно ловко и быстро наклонился и поднялъ наганъ съ половицъ.
И опять терпѣливо, будто втемяшивалъ дитенку трудный урокъ, втиснулъ оружіе обратно въ руку Лямина и самъ загнулъ, чтобы держали крѣпче, и зло сжалъ его безчувственные пальцы. По лицу Юровскаго сначала бродила, потомъ застыла ледкомъ ночного заморозка дикая усмѣшка.
— Намъ не нужны трусы.
Мишка хотѣлъ крикнуть: нѣтъ! — и увидалъ, какъ Юровскій разстегиваетъ кобуру.
«Все. Мнѣ конецъ».
Наганъ обжигалъ ладонь то льдомъ, то пламенемъ.
Это уже не оружіе было. Что онъ держалъ? Онъ не зналъ. И лицъ этихъ людей онъ не зналъ. Онъ ихъ только мучительно вспоминалъ и вспомнить не могъ.
Юровскій уже вынулъ свой револьверъ изъ кобуры. Не сводилъ глазъ съ Лямина.
— Я не трусъ, — сказалъ Ляминъ чужимъ, не своимъ голосомъ.
— Ну вотъ и отлично, — Юровскій засунулъ револьверъ обратно въ кобуру.
«Поговорили».
Безумный Ермаковъ, волосы у него на головѣ шевелились черными змѣями, а глаза выпучивались чудовищно, совсѣмъ ужъ страхолюдно, подступилъ къ Сашкѣ Люкину и тоже вложилъ ему наганъ въ ладонь.
— Все понялъ?!
— Нѣтъ! — закричалъ Сашка и вправду какъ въ тайгѣ подранокъ.
— Ну такъ сейчасъ поймешь!
Теперь Ермаковъ выхватилъ изъ кобуры наганъ и прислонилъ стволъ ко лбу Люкина.
— Или ты, или они!
— Выбора нѣтъ, — на ломаномъ русскомъ неожиданно, тихо и скрипуче, сказалъ Латышъ изъ угла комнаты, тамъ онъ на корточкахъ сидѣлъ у стѣны, — это приказъ! Жить хочешь? Будешь стрѣлять!
Сашка заплакалъ, какъ ребенокъ, и тихо, медленно согнулъ колѣни и тоже опустился на корточки. Такъ сидѣлъ, и плачъ былъ, а слезъ не было. Только трясся. Со стороны поглядѣть — человѣкъ смѣется: то ли надъ собой, то ли кто удачно пошутилъ.
…Михаилъ не зналъ, что полчаса назадъ тутъ, въ этой же самой комнатѣ съ полосатыми обоями, на столъ положили пистолеты и револьверы Павелъ Ереминъ, еще три стрѣлка и Пашка Бочарова.
Ереминъ, глядя раскосо и жестко, медленно выговаривая слова по слогамъ, отчеканилъ: каз-нить не бу-ду. Выковырялъ наганъ изъ кобуры и брякнулъ объ столъ.
Пашкѣ всучили маузеръ, она долго вертѣла его, разглядывала длинный стволъ и черную коробку магазина. Усмѣхнулась. Стерла усмѣшку съ лица, шагнула къ столу. Швырнула маузеръ.
Что она сказала тогда, глядя глаза въ глаза Юровскому, Ляминъ никогда не узналъ.
##
Ляминъ косился на Алексѣя Кабанова. Межъ солдатъ ходилъ слушокъ: Кабановъ когда-то царскимъ гвардейцемъ служилъ. Ляминъ однажды присталъ къ Кабанову: скажи да скажи, въ какомъ полку у царя состоялъ. Кабановъ нехотя отвѣтилъ: въ Конномъ, только ты больше никому изъ нашихъ не бреши, ладно? Лады, отвѣтилъ Мишка и сдержалъ слово.
Кабановъ тоже косилъ глазомъ, какъ конь, на Михаила.
«Онъ видѣлъ мою трусость. Чортъ, да это жъ развѣ трусость! Я — и царей казню! Непредставимо».
«Да ты же самъ согласился… тамъ, въ гостиницѣ… на сговорѣ…»
«Лучше бы тогда не согласился. Лучше бы тогда убили».
«Не ври себѣ!»
Кабановъ вертѣлъ револьверъ въ рукахъ. Разсматривалъ его, потомъ опять взглядывалъ на Лямина.
Шагнулъ къ Мишкѣ.
— Ты, не дрожи.
— Я не дрожу.
— Дрожишь, я же вижу.
— Ты попрежнему съ пулеметами? Начальникомъ?
— Да. Стрекотинъ подъ моимъ началомъ.
— Видишь, какъ все… — Ляминъ сжималъ наганъ и уже не чувствовалъ его въ онѣмѣлой рукѣ. Ни желѣза, ни механики; ни тяжести; призракъ одинъ. — Вышло.
Кабановъ повелъ головой вбокъ, какъ цапля на пруду.
— Да еще ничего не вышло.
— Разговоры — отставить! — крикнулъ Юровскій.
И придавило, какъ падающій неотвратимо потолокъ, молчаніе.
— Я пошелъ будить ихъ!
Юровскій прошагалъ къ двери. Они, всѣ двѣнадцать, смотрѣли, какъ онъ выходитъ.
Смотрѣли на дверь, какъ въ церкви люди смотрятъ на икону.
Черезъ минуту они услышали по всему Дому электрическіе звонки.
— Будитъ, — безслышно выдавилъ Сашка.
«Сейчасъ встанутъ и одѣнутся. Это еще минутъ пятнадцать. Еще долго».
Минуты стали растягиваться въ мѣсяцы, въ года, и это было прекрасно.
…Звонки гремѣли, человѣческій твердый, костяной кулакъ настойчиво стучалъ въ дверь.
За дверью — шаги. Почти неслышные, мягкіе. Тотъ, кто шелъ къ двери, шелъ въ домашнихъ тапочкахъ. Дверь отворилась.
Докторъ Боткинъ на порогѣ стоялъ отнюдь не заспанный. Да, въ домашнихъ туфляхъ, но не въ шлафрокѣ — въ легкомъ пиджакѣ, въ лѣтнихъ свѣтлыхъ, чесучовыхъ штанахъ. Будто посидѣть собрался на пляжѣ, подъ бѣлымъ полотнянымъ зонтомъ.
— Доброй ночи, товарищъ комендантъ. Однако поздно!
Ни удивленія, ни радости на лицѣ. Спокойно лицо и безтрепетно.
Фельдшеръ стоялъ передъ докторомъ, и вдругъ испыталъ громадной силы униженіе и дикій, нечеловѣческій гнѣвъ: онъ все равно выше! Все равно! А я, я — ниже!
Унизить. Мордой — да въ навозъ. Хорошъ ихъ навозъ, смерть! Навознѣе не придумать кучи.
— Срочное дѣло.
— Какое?
За спиной доктора виднѣлся неубранный столъ, и на столѣ — свѣча и листъ бумаги.
— Въ городѣ волненія. Ждемъ съ минуты на минуту военныхъ дѣйствій. Васъ всѣхъ необходимо переселить изъ вашихъ комнатъ внизъ. Въ подвалъ. Тамъ вамъ будетъ безопаснѣе. Быстро одѣвайтесь, и пойдемте.
Боткинъ оглянулся на недоконченное письмо.
— Хорошо. Я сейчасъ разбужу всѣхъ. Сладко всѣ спятъ, вѣдь глубокая ночь.
И опять ни трепета, ни испуга, ни изумленья на вѣжливомъ, добромъ и спокойномъ лицѣ.
Какъ великолѣпно владѣетъ собой, обозленно думалъ Юровскій.
Боткинъ постучалъ въ спальню царей. Распахнулъ дверь и вошелъ.
Царица лежала на спинѣ, съ закрытыми глазами. Боткинъ подошелъ къ кровати и осторожно потрясъ ее за плечо.
— Ваше величество. Проснитесь. Проснитесь.
А проснулся царь. Онъ уже глядѣлъ на доктора глазами крупными, плывущими, водяными, безсонными.
— Докторъ. Милый. Что стряслось?
Боткинъ прерывисто, какъ ребенокъ послѣ плача, вздохнулъ.
— Ничего страшнаго. Ждутъ входа войскъ въ городъ. И боятся. Насъ приказали перевести въ нижній этажъ. Приготовили комнату. Придется встать и одѣться.
— Среди ночи, какая жестокость.
— Это не жестокость, ваше величество, а необходимость военнаго времени.
Царица охнула, перевернулась на бокъ и открыла глаза.
— Гдѣ я?
— Дома, родная. Дома.
Царь поцѣловалъ ее въ лобъ.
…У Лямина слухъ обострился неимовѣрно. Онъ стоялъ около открытой двери, глядѣлъ на полосатые обои. Слышалъ, какъ наверху Боткинъ громко говоритъ: «Ну вотъ и хорошо, и всѣ проснулись!»
…Ему казалось — онъ слышитъ шорохъ ея снимаемой, сдергиваемой съ груди и плечъ ночной сорочки. Слышитъ, какъ волосы, увязанные на ночь, выползаютъ изъ-подъ повязки, текутъ на плечи. Слышитъ, какъ она тихо и стыдливо зѣваетъ и тутъ же закрываетъ ротъ.
Слышитъ, какъ она говоритъ какой-то изъ сестеръ: «Завяжи мнѣ здѣсь!»
Кому? Ольгѣ? Татьянѣ?
«Гдѣ? Гдѣ тебѣ завязать? А лучше бъ развязать».
Почему-то не только слухъ обострился. Онъ ярко и ужасно понялъ — сейчасъ ея не будетъ, скоро, вотъ уже черезъ часъ, черезъ полчаса, — и понялъ, что этой потери не возмѣститъ ему никто: ни Господь Богъ, ни революція, ни свѣтлое будущее, до котораго — палкой не добросить; никто изъ людей, извѣстныхъ ему или еще неизвѣстныхъ.
«И ни обнять. И ничего уже не сказать».
Онъ ощутилъ проклятье мужчины, проклятье летучаго, бѣглаго зачатія и потомъ — одиночества; проклятіе расплаты за нѣсколько секундъ великой боли-радости — а платить надо всѣмъ самымъ дорогимъ и тяжелымъ: сердцемъ, разлукой, жизнью. А жизнь, она и есть время.
Гдѣ оно сейчасъ?
«Эй, время, гдѣ ты?»
Не идетъ. Встало.
«А я даже съ ней не переспалъ. Не сумѣлъ».
…вдругъ ясно, остро понялъ: и это даже хорошо, что не переспалъ, и понялъ еще: спанье это людское, это совмѣстное колыханье въ койкѣ — это еще не все самое дорогое, самое важное; что-то еще должно быть сверху этого, надъ этимъ, какой-то ясный негасимый свѣтъ, и, если этого верхняго свѣта — надъ людскою случкой — нѣтъ, значитъ, и ничего нѣтъ, никакой любви и никакой памяти.
Не слухомъ — нутромъ, печенками всѣми слышалъ, какъ одѣваются всѣ они. Толпятся живой ночной мошкарой, людскимъ комарьемъ. «И то правда, человѣки — тѣ же мошки, пчелы, муравьи. И приходитъ время-великанъ, и наступаетъ ногой на всѣ наши людскія выдумки, дома, любови, и рушитъ все, и растаптываетъ».
Зашепталъ невнятно, бредово:
— А я заяцъ, ухо съ палецъ… А я волкъ, зубами щелкъ… А я мышь, изъ угла въ уголъ кышъ… А я медвѣдь, вамъ всѣмъ пригнетышъ…
— Полчаса ужъ вожжаются, — вспыхнулъ рядомъ махорочный огонекъ Сашкинаго голоса.
Ляминъ шатнулся.
— Эй, другъ, ты што?.. уже принялъ?
— Уйди ты.
— Э, не клацай зубенками. Ужъ поздно. Нѣту назадъ дорожки.
Ляминъ услышалъ голосъ Юровскаго:
— Ну все? Одѣлись? Ступайте къ лѣстницѣ!
— Глаза бояцца, руки дѣлаютъ, — тоскливо, сѣро сказалъ Сашка.
Они спускались. Онъ слышалъ шаги. Шаговъ много. Нестройные. Шли тихо, а Лямину казалось — бьютъ въ барабаны.
Это бились внутри него его потроха.
Вся революція сдѣлалась странно маленькой, померкла, глядѣлась козявкой, ничтожнымъ дѣльцемъ, ради котораго не стоило и огородъ городить. Малой дитячьей забавкой — рядомъ съ тѣмъ огромнымъ и страшнымъ, что имъ предстояло сейчасъ совершить.
Еще было время уйти отъ этого; не совершать этого.
А какъ? Было нѣсколько выходовъ, и всѣ эти выходы Ляминъ живо прокручивалъ подо лбомъ. Лобъ соображалъ туго, словно съ натугой и скрипомъ двигалась старая, вѣкъ простоявшая въ конюшнѣ телѣга.
Выходъ первый: убѣжать.
«Куда? Всѣ ходы перекрыты. Черезъ заборъ буду сигать — меня на постахъ увидятъ, моментомъ подстрѣлятъ. Посты-то вѣдь никуда не дѣлись».
Выходъ второй: уже наотрѣзъ отказаться, встать передъ Юровскимъ и бросить наганъ на полъ. И ждать, пока онъ вынетъ свой и застрѣлитъ его.
Еще третій выходъ былъ: застрѣлиться самому.
Вотъ, пожалуй, и все, и всѣ три выхода — подъ пули. Ни одного — подъ жизнь и воздухъ.
«Проклятье. Чепуха какая. А какъ все это случилось?»
Жизнь внезапно и рѣзко отмоталась, какъ пленка въ синематографѣ, назадъ, и онъ увидѣлъ себя — въ Буянѣ; себя на фронтѣ; себя въ рядахъ Красной Гвардіи; себя — въ Тобольскѣ, и вотъ здѣсь. Рядомъ призракомъ моталась Пашка. Ея лицо вдругъ засвѣтилось и взорвалось прямо передъ нимъ, и онъ зажмурился отъ вспышки. Пашка! Она гдѣ-то рядомъ. Сколько съ ней пройдено всего! Съ виду немного, но каждый изъ этихъ дней съ ней за годъ сойдетъ. Но какъ же онъ оказался здѣсь, вотъ именно тутъ, въ Домѣ?
«Послѣдній ихъ Домъ. А можетъ, и для меня послѣдній».
Думалъ о себѣ холодно, отстраненно. Какъ не о себѣ.
Да, онъ не зналъ, какъ все это получилось. Не понималъ. Дороги сплетались и перевивались, схлестывались. Разбѣгались. Дѣлали петлю и снова возвращались къ старому. Нѣтъ, это новое искусно притворялось старымъ. Ничего нѣтъ того, что повторилось бы.
Онъ не понималъ, гдѣ онъ ошибся, куда невѣрно ступилъ; вездѣ было болото, и вездѣ, куда ни сунься, было только съ виду бодро и радостно, а копни — тамъ гниль, измѣна, предательство. Обманъ. Ложь. Много онъ видалъ лжи. И она все никакъ не умирала. Умирали люди, ихъ убивали, и чѣмъ дальше, тѣмъ свободнѣй и безтрепетнѣй, — а вотъ ложь — оставалась. Живучая. Наглая. И люди другъ передъ другомъ изощрялись, чтобы обмануть повыгоднѣй, чтобы пріукрасить сѣрое, гадкое и дохлое.
«Боже! Господи!»
«Зачѣмъ ты Бога зовешь? Сказано, нѣтъ же Его».
«Господи!»
«Выкинь изъ головы эти бредни! Кончай сопливиться!»
Шаги, смѣшиваясь и дробно переплетаясь, раздавались совсѣмъ близко.
Голосъ Юровскаго крикнулъ:
— Стойте здѣсь! Ждите! Я сейчасъ!
И раздались только одни шаги.
Юровскій шелъ.
…Латыши стояли густымъ высокимъ лѣсомъ, и правда смахивали на мачтовыя корабельныя сосны. Сапоги Юровскаго подгрохотали къ двери.
Ляминъ еще не видѣлъ у него такого лица: глаза и губы узкіе, почти татарскіе, скулы каменныя, какъ у памятника.
— Всѣмъ перейти въ сосѣднюю комнату, — сказалъ Юровскій быстро, тихо и хрипло. — Только тихо. Сапогами не гремѣть. Оружіе на полъ не ронять.
Сначала латыши, потомъ Никулинъ и Ермаковъ, потомъ Кабановъ и Медвѣдевъ пошли къ двери. Послѣдними вышли Сашка и Ляминъ.
Сашка воровато сунулся къ Михаилу и еле слышно шепнулъ:
— Вотъ бы сейчасъ бы!
«Сбѣжать. О томъ же думаетъ, о чемъ и я».
Сосѣдняя комната — это была кладовая.
Тамъ, гдѣ Пашка сказала ему о ребенкѣ.
Ребенокъ, это же бредъ и сонъ. Это тоже наглая ложь. Животъ у нея не растетъ, и пятенъ на рожѣ нѣтъ, и вертитъ она задомъ передъ мужиками. Ему казалось: ребенокъ, это такое святое, и женщина тутъ же должна сдѣлаться святой и чистой, и важной, и спокойной, и двигаться не въ мірѣ, а надъ міромъ. Вѣдь она носитъ жизнь. А тутъ — все та-же Пашка; и все то-же ея тайное, онъ только знаетъ, какое, безстыдство, распутство.
Они всѣ ввалились въ кладовую, и латыши, они шли первыми, тутъ же наступили на иконы. Дерево хрустѣло подъ подошвами, подъ каблуками. Латышъ, это тотъ, бѣлый и плюгавый, нагнулся, выдернулъ изъ-подъ сапога треснувшую напополамъ икону святителя Николая.
— А! Николка!
Повертѣлъ икону въ рукахъ. Притворился, что хочетъ зашвырнуть въ уголъ. Сашка въ ужасѣ схватилъ его за руку.
— Дуракъ ты! — зашипѣлъ. — Велѣно же тише!
— Самъ дуракъ, — сказалъ Латышъ и показалъ желтые длинные, лошадиные зубы.
Одинокіе шаги стихли, и послышался опять хоръ шаговъ. И хоръ голосовъ.
Они шли и переговаривались межъ собой — тихо, по-ночному. Кто по-русски, а кто и по-тарабарскому.
Никулинъ сѣлъ на полъ кладовой. Рядомъ съ нимъ тускло свѣтился кирпично-темной мѣдью баташовскій самоваръ. На бокъ самовара падалъ лучъ свѣта изъ дверной щели. Никулинъ пощелкалъ ногтемъ по погнутой старой мѣди, испещренной ямками и клеймами.
— Ишь ты… съ медалями… тульскій…
— А вотъ на Уралъ залетѣлъ.
Павелъ Медвѣдевъ тоже звонко щелкнулъ ногтемъ по мѣдному выгибу.
— Эй, кончайте стучать.
Кабановъ сдѣлалъ грозное лицо. Никулинъ погладилъ самоваръ, какъ кота.
— Да ладно тебѣ.
Ляминъ и Сашка стояли у двери. Не садились ни на полъ, ни на старые стулья и кресла. Иные стулья были перевернуты, ножки торчали вверхъ.
«Это не стулья. Это мертвыя козы, свиньи, лошади. Телята. Валяются. Это мы ихъ убили».
Латышъ шагнулъ къ Лямину и сказалъ, вродѣ какъ не Лямину, вродѣ въ пространство:
— Тамъ перегородка деревянная. Хорошо. Не будутъ пули отскакивать.
Ляминъ глядѣлъ ему въ лицо, не понимая ни слова.
Латышъ ухмыльнулся и сталъ еще противнѣе.
— Рикошетовъ не будетъ.
Ляминъ сдѣлалъ видъ, что не понялъ, хотя теперь онъ понялъ все.
Латышъ говорилъ по-русски съ ужасающимъ акцентомъ.
…Они шли — такъ идутъ вокругъ церкви крестнымъ ходомъ.
Впереди шелъ царь. Онъ несъ Алексѣя на рукахъ. Царь въ гимнастеркѣ, и сынъ тоже. На головахъ военныя фуражки. Мальчикъ такъ любилъ военную одежду. Онъ воображалъ себя полковникомъ, подобно отцу; и все свое дѣтство проигралъ въ войну, въ солдатики.
Два ожившихъ солдатика изъ его старинной царской игры. Оба въ военной болотной амуниціи; оба воины. Но зачѣмъ они такъ смиренно идутъ? Воинъ долженъ сражаться.
О, иногда воинъ и молится. Напримѣръ, передъ дальней дорогой.
Или передъ тяжелымъ боемъ.
Аликсъ и дѣвочки — что онѣ могли надѣть спросонья? Только платья, безъ кофтъ, жакетовъ и плащей; ихъ же никуда не везли, имъ просто приказали перейти въ нижнюю комнату, и все.
— Евгеній Сергѣичъ, я не поняла, что сказалъ комендантъ?
— Онъ сказалъ, что всѣмъ намъ надлежитъ сфотографироваться. На всякій случай, ваше величество. Мало ли что.
Отъ этого «мало ли» у нея заалѣли щеки. Царь обернулся и даже въ тускломъ коридорномъ свѣтѣ увидѣлъ эту краску на щекахъ.
Изъ-за плеча сына послалъ женѣ ласковый взглядъ.
Взглядомъ можно погладить и воскресить; а можно и убить.
— Солнце, тебѣ не тяжело?
— Папа, я самъ пойду! — возмущенно и громко сказалъ Алексѣй.
Царь плотнѣе прижалъ къ груди сына.
Они спустились по лѣстницѣ и вышли во дворъ. Тата глубоко вдохнула свѣжій лѣтній воздухъ.
— У меня легкія, навѣрное, стали на тряпки похожи… я хочу плавать, купаться…
— И я!
Анастасія задрала голову и смотрѣла на звѣзды.
Марія смотрѣла въ лицо Ольгѣ. Ольга молчала. Марія поглядѣла на мать. Она шла рядом съ ними, съ матерью и старшей сестрой.
— Какія крупныя звѣзды, — беззвучно сказала Марія. — Какая ночь.
— Эти звѣзды на мигъ, — такъ же неслышно отозвалась Ольга.
Мать шла между ними и молчала. Онѣ обѣ слышали только ея дыханіе. И обѣ, съ разныхъ сторонъ, смотрѣли на ея профиль: тонкій, свѣтлый, намалеванный чьей-то безумно влюбленной кистью на старой доскѣ, истлѣвшей за старымъ шкапомъ, за занавѣсями паутины.
Открылась дверь въ нижній этажъ. Они переступили порогъ.
Царь и цесаревичъ, Тата, Настя, Ольга, царица, Марія. Боткинъ, дѣвица Демидова, поваръ Иванъ Харитоновъ, лакей Труппъ. Всѣ несли въ рукахъ подушечки, любимыя вещицы; подушки — чтобы сѣсть мягче, голые стулья холодятъ задъ и хребетъ, а бездѣлушки — чтобы съ ними навѣкъ сфотографироваться. Марія вошла послѣдней и закрыла за собой дверь.
Не плакали. Не рыдали. А что плакать, наоборотъ, радоваться надо. Сейчасъ будетъ битва. Въ городъ войдутъ свѣтлыя, царскія войска. И Россія вернется. Россія не можетъ умереть. Она не можетъ умереть такъ просто, безславно. Если умирать, то со славой. А комната-то угловая; а говорили, что кладовую опечатали, а на двери не виситъ никакого замка.
Полосатые обои стекали внизъ темными и свѣтлыми ручьями. Подъ потолкомъ горѣла электрическая лампа, внутри нея мигала и опять разгоралась красная тонкая спираль.
Царица оглядѣлась и грустно спросила:
— Что же, все голое? И стульевъ нѣтъ? Развѣ и сѣсть тутъ нельзя?
Юровскій крикнулъ въ коридоръ:
— Эй! Принести два стула!
Стрекотинъ, онъ стоялъ на посту, тутъ же отозвался:
— Есть принести два стула!
Стрекотинъ подошелъ къ кладовой. Засунулъ голову въ дверь.
— Эй вы, кто-нибудь, стулья принесите. Я на посту.
Никулинъ поднялся съ пола. Въ зубахъ у него торчала сухая травинка. Онъ сосредоточенно грызъ ее.
— Я принесу. Сидите всѣ спокойно.
Ляминъ отодвинулся отъ двери, пропуская Никулина.
«До чего онъ спокойный. До чего тутъ всѣ спокойные. Особенно латыши. Я-то что же зубъ на зубъ не попадаю?»
«Да никто тутъ не спокойный. Всѣ просто притворяются спокойными. На самомъ дѣлѣ всѣ трясутся, какъ заячьи хвосты. Сколько ни убивай человѣкъ, убійца передъ новымъ убійствомъ сокрушается. Или это я одинъ такой? У меня тутъ у одного — сердце? А всѣ остальные тогда кто? Машины? Камни? Вотъ Латышъ — онъ камень, да?»
— Кресло, видишь ли, понадобилось царенку. Въ креслѣ хочетъ умереть.
Никулинъ исчезъ.
Ляминъ хотѣлъ плюнуть ему въ спину.
Никулинъ принесъ два стула и внесъ ихъ въ комнату, гдѣ ждали всѣ они.
Зло, со стукомъ поставилъ стулья посреди комнаты.
— Креселъ нѣтъ, ужъ извините.
Марія положила на сидѣнье стула подушечку.
Николай очень осторожно посадилъ сына на стулъ.
Онъ сажалъ его такъ, будто роды принималъ; будто — на руки — новорожденнаго бралъ.
— Удобно тебѣ, сынокъ?
Цесаревичъ обернулъ къ нему блѣдное лицо.
— Удобно, папа.
Распухшее колѣно выпирало подъ брючиной.
Александра Ѳедоровна, подстеливъ подъ себя вышитую думку, сѣла на стулъ рядомъ. Сѣла тяжело, грузно, но тутъ же выпрямилась, подала впередъ гордую грудь, вытянула и выпрямила шею — и сразу сдѣлалась другой, свѣтлой: царицей. А не усталой старой женщиной, разбуженной посреди ночи.
Мѣшки подъ глазами. Вѣчная мигрень. Солнышко, какъ твоя голова? Милый, я все перетерплю, лишь бы ты былъ радостенъ и спокоенъ.
Они всѣ были на удивленіе спокойны.
— Встаньте въ рядъ! — крикнулъ Юровскій.
Они спокойно, плавно, безъ паники и суеты, стали сами себя въ этой подвальной комнатѣ по мѣстамъ разставлять.
По тѣмъ мѣстамъ, которыхъ они не знали, но о которыхъ догадывались въ самый послѣдній мигъ. И вставали тамъ и тогда, гдѣ и когда ихъ эти половицы, эти стѣны и косяки ждали.
Имъ что-то говорилъ комендантъ, куда-то приказывалъ становиться, велѣлъ то, велѣлъ сё, — они слышали и не слышали; они двигались такъ, будто ихъ кто-то великій и сильный водитъ сверху, будто у каждаго подъ мышками продѣта веревка, и за эту веревку тянутъ, — ведутъ, направляютъ.
Въ комнатѣ — арка.
Арка, это красиво и торжественно. На фотографіи все красиво получится.
Царица сѣла на стулъ ближе къ окну.
Три дочери встали за ея спиной.
Царь стоялъ въ центрѣ комнаты. Рядомъ съ нимъ на стулѣ сидѣлъ сынъ.
За стуломъ Алексѣя всталъ докторъ Боткинъ.
Боткинъ, невысокенькій, всегда чуть привставалъ на цыпочки, когда фотографировался въ ателье, чтобы быть выше и выглядѣть значительнѣй.
Дѣвица Демидова застыла у дверного косяка.
Эта дверь вела въ кладовую.
Рядомъ съ Нютой Демидовой встала Анастасія. Она отчего-то нашла и крѣпко пожала холодную Нютину руку.
Въ другой рукѣ Нюта держала подушку.
Когда Анастасія выпустила ея руку, Нюта обняла подушку обѣими руками.
Анастасіи показалось: Демидова хочетъ уткнуться лицомъ въ подушку и разревѣться.
Юровскій стоялъ въ кладовой. Онъ грызъ ногти.
Никулинъ двинулъ его локтемъ въ бокъ.
— Брось, товарищъ. Ты не ребенокъ.
Юровскій обернулся и посмотрѣлъ на Никулина взглядомъ злого ребенка.
— Замолчи.
Замолчали.
Дверь пріоткрыли, и латыши столпились въ проходѣ, щупая, оглядывая револьверы. За громадными, какъ гранитныя плиты, черными кожаными плечами латышей топтался Павелъ Медвѣдевъ.
— Всѣ все помнятъ, кто въ кого стрѣляетъ?
«Провѣряетъ. Страхуется».
— Да всѣ, всѣ.
— Кончай уже эту веревку вить.
— Устали всѣ уже.
— Я будто не усталъ. — Юровскій показалъ зубы, какъ загнанный волкъ. — Цѣльтесь прямо въ сердце, чтобы меньше крови!
— Мы поняли.
Люкинъ глядѣлъ кругло, по-дѣтски, его будто насильно вынули изъ теплой постели и сунули головой въ огонь, въ пожарища.
Ляминъ размалывалъ молчаніе зубами, оно скрипѣло и крошилось.
Юровскій тихо и отчетливо бросилъ въ духоту кладовой, и слова отскочили отъ стѣнъ и зазвенѣли:
— Иду къ нимъ. За мной въ комнату входитъ Никулинъ. Это фотографъ.
— Я фотографъ, — сказалъ Никулинъ и коротко, лающе хохотнулъ.
…Юровскій вошелъ въ полосатую комнату и сказалъ спокойно и вѣско:
— Такъ, хорошо! За царями — ихъ слуги! Хорошо!
Они всѣ молчали. И смотрѣли впередъ.
Ихъ лица были спокойны.
Спокойны? Можетъ-быть, Юровскому такъ казалось?
…Заспанный шоферъ Люхановъ, потирая лобъ кулакомъ, безслышно, осторожнымъ кошачьимъ шагомъ шелъ по двору къ грузовику.
… — Мама, когда же внесутъ фотографическую камеру?
Татьяна спросила это тихо, но голосъ разнесся по тишайшей комнатѣ, оттолкнулся отъ тѣсныхъ угловъ, проползъ паукомъ по обоямъ.
Мать молчала.
Они стояли, и Юровскій обвелъ ихъ всѣхъ проницающимъ потроха взглядомъ; а можетъ, глазами слѣпыми и деревянными.
Онъ самъ не зналъ, видитъ онъ или не видитъ ихъ лица, фигуры, юбки, гимнастерки; ему все чудилось, и видѣніе тутъ же становилось громаднымъ, грубымъ настоящимъ.
— Фотографическій аппаратъ, — прошепталъ наслѣдникъ, — у насъ они его украли.
Этотъ шопотъ слышалъ только онъ самъ. Больше никто.
Отецъ видѣлъ, какъ шевелятся губы мальчика.
…Ляминъ стоялъ за Медвѣдевымъ. Хрипло, воспаленной гортанью дышалъ Кабановъ.
Сашка Люкинъ такъ зажалъ въ рукѣ наганъ, что костяшки пальцевъ стали синія.
Латыши шагнули вонъ изъ кладовой.
За ними изъ коридора пошелъ постовой Стрекотинъ.
Сапоги не стучали — издавали шорохъ, будто по половицамъ ползли черви.
«Змѣи. Вотъ онѣ, змѣи-то. Это — мы».
Онъ разгадалъ свой сонъ про гостиницу и сговоръ. Поздно.
«Это былъ не сонъ. И вотъ это — тоже не сонъ».
«А вдругъ сонъ! А вдругъ!»
«Ты этого уже никогда не узнаешь. Жизнь, можетъ, это тоже сонъ».
Двустворчатыя двери комнаты распахнулись.
Для одной двери слишкомъ много народу.
Всѣмъ въ дверяхъ не умѣститься.
Кто-то будетъ стрѣлять впереди. Кто-то — сзади.
«Я сзади. Въ кого бы изъ нашихъ не попасть ненарокомъ».
Ужасъ внезапно провалился въ подполъ. Остался одинъ холодъ, и ледяныя четкія мысли въ немъ.
Ермаковъ рѣзанулъ воздухъ двумя словами:
— Я сейчасъ.
…Онъ, патлатый болѣе обычнаго, уже настоящій ужасъ наводящій полоумной рожей, подбѣжалъ во дворѣ къ грузовику и закричалъ шоферу:
— Давай!
Люхановъ включилъ моторъ, онъ загудѣлъ неистово, оглушительно.
##
Юровскій обернулся черезъ плечо.
Крикнулъ:
— Входи!
А они всѣ уже и такъ вошли.
«Латыши первые. Зачѣмъ латыши? И этотъ, плюгавый, вонъ онъ, въ первыхъ рядахъ».
Онъ видѣлъ его затылокъ. Его плохо выбритую шею подъ черной фуражкой. Сивые волосы торчали, какъ жесткая конская грива.
— Моторъ какъ тарахтитъ, — пробормоталъ Сашка.
Латыши стоятъ въ комнатѣ. Никулинъ, Медвѣдевъ и Кудринъ — въ дверяхъ.
За ними — Ляминъ и Люкинъ.
Впередъ протолкался Ермаковъ. У него было глиняное лицо.
Всталъ рядомъ съ Юровскимъ. Вплотную.
Ермаковъ ощущалъ, какъ Юровскій дрожитъ. Очень мелко, будто стоитъ въ трюмѣ корабля, а вокругъ вибрируютъ машины: ходятъ рычаги, крутятся колеса и шестерни.
Машина работаетъ, грохочетъ, лязгаетъ, колеса вращаются, шестерни зацѣпляютъ зубьями плотный, промасленный воздухъ, черную гарь. Лязгъ и вздрогъ. Лязгъ и стукъ. Лязгъ и вопль.
Желѣзо бьетъ о желѣзо, машина работаетъ, она запущена, и ее не остановить.
Наганъ въ рукѣ Лямина превратился въ мертвый сгустокъ. Онъ состоялъ не изъ стали. Изъ косной, навѣкъ умершей матеріи, имени которой на землѣ не слыхали.
…Ляминъ едва дышалъ. А ему казалось, онъ дышитъ хрипло, громко, оглушительно, на весь подвалъ слыхать, на весь домъ, — онъ ловилъ ртомъ воздухъ и все никакъ не могъ поймать, воздухъ утекалъ и ускользалъ у него изъ ноздрей, изъ губъ, у него голова перестала рождать мысли, а вмѣсто головы что-то такое тяжелое, горячее, черное стало думать внутри него: можетъ, это было голодное чрево, а можетъ, сердце или то, что еще осталось, застряло у него межъ реберъ вмѣсто сердца, — онъ не зналъ. Это черное и тяжелое, и пылающее головней, этотъ странный чернокрасный, горячій сгустокъ думалъ вспышками боли, и эти вспышки странно слагались въ отрывочныя, разорванныя, оторванныя отъ прежней жизни слова.
Боль. Скоро. Подлые. Нѣтъ. Пуля. Прежде. Уйти. Убѣжать. Убить. Кого? Здѣсь. Вездѣ. Всегда. Зачѣмъ? Надо. Горько. Ложь. Правда. Будетъ? Было! Есть. Да. Нѣтъ!
Нутро взорвалось и закричало: нѣтъ! — и Ляминъ чуть приподнялъ надъ ногой наганъ, стволъ его былъ какъ живой, онъ вертѣлся самъ по себѣ и вздрагивалъ самъ, Ляминъ обернулся, и навстрѣчу ему изъ тьмы полетѣло странно яркое, красно горящее, и вмѣстѣ съ тѣмъ черное, угольное, лицо Юровскаго.
Дыханья двѣнадцати смѣшались.
Людская машина работала не хуже желѣзной.
Жила, дышала, двигалась.
Шестерни и рычаги. Руки и головы. И ноги, ноги.
Въ сапогахъ.
Юровскій шагнулъ впередъ.
Правая его рука уткнулась и утонула въ карманѣ брюкъ. Въ лѣвой онъ держалъ бумагу.
Бумага мелко дрожала.
Ляминъ услышалъ скрипъ половицы подъ его сапогомъ.
«Будто чайка надъ рѣкой прокричала».
— Ввиду того, что ваши родственники продолжаютъ наступленіе на Совѣтскую Россію, Уралсовѣтъ постановилъ васъ разстрѣлять!
Николай стоялъ лицомъ къ этимъ вошедшимъ въ комнату, черно-кожанымъ людямъ.
Онъ даже не успѣлъ разсмотрѣть и осознать, что у нихъ въ рукахъ — револьверы.
Зато Александра разсмотрѣла.
И — не дрогнула ни лицевой мышцей, ни кожей, ни пальцами. Дышать чаще не стала.
Только сердце, голубь, взлетѣло и ухнуло куда-то въ синюю жаркую бездну.
…это Ной выпустилъ изъ ковчега голубя на землю.
…повернулся къ чекистамъ спиной. Глядѣлъ на всю семью свою, любимую.
…глаза Ольги, честные, печальные.
…затылокъ сына. Какъ спокойно мальчикъ сидитъ! Не шелохнется.
…Тата, руки въ кулаки сжала. Дѣтка! Держись!
…Настя напугана. Кажется, она поняла.
…my Sunny, а ты?
…глаза Маши. Машка! Вотъ и все.
…Юровскій, читая эти слова, а онъ ихъ всѣ уже выучилъ наизусть, не дрогнулъ ни умомъ, ни душой, ни тѣломъ, ничѣмъ; онъ здѣсь, въ подвалѣ, былъ странно замороженъ — будто мороженая рыба, будто твердое бревно огромнаго осетра зимой, у проруби, убитаго багромъ по головѣ осетра. И вотъ этотъ мерзлый осетръ внезапно воскресъ, и умѣетъ читать, и потѣшно стоитъ стоймя, и держитъ въ плавникахъ важную бумагу, и читаетъ по бумагѣ, шевеля круглымъ усатымъ ртомъ, приговоръ этимъ людямъ — отжившимъ свое, отплясавшимъ свое на золотыхъ балахъ, никчемнымъ людямъ. Да хватитъ, одергивалъ онъ себя, читая приговоръ, да люди ли они? это они — люди? это онъ — человѣкъ, проклятый царь, уничтожившій столько народу въ своихъ войнахъ, на висѣлицахъ и въ застѣнкахъ, это она-то — человѣкъ, гадкая царица, она путалась съ Распутинымъ, путалась съ кѣмъ угодно, она продавала и предавала, и это ей — на свѣтѣ жить? нѣтъ, ей — не надо, ей на свѣтѣ, этакой гадинѣ, жить — запрещено! И читалъ дальше, и дочиталъ до конца, а когда настала тишина, онъ почему-то подумалъ про цесаревенъ: и эти, эти — тоже нелюди, жрали и пили съ золота, дрыхли на серебрѣ, выдали бы ихъ замужъ за иноземныхъ царей-королей, и онѣ такъ же, какъ всѣ ея предки, мордовали бы, истязали, изводили, убивали народъ. Свой? Чужой? Все равно. Все равно? Нѣтъ, этого нельзя. Этого нельзя, шепталъ онъ самъ себѣ, нельзя никогда этого допустить, мы лучше убьемъ ихъ всѣхъ здѣсь и сейчасъ, здѣсь и сейчасъ. И дѣлу конецъ. Ай, молодецъ. Это я молодецъ.
Часы тикали въ тишинѣ. Серьги съ поддѣльными алмазами и броши съ поддѣльными сапфирами сверкали въ тишинѣ. Коричневыя, какъ крѣпко заваренный чай, фотографіи съ виньетками красовались въ витринѣ ателье въ тишинѣ. Лѣкарство капало въ мензурку въ тишинѣ. Хирургическіе скальпели блестѣли въ тишинѣ. Страницы великихъ книгъ про революцію, кровь и слезы шуршали въ тишинѣ. Патроны падали въ магазинъ маузера въ тишинѣ.
Вся его жизнь прошла въ тишинѣ, а вотъ теперь можно и погрохотать.
Онъ слушалъ тишину и радовался: они, гады, услышали, они все поняли. Они готовятся.
Онъ сталъ искать глазами лицо царя, а когда нашелъ, сталъ искать его глаза, — и нашелъ глаза, и воткнулъ въ нихъ свои глаза, нѣтъ, онъ не пытался его испугать или пригвоздить глазами, сейчасъ это за него успѣшно и быстро сдѣлаютъ пули, — онъ просто хотѣлъ поглядѣть глубоко, очень глубоко въ глаза человѣку, котораго онъ сейчасъ убьетъ, вотъ сейчасъ, сей моментъ, а этотъ человѣкъ былъ самымъ первымъ человѣкомъ въ Россіи и однимъ изъ первыхъ въ мірѣ — еще вчера.
Аликсъ головы не повернула. Смотрѣла впередъ, прямо передъ собой.
Повернулся сынъ.
Онъ повернулся всѣмъ корпусомъ на этомъ неудобномъ, жесткомъ стулѣ и поглядѣлъ на отца.
Отцу въ лицо. Въ глаза.
Ловилъ его глаза.
И не поймалъ. Царь сдѣлалъ шагъ назадъ и опять всталъ лицомъ къ Юровскому, латышамъ и солдатамъ.
Голосъ вылетѣлъ изъ него птицей, птица ударилась грудью сначала объ одну стѣну, потомъ о другую, потомъ о потолокъ.
— Что? Что?!
Лицо Ермакова перекосилось.
— Читай еще разъ. Внятно! Не услыхали!
Юровскій приблизилъ къ лицу бумагу. Онъ наизусть зналъ написанное тамъ.
Онъ хотѣлъ заслонить этой бумагой лицо, потому что лицо вдругъ стало страшнымъ, и онъ зналъ, что оно — страшно. И хотѣлъ его закрыть, спрятать, чтобы не видѣли и не ужасались другіе.
Пока еще живые.
— Ваша родня продолжаетъ наступать на молодую Совѣтскую республику! И Уралисполкомъ! Постановилъ! Разстрѣлять… васъ!
Царь развелъ руками и опять повернулся къ семьѣ.
— Какъ? Зачѣмъ?!
Кажется, это крикнула Нюта Демидова.
Цесаревичъ не кричалъ. Но крѣпче сжалъ губы. Но весь странно потянулся, вытянулся, будто хотѣлъ встать и не могъ. А можетъ, онъ и вправду не могъ.
— Не вѣрю!
Это крикнула Тата.
— Боже… я такъ и зналъ…
Докторъ Боткинъ.
— Папа!
Настя.
— Не можетъ быть.
Ольга.
— Мама, родная… это неправда…
Маша.
Аликсъ подняла къ нему лицо.
Онъ увидѣлъ ея глаза.
У нихъ обоихъ были глаза похожи: у нея водяные, рѣчные и безъ дна, и у него тоже.
Юровскій обернулся къ стрѣлкамъ и крикнулъ задушенно:
— Готовься!
…Царь глядѣлъ въ лицо Юровскому, и онъ не узнавалъ это лицо, напротивъ него стоялъ не человѣкъ, а странная, дикая, чернокрасная масса, красный ротъ двигался, черная куртка дергалась и шевелилась, и царь подумалъ страшно и быстро: вотъ и все, — но человѣческое тѣсто напротивъ вздувалось и вспучивалось, и онъ еще успѣвалъ думать сразу обо всемъ, обо всей своей жизни, обо всѣхъ родныхъ и любимыхъ, обо всей странѣ, обо всей землѣ, онъ обнималъ все это послѣдней смертной думой — и хотѣлъ молиться, но вмѣсто этого самъ обратился въ молитву; онъ сталъ молитвой, сталъ словами, что тысячу, сотни тысячъ и безсчетно разъ повторяли людскія губы, ими, этими словами, безсильно плакали людскія сердца, и такъ хорошо ему было быть молитвой, такъ сладко и чисто, по-настоящему чисто и правильно, праведно, — и онъ еще успѣвалъ поблагодарить за это чудо, но кого, теперь ужъ онъ не зналъ, потому что въ немъ, въ молитвѣ, которою онъ сталъ, такихъ словъ не было; и онъ молитвой висъ въ воздухѣ, растворялся, текъ, истаивалъ, застывалъ прежде горячимъ, а теперь зимнимъ свѣчнымъ воскомъ.
И онъ, вѣрнѣе, то, чѣмъ онъ сталъ сейчасъ, молитва, — онъ достигъ, пламенѣя и застывая, рта, губъ жены, достигъ ея яремной теплой ямки и натѣльнаго креста въ ней; и она шептала молитву, шептала безсвязно, торопливо, и горячей слезной молитвой, самимъ собой, всѣмъ собою, онъ цѣловалъ напослѣдокъ эти любимыя, морщинистыя губы.
— Господи!
Царь сжалъ кулаки.
Александра подняла руку. Она хотѣла коснуться руки царя, но не коснулась.
Улетала, плакала голубка.
— Прости имъ, ибо…
По глазамъ цесаревича словно ударила молнія, и онъ зажмурился.
— Не вѣдаютъ, что творятъ…
Юровскій вырвалъ кольтъ изъ кобуры. Вскинулъ руку и прицѣлился въ царя.
Пуля ушла сразу.
Царь слишкомъ близко стоялъ. Не попасть было бы смѣшно.
Царь пошатнулся и сталъ падать.
«Какъ все просто. Боже! Какъ же все просто у Тебя!»
Всѣ стали стрѣлять. Въ комнатѣ раздался грохотъ, и она стала заволакиваться сизымъ дымомъ.
Ермаковъ сдѣлалъ къ царю огромный шагъ. Его ротъ превратился въ пасть, и она, кривая и косая, неожиданно заняла все лицо; поглядѣть — такъ смѣется человѣкъ взахлебъ.
Ермаковъ тоже выстрѣлилъ въ царя. Въ упор. Когда онъ уже падалъ.
За сутулымъ плечомъ кособокаго Ермакова стоялъ Михаилъ Кудринъ.
И онъ тоже выпускалъ пули въ царя. Изъ стараго браунинга. Одну, вторую.
Царь лежалъ на полу. Изъ его ранъ текла кровь.
Ляминъ понялъ: они тутъ всѣ, всѣ до единаго, сперва стрѣляли въ царя.
Такъ много ранъ. Много крови.
«Юровскій же просилъ, приказывалъ: чтобы крови не было!»
Приказъ не исполненъ. Всѣ стрѣлки палили въ одного человѣка.
…можетъ-быть, и хорошо; сразу умеръ; счастье ему.
…и царица повторяла, все повторяла слова молитвы, и забывала ихъ, и ужасалась этому; она внезапно все забыла, и себя маленькую, въ пеленкахъ и распашонкахъ, и себя — невѣсту, и себя — въ родахъ, и себя — съ лицомъ въ морщинахъ, съ опухшими до колѣнъ ногами — въ этомъ тряскомъ возкѣ, ѣдущемъ по ледяной весенней Сибири; она помнила только одно — дѣти тутъ, Бэби тутъ, и развѣ это возможно, чтобы ихъ убили? Нѣтъ! Это же никакъ невозможно! Этого не можетъ быть никогда! Это кто-то страшный, черный, красный, криволицый, придумалъ, и напрасно онъ наводитъ наганъ, и зачѣмъ эти ружья, эти штыки, это и не штыки вовсе, а елочныя игрушки блестятъ; опять вернулось Рождество, опять Новый годъ, но какое же это отмѣчаютъ новолѣтіе? — она уже не знаетъ, она забыла; и она разлѣпила губы, чтобы сказать мужу: родной, я забыла все, все, помоги мнѣ все вспомнить! — и случайно, быстро опустила глаза внизъ, и увидѣла царя, смиренно лежащаго на полу безъ движенья; и она повела глазами вбокъ и увидѣла сына — онъ лежалъ рядомъ съ недвижнымъ отцомъ, но онъ двигался, онъ шевелился, о счастье, онъ былъ живъ! Живъ!
Мой Бэби живъ! мой Бэби живъ! мой Бэби живъ! — кричала она молча, взахлебъ, сама себѣ, беззвучно, безъ глотки и рта, — и ея сынъ услышалъ ее, а можетъ, и увидѣлъ — высоко надъ собой, крупную, страшную, тяжелую, большую, охотникомъ подбитую птицу, — не мать, не царицу, а древнюю, источенную вѣтрами гору, — уже такую далекую, что не добросить снѣжкомъ, не достать слабой, въ синякахъ, больною рукой.
…царица хотѣла наложить на себя крестъ, рука поднялась. Опять взмыла!
Пуля опередила знаменіе.
Ольга тоже хотѣла перекреститься. И не успѣла тоже.
Кто выстрѣлилъ въ Ольгу? Никулинъ?
Кто выстрѣлилъ въ царицу? Юровскій? А можетъ, Ермаковъ?
У Юровскаго на поясѣ висѣли двѣ кобуры.
«Два револьвера, второй выхватилъ и палитъ».
Одинъ у него кольтъ, другой Ляминъ не помнилъ, какой; вродѣ не револьверъ, а пистолетъ, маузеръ.
Мишка видѣлъ, какъ сначала побѣлѣло досиня, потомъ высвѣтилось изнутри запрокинутое лицо старухи. Какъ быстро она умирала! Все. Умерла. Грудь не поднималась. Не дышитъ.
Павелъ Медвѣдевъ подшагнулъ ближе, вотъ уже вошелъ въ комнату изъ дверного проема.
Всѣ они палили вразъ. Вразнобой. Косо, криво. Пули все равно прямо летятъ.
Палили. Палили теперь уже мощно, зло, какъ придется.
Чѣмъ гуще, тѣмъ лучше. Яростнѣе.
Скорѣй бы. Скорѣй убить. Чтобы эти глаза на тебя не смотрѣли.
Мигъ одинъ — а запомнится на всю жизнь. Эти глаза дѣвушекъ. И какъ онѣ глядятъ на тебя, и какъ ты стрѣляешь имъ въ лицо.
…вотъ этихъ глазъ боялись тѣ, кто положилъ револьверы на полъ къ сапогамъ Юровскаго.
…что Юровскій сдѣлаетъ потомъ съ ними, съ тѣми, кто отказался? Убьетъ?
…да ихъ уже убили, голову на отсѣченіе. Они и до постовъ своихъ не дошли. И на улицѣ не покурили.
…да кому они нужны. Кому мы всѣ нужны.
Ихъ было тутъ три ряда разстрѣльщиковъ.
Сначала стоялъ первый рядъ. Ермаковъ. Юровскій. Никулинъ. Медвѣдевъ. Латышъ плюгавый.
За ними — еще латыши, Кабановъ.
За ними — Ляминъ, Люкинъ и Кудринъ.
Руки. Руки, держащія револьверы. Руки стрѣляютъ, револьверы содрогаются. Руки обжигаетъ выстрѣлъ того, кто стоитъ сзади. Руки въ ожогахъ, пули уходятъ и уходятъ.
Комната маленькая. Одиннадцать человѣкъ въ ней, и ихъ разстрѣливаютъ, палачи близко отъ жертвъ, жертвы глядятъ въ лица палачамъ. Не спрячешься.
Руки черными живыми палками высовываются изъ двустворчатой двери.
Изъ рукъ — въ живыхъ — летитъ смерть, и живые становятся мертвыми.
Не сразу.
Грохотъ выстрѣловъ. Частоколъ рукъ и оружія.
Это казнь, и она проста и страшна.
Такъ надо.
«Такъ надо, вѣдь мы боремся за наше свѣтлое, свѣтлое будущее! За коммунизмъ!»
Медвѣдевъ палилъ и держался рукой за шею. Отнялъ руку отъ шеи.
Ляминъ увидѣлъ у него на шеѣ красное пятно.
«Ожогъ. Хорошо, что самого не стрѣльнули».
Пули отскакивали отъ тѣлъ и разсыпались по комнатѣ. Прыгали, какъ градины въ грозу.
…цесаревичъ глядѣлъ на міръ снизу вверхъ, и міръ ему казался теперь очень большимъ, странно большимъ, все было увеличено во много разъ, и еще раздувалось, пухло, росло на глазахъ; лица людей походили на воздушные шары, и надувались еще и еще, вотъ-вотъ лопнутъ, волосы ихъ вились змѣями и червями, въ рукахъ эти огромные дикіе люди держали узкіе, длинные сколы льда, и эти сколы остро, снѣжно блестѣли во тьмѣ, а тьма все густѣла, и комната становилась не комнатой, а громаднымъ сундукомъ, и внутри сундука были не только они всѣ, но и драгоцѣнности всего міра, что его сестры такъ старательно зашивали въ рубахи и корсеты; и мальчикъ хотѣлъ протянуть руки, поднять ихъ надъ головой и упереться ладонями въ крышку сундука, чтобы открыть ее, чтобы впустить воздухъ въ эту тьму и духоту, и чтобы они всѣ немедленно вылѣзли изъ этого страшнаго дымнаго ящика, поглядѣли другъ на друга и разсмѣялись: что это такое съ нами было! что это случилось! ты знаешь, darling? а ты? а ты? а ты?
И — никто не зналъ, никто бы ему не отвѣтилъ, и онъ это вдругъ понялъ — и стало все горько, горько стало во рту и горько въ желудкѣ, и горько въ головѣ, и горько вокругъ него, въ самомъ воздухѣ; трудно было дышать горечью, но онъ все-таки дышалъ, а потомъ въ горечь ворвалась невыносимая боль, и онъ хотѣлъ вытолкнуть изъ себя боль и горечь въ одномъ сильномъ крикѣ, но не могъ. Онъ даже не смогъ набрать въ грудь воздуху, чтобы закричать.
Скосилъ глаза, и рядомъ со щекой своей увидѣлъ чью-то ногу въ бѣломъ башмачкѣ и окровавленномъ бѣломъ чулкѣ, и понялъ — это сестра, но кто? Настя? Тата? Оля? Маша?
Машка, это Машка, это твой туфелекъ, я узналъ, лепеталъ онъ уже не губами, а болью, онъ весь превратился въ боль, онъ пересталъ быть, а боль — была, и нога Маріи рядомъ, въ этомъ бѣломъ чулкѣ въ красныхъ пятнахъ и бѣломъ узкомъ башмакѣ, тоже — была.
…мальчикъ лежалъ на полу. Онъ шевелилъ головой и рукой.
Онъ былъ живъ.
Что онъ говорилъ?
«Боже! Онъ что-то говоритъ. Онъ живой! Черти! Пристрѣлите! Застрѣлите его!»
Нюта Демидова истошно кричала.
Въ нее стрѣляли, а она защищала грудь, голову и животъ подушкой; и пули застревали въ подушкѣ, и попадали въ нее, и она вопила и визжала и обливалась кровью, и все равно выставляла впередъ эту подушку, послѣднюю надежду, щитъ послѣдній.
Почему такъ скачутъ, какъ полоумныя, пули?!
— Ай! Яй! Спасите! Люди! Люди!
«Мы не люди, мы кто-то другіе».
Думалъ о нихъ, о себѣ холодно, желѣзно.
Повернулъ голову, глаза бѣгали, плыли и путались зрачками въ сизомъ, какъ табачномъ, дыму — и увидѣлъ Марію.
Жива. Она еще жива.
Она стоитъ у стѣны. Раскинула руки.
Будто собой, тѣломъ защищаетъ — то, что за стѣной.
А что за стѣной? Пустота?
«Она представитель стараго міра! Чудовище! Она дочь чудовища!»
«Это ты чудовище. Ты чудовище самъ».
Марія смотритъ на свою лежащую на полу мертвую мать, и ея ротъ пріоткрытъ. Она не понимаетъ, все еще не понимаетъ, что съ ней и что со всѣми ними; она хрипло дышитъ, у нея прострѣлены легкія, можетъ, навылетъ, пули застряли въ ея нѣжномъ тѣлѣ, и то, что онъ такъ звалъ и вожделѣлъ, оказалось просто мясомъ, просто — мышцами, кожей и хрящами, и костями, и сукровицей.
«Кровь. У нея вовсе не голубая кровь. Она не цесаревна!»
«У нихъ у всѣхъ кровь красная. Какъ у всѣхъ людей».
— Спасите! На помощь!
Это кричитъ она? Кого она зоветъ?
«Боже! Она зоветъ меня!»
…Марія стала огромной дырой въ ветхой, въ тонкокрылой ткани, и ткань расползалась, дыра становилась все больше, все огромнѣй, смотрѣла непроглядной чернотой, и чернота эта была она, Марія, и ветхіе края старой ткани была тоже она; а потомъ оказалось такъ, что эта черная огромная дыра на самомъ дѣлѣ была ея ротъ, криво распяленный, раззявленный въ утробномъ, неистовомъ, какъ въ родахъ, крикѣ, что-то рождалось, выходило изъ нея, навѣрное, душа, а можетъ, она сама уходила, проваливалась въ эту дыру, и сама чернымъ орущимъ ртомъ смѣялась надъ собой, и ревѣла, и рвалась, все рвалась и разлѣзалась, трещала по швамъ и расходилась въ стороны.
И дыра, вѣрнѣе, то, чѣмъ стала она сама, крикнуло: на помощь! помогите! — но никто не бѣжалъ на помощь, и не шелъ, и не ползъ, а только ползли по полу чьи-то красныя руки, цѣплялись за половицы, крючились, волоклись въ дыму, пытаясь встать, чьи-то ноги, всѣ въ красномъ, мокромъ, липкомъ; и тотъ оръ, тотъ крикъ, переставшій быть великой княжной Маріей Николаевной, дѣвочкой Машкой, — синіе глаза, дулевскія чайныя блюдца, крѣпкія, широкія и теплыя руки и плечи, богатырша и хохотушка, озорная полковница Девятаго драгунскаго Казанскаго полка, — оборвался на высокой нотѣ, и все, что было жизнью, что дрожало наяву и являлось во снѣ, медленно повернулось задомъ, и задъ этотъ былъ голый, уродливый, страшный, адскій, затянутый дымомъ и руганью, занавѣшенный звономъ пуль и трескомъ затворовъ, и задъ этотъ, позорный и похабный, истертый задникъ жизни, былъ самой настоящей смертью, — и чернѣлъ на глазахъ, быстро и безпощадно превращаясь въ уголь, въ золу, въ ничто.
И вмѣсто сатанинскаго зада вдругъ явилось лицо; и лицо это было плюгавое, блѣдное, русое мочало волосъ свисало съ висковъ, ротъ щерился, лисій носъ нюхалъ дымный, пороховой воздухъ, ротъ шевелился во тьмѣ, — лицо глядѣло въ черную дыру, и лицо выражало открытую, на вѣтру горящую ненависть, довольство, будто кусокъ вкуснаго горячаго пирога зубы откусили, и рѣшеніе додѣлать поганое, но вѣрное дѣло до конца.
…растолкать всѣхъ. Разбросать и заднихъ, и переднихъ. Выбѣжать передъ всѣми.
Подбѣжать къ стѣнѣ.
…ее — на руки. Ногой разбить стекло окна.
Выскочить: земля рядомъ.
Земля. Воздухъ. Ночь.
…давай. Впередъ. Она еще жива.
Ольга сползла спиной по стѣнѣ. Держала въ рукахъ подушку. По рукамъ текла кровь.
Ольга смотрѣла на свою кровь, и глаза ея останавливались.
Медленно, тускло, — такъ гаснетъ керосиновая лампа, когда прикручиваютъ фитиль.
— Мама… мама…
Цесаревичъ лежалъ рядомъ съ отцомъ и съ матерью. Онъ опять пошевелился.
Стрѣлки палили. Пули рикошетили.
Русскіе бойцы исходили хриплыми матюгами. Латыши стрѣляли молча.
…докторъ Боткинъ лежалъ ничкомъ. Голову повернулъ и лежалъ на щекѣ, будто — на диванѣ прикорнулъ.
Лакей Труппъ мертвъ. Поваръ Харитоновъ мертвъ.
Лежатъ, задравъ подбородки; въ потолокъ мертвыми глазами глядятъ, какъ въ небо.
Какъ оретъ дѣвица Демидова! Не смолкая!
Пули летаютъ отъ стѣны къ стѣнѣ. Надъ головами. Пули живыя. А люди мертвые.
Демидова испустила дикій визгъ и метнулась отъ стѣны къ стѣнѣ. Какъ пуля.
Ударилась всѣмъ тѣломъ о стѣну. Рухнула. Въ поднятыхъ рукахъ — подушка.
«Она этой подушкой отъ смерти не заслонится!»
Въ подушку палили пули. Вонзались въ нее.
И подушка ожила. Стала живой плотью.
Подушка стала человѣкомъ, а человѣкъ превратился въ орущую подушку.
Это подушка летала по комнатѣ, и въ ней застревала мѣдная смерть.
Стрѣлки ополоумѣли. Они перезаряжали револьверы и палили опять.
Дымъ. Всюду дымъ. Все дымъ.
…дымъ… Ѣдкій… Ожоги…
— Еще заряди! Почему они живы?!
— Чертовщина! Еще! Еще давай! Въ эту!
Татьяна сидѣла на корточкахъ рядомъ съ Ольгой. Около стѣны.
Она плакала и кричала.
Одна изъ пущенныхъ латышами пуль попала въ Татьяну, ей прямо въ грудь.
И — не свалила ее. Отскочила и полетѣла. И ударилась о стѣну, и отскочила снова.
— Цумъ тойфель, — бѣлымъ ртомъ вылѣпилъ Юровскій.
Запахъ пороха разъѣдалъ ноздри. Въ дыму ошалѣло качалась подъ потолкомъ еле видная электрическая лампочка.
Мать умерла. Отецъ умеръ.
Сынъ здѣсь. Онъ еще не умеръ. Не убитъ.
Онъ раненъ. Тянетъ руку.
Рукой — отъ пуль — защищается.
«Зачѣмъ онъ все еще живъ?!»
Ляминъ съ ужасомъ понялъ: патроны въ его обоймѣ закончились.
«Перезарядить? Не буду. Гори все синимъ пламенемъ!»
Никулинъ стоялъ около мальчика. Мальчикъ поворачивалъ голову. Лежалъ на спинѣ и вертѣлъ головой. И стоналъ. И кусалъ губы. И опять что-то говорилъ.
«Что онъ говоритъ? Боже!»
Ляминъ звалъ Бога къ себѣ, не думая и не понимая, кого зоветъ.
А когда понялъ — содрогнулся.
…Плюгавый Латышъ стрѣлялъ хорошо. Но дымъ, этотъ чортовъ дымъ, онъ заслонялъ все. Онъ заползалъ подъ вѣки, разъѣдалъ ноздри, заволакивалъ весь бочонокъ подвальной лютой комнаты бѣлымъ, сизымъ тюлемъ, заливалъ молокомъ. Латышъ облизнулся. Молочка бы теперь. Какого молочка, оборвалъ онъ себя, работай, работай, стрѣляй! Онъ работалъ не на дрянную русскую революцію — работалъ на себя: онъ слишкомъ ненавидѣлъ эту чужую, огромную, мощную землю, подъ бокомъ у которой, подъ громаднымъ ея, богатымъ и теплымъ брюхомъ, притулилась его крохотная жалкая Курляндія; и онъ долженъ былъ однажды обнаружить, обнародовать эту тяжелую, чугунную ненависть, скинуть ее съ плечъ, — а заодно и подработать, заработать чужихъ денегъ, подоить немного эту чужую кошмарную революцію, какъ чужую, на поле забредшую корову. Подоить, а потомъ зарѣзать; раздѣлать и супъ сварить. Супъ — не получится! Жаль! Слишкомъ велика Россія для тебя, плюгавый. Значитъ, сцѣпи зубы. Просто уничтожай. Убивай. Работай! Пали! Тамъ, гдѣ пули не достанутъ, — работай штыкомъ, прикладомъ! Революція грязное дѣло; это война, война всегда грязна, какъ ее ни обѣляй, какъ ни кричи про ея героевъ. Нѣтъ никакихъ героевъ. Есть деньги. Есть чужая ненавистная земля. Есть работа: нынче, сейчасъ разстрѣлять эту гадость. Эту царскую мразь.
Латышъ услышалъ за собой крикъ и, продолжая стрѣлять, покосился. Кричалъ Ермаковъ. Въ дыму и чужихъ бѣшеныхъ крикахъ, въ плачѣ и вопляхъ казнимыхъ онъ не понималъ и половины русскихъ, чужихъ, тошнотворныхъ словъ.
Никулинъ стоялъ надъ Алексѣемъ. По лицу Никулина гулялъ ужасъ.
Наслѣдникъ все еще живъ. Непонятно. Отвратительно. Кровь все еще бродитъ по его худому тѣлу; и у Никулина сама, сама стрѣляетъ рука.
А эта, тонкая рука подростка снова защищаетъ — лицо, глаза, лобъ. Душу.
Душа. Вотъ оно. Душа! Можетъ, такая живучая именно душа?
И, можетъ, есть и богъ и всѣ его святые, и они надъ ними всѣми смѣялись, а они — вотъ они, тутъ?
Никулинъ безполезно палилъ въ мальчика.
Царица и царь лежали въ лужахъ крови.
Дѣвочки въ крови — сидѣли, ползли.
Демидова орала.
Латышъ прицѣлился въ нее. Выругался.
Лицо Никулина обратилось въ желѣзный крестъ: брови — перекладина, носъ — столбъ.
Юровскій шагнулъ къ нему въ дыму и глухо, невнятно бросилъ:
— Отойди. Мясникъ.
Фигура Юровскаго высовывалась, торчала изъ дыма чернымъ огороднымъ пугаломъ.
Лицо дымомъ заволокло. Надъ фуражкой дымъ вился. Вездѣ, всюду, и сверху и снизу — дымъ.
И самъ Юровскій сотканъ изъ дыма; все сонъ, и сейчасъ развѣется.
Окна! Окна откройте!
Юровскій сдѣлалъ еще шагъ и оказался надъ лицомъ лежащаго мальчика.
Поднялъ руку съ кольтомъ и выпустилъ двѣ пули ему въ ухо.
Изъ угла рта цесаревича поползла струя крови. Кровь потекла и изъ уха по щекѣ, затекла за шею, разливалась алымъ озеромъ. Вокругъ затылка, вокругъ головы всей.
«Красный нимбъ. Нимбъ — красный!»
Мальчикъ лежалъ навзничь. Голова въ красномъ кругѣ.
Не двигался. И больше ничего не говорилъ.
Ляминъ напрасно искалъ глазами глаза Маріи.
И ее самое не видалъ въ дыму.
…вотъ она! На корточкахъ сидитъ; около стѣны; и Настя съ ней.
Головы — руками закрыли.
Нюта Демидова визгнула въ послѣдній разъ и повалилась передъ княжнами, все такъ же крѣпко прижимая къ груди подушку, живую, послѣднюю, теплую, милую.
Валялась на полу и дергалась. Жила.
Къ цесаревнамъ подскочили Кудринъ, Медвѣдевъ и Люкинъ.
На искаженномъ, исковерканномъ отчаяньемъ, дымомъ и истерикой лицѣ Сашки Люкина читалось еще и ужасающее любопытство: а почему эти чортовы дѣвчонки такъ долго не гибнутъ?
— Жалѣзныя, што ли!
Кудринъ и Медвѣдевъ палили въ княжонъ. Люкинъ вздернулъ руку и выстрѣлилъ тоже. Рука сама повелась вбокъ и вверхъ, и онъ попалъ въ подоконникъ.
— Мазила! — яростно крикнулъ, обернувшись, Медвѣдевъ.
Вбѣжалъ Кабановъ и заоралъ, присѣдая, перекрывая грохотъ выстрѣловъ:
— Прекратить стрѣлять! Живыхъ — заколоть штыками!
«Почему Кабановъ оретъ приказъ? Почему не Юровскій?»
«А какая разница! Все равно!»
Демидова и лежа на полу закрыла лицо подушкой. Подушка медленно сползала съ лица, и обнажался ротъ Демидовой, застывающій въ вѣчномъ, невыносимомъ воплѣ.
— Доколи! — какъ звѣрь, крикнулъ Ермаковъ, оборачиваясь къ Лямину.
Мишка поднялъ винтовку и занесъ штыкъ надъ дѣвицей Демидовой.
…ему казалось — онъ размахнулся хорошо. И рука у него вродѣ сильная.
И винтовка у него американская, винчестеръ.
Все вродѣ путемъ.
Штыкъ, это же огромный ножъ. Остріе вошло въ плоть. Плоть подалась и хрустнула.
Брызнула кровь.
…еще нажать, еще, еще.
«Гдѣ я? Кто я? Что я дѣлаю? И я ли это?»
Тупой штыкъ трудно входилъ въ тѣло, ломалъ грудныя кости, пробирался къ легкимъ.
Демидова вцѣпилась обѣими руками въ штыкъ, пытаясь выдернуть его изъ груди.
Ея визгъ пробилъ потолокъ, достигъ крыши и вышелъ наружу.
«Стекла треснутъ отъ такого вопля. Я не могу ее заколоть!»
…подбѣжали стрѣлки. Кто? Онъ не видѣлъ, не понималъ. Заблестѣли штыки. Визгъ достигъ предѣла и оборвался.
…Кудринъ, Латышъ, Кабановъ и Никулинъ добивали дѣвицу Демидову прикладами.
Били по головѣ. Лицо въ лепешку расквасили. Черепъ треснулъ, глазъ вытекъ.
…поднялъ голову. Будто голову его отрубили, и она лежала отдѣльно на полу, и каталась въ чужой крови; потомъ ее подняли и приставили къ туловищу, но ничего не соображаетъ она, ибо, какъ круглый коровай, адскій хлѣбъ, кровью пропиталась.
Вотъ, сидитъ голова его на плечахъ его; и смотритъ онъ глазами; но это не его голова, и не его глаза, и — не его жизнь.
Не его голова повернулась. Не его лицо металось, летало. Не его глаза искали, чтобы крикнуть, обнять и поцѣловать.
…и ни разу, ни одной мысли въ чужой головѣ — о Пашкѣ.
О женщинѣ этой, что дѣлила съ нимъ войну, постель и смерть.
Марія! Гдѣ ты! Въ этомъ дыму! Марія!
…Ермакову казалось — это онъ, онъ одинъ убилъ царя. А когда ему это показалось — громадная гордость стала его распирать изнутри, и онъ, дыша дымомъ и щурясь въ дыму, вдругъ самъ себя увидалъ въ дымномъ кривомъ, чудовищномъ зеркалѣ: онъ такой большой, больше этой подвальной каморки съ полосатыми обоями, больше Ипатьевскаго дома, и пробиваетъ головой крышу, и ощущаетъ: онъ, онъ — царь! Всей этой черной ночной земли, всѣхъ орущихъ и быстро бѣгущихъ людей! Всѣхъ желѣзныхъ машинъ, издающихъ лязгъ желѣзныхъ костей! Онъ и правда царь, вѣдь онъ царя убилъ, — и пусть попробуетъ кто-нибудь оспорить у него эту честь; онъ его убилъ, онъ, а не Ляминъ, не Юровскій, не Никулинъ, не Кудринъ! Не Латышъ! Не Кабановъ! Никто изъ нихъ! И никогда! А только онъ, онъ одинъ, онъ — царя — прикончилъ!
Да еще многихъ, многихъ тутъ, въ этомъ чаду и дыму: тѣла мелькали передъ нимъ, и онъ билъ и стрѣлялъ, и билъ все крѣпче, насмерть, и стрѣлялъ все точнѣй, все жесточе, — а передъ нимъ мотались охвостья бѣлыхъ, измазанныхъ кровью исподнихъ рубахъ, и хвойно-зеленое сукно гимнастерокъ, и черные магазины маузеровъ и черные стволы нагановъ, и штыки, похожіе на воздѣтыя въ снѣжныхъ дымахъ морды остроносыхъ стерлядей, — а какая разница, на рыбалкѣ они, на охотѣ, на бойнѣ, въ лѣсу, въ звѣринцѣ? Вотъ она, жизнь! А вотъ смерть! А вотъ онъ, ихъ всеобщій красный царь Ермаковъ!
…и вдругъ сталъ опять маленькимъ, и сжимался въ комокъ все сильнѣй, все быстрѣй, сталъ величиной съ булавочную головку, и испугался, что вотъ сейчасъ кто-то на него невзначай наступитъ сапогомъ — и раздавитъ, и хрустнетъ онъ, хрупнетъ кристалломъ поваренной соли, утопчутъ его въ грязь, и — все, какъ и не было его.
…и только лицо, странное женское лицо, жесткое, жестче желѣза, съ крѣпкими злыми скулами, съ ледяными глазами, мелькало въ дыму и опять пряталось въ немъ, и насилу онъ вспомнилъ, что эту дѣвку зовутъ Пашка, и что она солдатъ, и тоже, со всѣми вмѣстѣ, сторожила тутъ царей; но вѣдь она отказалась стрѣлять, такъ почему же она тутъ?
…они подходили къ мертвому царю и стрѣляли въ него.
Разряжали въ царя револьверы.
Дымъ бѣсился и плясалъ. Вмѣсто потолка надъ головами летѣли тучи. Юровскій подскочилъ къ дверямъ и раскрылъ ихъ шире, еще шире.
…Марія!
Мишка вопилъ это надсадно внутри себя, а изъ его горла выходилъ рыкъ, собачій, волчій.
Двѣ дѣвчонки въ углу у стѣны.
Онѣ еще сидятъ. Нѣтъ. Одна лежитъ, свернувшись клубкомъ; такъ спитъ котенокъ на чьихъ-то колѣняхъ.
Лежитъ и вздрагиваетъ, и стонетъ.
Другая?
— Марія, — его собственный хрипъ ожегъ ему щеки и губы.
Перешагивая черезъ тѣла, вляпывая сапоги въ кровь, онъ подошелъ къ младшимъ княжнамъ.
Пальцы Анастасіи вздрагивали.
Марія сидѣла. Все еще сидѣла у стѣны.
И все еще руки — на головѣ.
Изъ-подъ живой шапки безпомощныхъ рукъ Марія — смотрѣла — на него.
И онъ слишкомъ близко увидалъ ея глаза.
…Пашка лежала въ кладовой на полу. Подъ ея животомъ, подъ расплющенной тяжестью тѣла грудью, подъ раскинутыми ногами въ тяжелыхъ грязныхъ сапогахъ холодѣли доски, онѣ превращались въ ледъ, въ плоскую ледоходную льдину, и Пашка куда-то далеко, въ страшное, въ невѣдомое никуда плыла на этой льдинѣ; льдина то кренилась, и тогда Пашка вцѣплялась ей въ края съ острыми зазубринами, то опять выпрямлялась, тогда Пашка переводила духъ, вытягивала руки впередъ, осязая холодный гладкій крашеный ледъ, и съ трудомъ соображала — да вѣдь это она лежитъ на полу, въ кладовой на половицахъ, — но себѣ не вѣрила, рѣка опять несла ее быстро, вертя льдину на перекатахъ, на своей широкой, блестящей подъ солнцемъ, холодной и мокрой спинѣ, и Пашка не знала, Енисей это или Волга, Нева или Кама, Уралъ или Исеть, Иртышъ или Тоболъ, — все равно, ей было все равно, она знала: вотъ сейчасъ льдина перевернется, и я перевернусь вмѣстѣ съ ней, и я окажусь въ водѣ, и я захлебнусь и пойду ко дну, — и, задыхаясь, спрашивала себя: Пашка, дура, а можетъ, ты уже тонешь, можетъ, перевернулось уже все давнымъ-давно?
И міра нѣтъ, и ледохода нѣтъ, и царей нѣтъ, и вѣры нѣтъ; и нѣтъ церквей, и нѣтъ войны, и нѣтъ оружія, — она безоружная лежитъ на землѣ, и никто не подойдетъ къ ней, не спасетъ ее. Она одна, совсѣмъ одна. И никого рядомъ.
Гдѣ-то далеко, за стѣной, стрѣльба и крики. Зачѣмъ? Надо крѣпче зажать уши. Тогда выстрѣлы кажутся щелканьемъ дятла, а крики — комаринымъ пискомъ. Это просто лѣто и лѣсъ, и огромная вырытая яма. Гдѣ ихъ закопаютъ? Мишка сказалъ — въ лѣсу.
Она крикнула: Мишка! Мишка! — и зажала себѣ ротъ рукой. И куснула руку.
Онъ тамъ убиваетъ, а она здѣсь валяется и себѣ руки грызетъ, — развѣ это хорошо, солдатъ Бочарова? Мишка, кричала она, катаясь по полу, Мишка, возьми меня съ собой туда, ну давай это я, я, давай я всѣхъ ихъ застрѣлю! Я! Я одна!
— Спаси меня.
Это сказала она? Или сказали глаза?
Мишка, не помня себя, поднялъ наганъ.
«Я спасу тебя. Я тебя застрѣлю. И все кончится».
Онъ зажмурился и сталъ стрѣлять.
…пули погружались въ смерть и отскакивали отъ жизни.
Жизнь оказалась крѣпче всего.
Она оказалась золотой, алмазной, жемчужной. Серебряной. Мѣдной. Желѣзной.
Жизнь оказалась крѣпче всего, что имѣлось на землѣ подъ широкимъ и безполезнымъ небомъ.
…разрядилъ въ Марію револьверъ.
«Упади! Ну упади же! Умри!»
Голова Маріи склонилась набокъ, слишкомъ близко къ шеѣ. Ротъ раскрылся.
И ладони раскрылись. Будто приглашали лѣтнихъ бабочекъ и птицъ: садитесь, не трону.
Она осѣдала на полъ. Распластывалась. Ложилась на полъ, будто живая.
Будто — ложилась спать.
Мишка водилъ невидящими глазами. Нога Маріи дернулась, она стала сгибать и разгибать ногу въ колѣнѣ, и ея длинный стонъ вывернулъ Мишкину душу наизнанку дырявой солдатской штаниной.
— Марія…
…подскочили Кудринъ и Ермаковъ.
Ермаковъ всадилъ въ Марію штыкъ. Подъ ребра.
И еще, и еще разъ.
«У нея тамъ сердце! Не смѣйте!»
Кудринъ стрѣлялъ.
Ей въ голову, въ грудь, въ животъ.
У Кудрина лицо напоминало морду раненаго льва.
— Все! Кончено! Больше не заряжай!
Голосъ Юровскаго взмылъ надъ дымомъ и опять потонулъ въ немъ.
Лампу заглатывалъ дымъ. Лампа вырывалась, не хотѣла умирать.
— Выноси трупы!
Ляминъ не узнавалъ голоса, отдававшіе команды.
Сашка Люкинъ стоялъ въ облакѣ дыма и махалъ рукой. По его лицу гуляла сумасшедшая улыбка.
Съ такими оскалами юродивые сидѣли на рынкахъ, тянули руку за копеечкой.
— По До-о-о-ону гуляетъ… по Дону гуляетъ!.. по Дону гуляетъ… ка-азакъ молодой…
Мишка подшагнулъ къ Люкину и ударилъ его кулакомъ по губамъ.
Люкинъ испуганно вытеръ губы, заслонилъ ладонью лицо и затрясся головой, спиной, плечами.
Шоферъ Люхановъ терпѣливо ждалъ въ кабинѣ грузовика. Моторъ работалъ.
Юровскій, бѣлѣе снѣга, поднималъ правую руку и, какъ вождь съ трибуны, вытягивалъ указательный палецъ.
— Живѣй! Торопись! Ночь короткая. Надо успѣть!
Онъ ходилъ межъ тѣлъ, наклонялся и бралъ убитыхъ царей за руки.
«Что онъ дѣлаетъ? Господи! Что?»
Юровскій щупалъ всѣмъ пульсъ на запястьяхъ. А вдругъ кто живъ.
Прислонялъ пальцы и къ шеѣ. Искалъ пульсъ на шеѣ. Бьется ли сонная артерія.
Махалъ рукой: порядокъ! Убиты!
Медвѣдевъ крикнулъ:
— Я сейчасъ простыни принесу!
Лампа подъ потолкомъ качалась и мигала. Съ нея капала кровь. Медленно, разъ въ минуту.
Медвѣдевъ взбѣжалъ на второй этажъ, забѣжалъ въ спальню царей и сталъ хватать съ полу, съ матрацевъ и кроватей простыни. Вотъ здѣсь спали княжны. Здѣсь — эти проклятые супруги. Медвѣдевъ вытеръ испачканныя кровью руки о простыню и брезгливо швырнулъ ее подъ ноги. Съ охапкой простыней сбѣжалъ въ подвалъ.
— Клади на простыни! Легше нести!
— На простыни! — Юровскій обмѣрилъ Медвѣдева орущими глазами. — Дуракъ! Дѣлай носилки! Вонъ, въ кладовой старыя оглобли лежатъ! Отъ саней! Привяжите къ нимъ простынки!
Уже тащили изъ кладовой оглобли. Негнущимися, послѣ стрѣльбы, пальцами привязывали простыни къ оглоблямъ. Молчали. Нюхали дымъ.
Первымъ на носилки положили трупъ царя.
…даже здѣсь, въ смерти, въ казни, онъ оставался — царь; и это было правильно, вѣско.
И уже носилки съ тѣломъ царя подхватили латыши и легко, играючи, понесли; будто не трупъ несли, а садовыя лейки и лопаты.
— Яковъ, ты пульсъ всѣмъ провѣрилъ?!
Никулинъ кричалъ въ дыму Юровскому, какъ въ горахъ, надъ пропастью.
Юровскій наклонялся надъ Маріей и ловилъ ея тонкую руку. Подхватилъ. Обцѣпилъ пальцами.
Морда звѣря на мигъ превратилась въ сосредоточенное лицо фельдшера.
— Мертва!
«Мертва. Мертва! Марія!»
…и странно, стало много легче. Сердце облегчилось, и слышно было, какъ забилось.
Трупы несли къ грузовому автомобилю. На дно кузова бросили брезентъ.
Брезентъ этотъ Кудринъ принесъ изъ кладовой.
Кровь капала, просачиваясь сквозь простыни. Люди несли носилки.
Латышъ, держа одной рукой оглобли, другой прислонилъ палецъ къ ноздрѣ и громко сморкнулся.
Мишка тоже несъ носилки. Онъ не могъ и не хотѣлъ видѣть, кто тамъ лежитъ.
На этихъ носилкахъ, что несъ онъ сзади, а впереди — Сашка, лежало два трупа.
— Быстро управилися, чорта ли лысаго, — сказалъ Сашка косноязычно.
Крышка кузова была откинута. Первымъ втащили царя.
Бросили въ кузовъ съ грохотомъ, какъ бревно.
Мишка и Люкинъ закинули въ грузовикъ два тѣла.
Кто второй былъ, Мишка не разобралъ.
Глаза ночью и кровью застлало.
Вернулись въ комнату за другими.
…Мишка взялся за ноги великой княжны, Люкинъ просунулъ руки ей подъ мышками.
Кто это былъ? Лишь бѣлыя платья и кровь.
И косы съ головъ свисаютъ, въ крови вымокшія.
Положили на грязныя носилки.
Она закричала, и Мишкины красные волосы встали ежовыми иглами подъ фуражкой.
— А! А-а! Больно! Помогите!
Анастасія.
И рядомъ, вотъ здѣсь, совсѣмъ близко, только оглянуться, рукой дотронуться, закричала еще одна.
— А-а-а-а-а-а!
«Это смерть. Такъ кричитъ смерть. Такъ не человѣкъ кричитъ».
Онъ заставилъ себя оглянуться и увидѣть.
…онъ даже не могъ назвать ее по имени.
…забылъ имя, забылъ свое желаніе и все это ошалѣлое время, ставшее никому не нужной, убитой вѣчностью.
— Эй вы! Двери открыты! Стрѣлять нельзя!
— Почему это?!
— На улицѣ услышатъ!
Марія, завернутая въ окровавленную простыню, медленно встала съ пола.
Она стояла передъ Ляминымъ и кричала.
А онъ не слышалъ крика.
Видѣлъ только раскрытый въ крикѣ ротъ.
Онъ оглохъ, уши залѣпило сырой и холодной глиной.
Винтовки кучно стояли у стѣны и валялись на полу.
Юровскій вбѣжалъ въ комнату. Его челюсть прыгала, какъ у ярмарочнаго деревяннаго Петрушки.
— Добить!
На полу шевелились и стонали Анастасія и Ольга.
Ольга перекатилась по полу съ боку на бокъ.
Изъ раны въ ея боку странно, страшно выкатилась окровавленная крупная жемчужина и покатилась по косой половицѣ къ раскрытой двери. Жемчужину поймалъ пулеметчикъ Стрекотинъ.
Вертѣлъ въ пальцахъ, и пальцы кровавились.
— Ахъ, хороша…
Сунулъ въ карманъ.
«Изъ раны… сокровища сыплются…»
Ляминъ перешагнулъ черезъ стонущую Ольгу и всталъ передъ Маріей.
«Она стоитъ, и я стою. Но мнѣ же не дадутъ ее…»
Онъ не додумалъ: спасти, добить, украсть.
— Онѣ всѣ живыя! Дьяволъ!
— Марія, — сказалъ Мишка сухими губами, а ему показалось, онѣ всѣ въ крови, и во рту солоно, — Марія…
Она кричала, глядя ему въ лицо.
— Живучія! Убейте! Убивайте!
Юровскій былъ страшенъ.
Мишкѣ захотѣлось его — убить.
— Ну добивайте же!
Ермаковъ бросился впередъ, съ винтовкой въ рукахъ. Толкнулъ Марію прикладомъ. Она упала рядомъ съ ногами Лямина.
— А-а-а-а!
Это уже страшно, натужно кричалъ Ермаковъ.
Онъ всаживалъ штыкъ въ грудь Маріи. Разъ, другой, третій.
Марія дергалась подъ штыкомъ. Ея глаза вылѣзали изъ глазницъ.
Ермаковъ выдернулъ штыкъ и вонзилъ его подъ ребра Маріи еще разъ. Мѣтилъ въ сердце.
Обернулся къ стрѣлкамъ.
— Что стоите! Давайте — ихъ!
Въ углу дико кричала Тата.
Стрѣлки бросились на княжонъ съ винтовками и револьверами. Блестѣли и вонзались штыки. Мишка закрылъ уши руками: онъ слышалъ хрустъ раздираемой плоти, и рвота подкатывала къ глоткѣ, ему казалось — на бойнѣ къ коровамъ и быкамъ люди милосерднѣе.
Прокалывали штыками, били прикладами. Стрѣляли въ головы. Приставляли стволы къ вискамъ и затылкамъ. Стрѣляли въ уши, въ глаза. Не жалѣли патроновъ. Патронами на казнь запаслись — какъ для великаго сраженія.
…юность и танцы, вѣера и балы. Жемчугъ на тонкихъ шеяхъ. Бѣлыя перчатки, бѣлопѣнныя кружева. Ледяные брильянты въ ушахъ. Море и розы въ Крыму, въ любимой Ливадіи. Свѣжій вѣтеръ, и сѣверъ, и пушка палитъ съ Петропавловской крѣпости, и бортъ балтійской яхты «Штандартъ», и радостный крикъ цесаревича: «Парусъ, я вижу парусъ!» Красота золота и бронзы, и радужныхъ фонтановъ, и мраморныхъ статуй. Улыбки и вечернія молитвы. Тайны, секреты, дѣтскія обиды. Блины съ икрой и горячій англійскій пудингъ съ черносливомъ. Крюшонъ въ огромномъ разрѣзанномъ арбузѣ. Зимою — у камина — глинтвейнъ съ гвоздикой и корицей. Предчувствіе любви, страсти, счастья. Какъ мнѣ больно. Какъ хочется жить! Какъ свѣжа и душиста весна!
…штыкъ прокололъ все.
…все?
— Яковъ! Я не могу пробить ей грудь! Что у ней подъ корсажемъ?!
Пьяный, шатающійся шагъ Юровскаго.
— Дай гляну!
Присѣлъ. Шарилъ по тѣлу руками.
— Ого-го… Да тутъ…
Что «тутъ», не договорилъ.
— Пали въ башку!
Ермаковъ выстрѣлилъ въ голову Ольгѣ.
— Все, бездыханная.
— Петръ! На нихъ драгоцѣнности. На всѣхъ!
Въ дыму не различить было, смѣется Ермаковъ или скалится.
— Похоже на то.
— Такъ что ждемъ! Обшарить! И все съ нихъ снять!
— Опись…
— Какая опись, спятилъ! Гдѣ времени взять! Стрекотинъ, эй!
Юровскій указалъ на лежащихъ вповалку княжонъ.
— Обыскать! Тщательно! Все снять!
— Куда класть, товарищъ комендантъ?
Юровскій судорожно обернулся туда, сюда.
— Ни мѣшка, черти, ни сумки… ни ящика… Да хоть въ карманы! Опишемъ потомъ!
Стрекотинъ наклонился надъ Ольгой. У нея изъ-подъ корсажа уже густо сыпались жемчуга и брильянты.
Кудринъ прыгнулъ, какъ волкъ, и согнулся надъ Маріей. Вертѣлъ ее, мялъ, общупывалъ. Вынулъ изъ кармана ножъ и взрѣзалъ на Маріи лифъ. Ляминъ глядѣлъ, какъ изъ лифа покатились самоцвѣты и золотые цѣпочки и браслеты. Кудринъ бралъ драгоцѣнности въ пригоршню и разсовывалъ по карманамъ. Кажется, у него текли слюни.
— Сука, — тихо сказалъ Мишка, не слыша, что и кому говоритъ.
Никулинъ и Медвѣдевъ нагнулись надъ трупомъ царицы.
— Ого! Ребята! Часы золотые… а какіе перстеньки! Ого перстень! Камень чистый… съ голубиное яйцо будетъ… на себѣ старуха таскала… не на пальцѣ… знала дѣло туго…
Латышъ потрошилъ, какъ индюшку, Анастасію. Камешки щедро и весело выскочили изъ разрѣза на ея лифѣ и раскатились по полу.
— У, гадство, растеряемъ…
Кабановъ ползалъ по полу, жадно камни собиралъ.
Тѣхъ, кого обчистили, клали на носилки и выносили во дворъ.
Моторъ стрекоталъ. Невозможно было дышать, дворъ наполнился до краевъ, какъ бокалъ ядомъ, выхлопными газами.
Носилки несли къ грузовику и бросали трупы въ кузовъ.
Вотъ еще. И еще. И еще.
Юровскій крикнулъ:
— Эй! Охрана!
Подбѣжали трое злоказовцевъ изъ наружной охраны.
— Здѣсь, товарищъ комендантъ!
— Спуститься внизъ! Охранять трупы!
— Есть, товарищъ комендантъ!
Юровскій обернулся къ несущимъ носилки.
— Вы много чего покрали! Дряни! Все вернуть! Иначе разстрѣляю!
Мрачно молчали латыши.
Кудринъ крѣпко держалъ оглобли.
На носилкахъ лежалъ докторъ Боткинъ.
— А у Боткина были часы! Хорошіе!
Юровскій взялъ руку Боткина и пощупалъ пульсъ.
— Кто снялъ часы?! Дай сюда!
Протянулъ руку. Ладонью вверхъ.
Шагнулъ впередъ Латышъ, пошарилъ въ карманѣ и выложилъ на ладонь Юровскаго докторскіе часы. Серебряные, съ золотыми стрѣлками, съ мелкими алмазами по ободу.
— Ты сволочь!
Латышъ показалъ лошадиные зубы.
Юровскій вытаращилъ глаза.
— Это что еще такое?!
Стрекотинъ мотался возлѣ входа въ Домъ въ фуражкѣ царя.
— Снять сейчасъ же! Мародеры!
Стрекотинъ обиженно, исподлобья глянулъ.
— Ну ужъ это-то… Тряпка паршивая… не золото вѣдь…
Юровскій рукой махнулъ.
— Песъ съ тобой! Носи! Царя помнить будешь!
Вынесли трупъ цесаревича.
Забросили въ кузовъ.
Когда размахнулись, чтобы бросить, — тѣмъ, кто стоялъ рядомъ, почудилось: мальчикъ открылъ глаза.
У него просто подглазья были измазаны кровью, и казалось, что глаза — глядятъ.
Послѣдними вышли Люкинъ и Мишка.
На носилкахъ они несли Анастасію.
И имъ, когда зашвыривали ее въ кузовъ, помстилось: она глядитъ и шевелится.
Когда бросили Анастасію, поверхъ всѣхъ труповъ, и закрыли на желѣзные крюки крышку кузова, Люкинъ жадно и жалобно, украдкой, перекрестился.
А Мишка вынулъ изъ кармана газету и дрожащими пальцами свертывалъ цигарку, и закуривалъ, и курилъ, не чувствуя, какъ табакъ входитъ въ легкія и терзаетъ ихъ, прожигаетъ и сушитъ.
По его щекамъ сползали мелкія, медленныя слезы.
Надъ ихъ живыми головами горѣли холодныя мертвыя звѣзды.
— Эй! Товарищи! Я собаку нашелъ!
— Что за собаку?
— Да вотъ, одной изъ княжонъ, видать, собачка!
— Живая?
— Трупъ!
Кудринъ взялъ изъ рукъ у Стрекотина трупикъ болонки Джимми и зашвырнулъ его въ кузовъ.
— Пусть ихъ охраняетъ!
Кому надо было, тѣ засмѣялись шуткѣ — угодливо, пьяно, хищно.
##
ИНТЕРЛЮДІЯ
Кто-то изъ нихъ, умирая, не понялъ, что умираетъ, — такъ быстро онъ умеръ. Кто-то умиралъ долго и страшно, въ мукахъ, хватая руками штыкъ, хрипя, крича, истекая кровью. Но удивительно было для всѣхъ нихъ — и для тѣхъ, кто сразу упалъ подъ выстрѣлами, и для тѣхъ, кто визжалъ и плакалъ, закрываясь руками отъ пуль и штыковъ, что въ самый моментъ смерти что-то важное съ ними со всѣми произошло. Если бы они могли говорить, всѣ они, каждый изъ нихъ, они бы это могли разсказать болѣе связными, ясными словами. Но они говорить не могли тогда, не могутъ и теперь, хотя тѣ, кто молится имъ какъ святымъ, утверждаютъ, что они имъ помогаютъ въ скорбяхъ и избавляютъ отъ бѣдъ. Я сейчасъ о другомъ.
О томъ, что всѣ они стали подниматься надъ залитымъ кровью поломъ и, невѣсомые, собираться тѣснѣе, сливаться, прижиматься другъ къ другу тѣлами уже не тяжелыми и плотными, а нѣжными и странно свѣтящимися. И вотъ такъ, поднимаясь и прижимаясь, они образовали въ дымномъ воздухѣ, еще минуту назадъ полномъ гари и криковъ, странное, шевелящееся, золотистое, источающее свѣтъ облако. Я почему такъ увѣренно говорю объ этомъ облакѣ? Имѣю ли я на это право?
Да если такъ разсуждать, имѣла ли я право все, что съ ними тамъ и тогда случилось, заново здѣсь и сейчасъ создать, возсоздать?
Кто-то скажетъ: нѣтъ. А кто-то заплачетъ и обниметъ меня при встрѣчѣ.
И я обниму и расцѣлую того человѣка: мы съ нимъ другъ друга поймемъ.
…Это свѣтящееся, слегка колышущееся облако зависло въ центрѣ подвальной комнаты и потомъ медленно, будто гладя щупальцами свѣта полосатыя, продырявленныя пулями стѣны, двинулось къ двери. Солдаты возились съ ихъ мертвыми тѣлами, а облако свѣта двигалось, подлетало къ двери и вотъ уже вылетало изъ нея.
Передъ облакомъ распахнулась непроглядная тьма. Вмѣсто лѣстницы была тьма. Вмѣсто дома была тьма. Облако попыталось вылетѣть во дворъ — вмѣсто двора была тьма. Они всѣ съ ужасомъ стали переглядываться: Боже, мы ослѣпли! гдѣ наше зрѣнье! гдѣ Твой свѣтъ! — но свѣтились ихъ руки, свѣтились ихъ проколотыя штыками сердца подъ сломанными ребрами, свѣтъ, идущій отъ нихъ, соединенныхъ, разгорался все ярче, и вотъ въ отвѣтъ свѣту шевелящагося въ лютой тьмѣ облака далеко и высоко загорѣлся другой свѣтъ.
Тотъ, другой свѣтъ сталъ приближаться. А облако стало медленно подниматься. Я говорю это здѣсь такъ смѣло потому, что я не одинъ разъ видѣла это во снѣ. Это не доказательство. Кто скажетъ, что сонъ — это правда? Да кто поручится за то, что все, что разсказано здѣсь, — правда? Когда я говорю, что народъ въ революцію былъ обманутъ своими вождями, что они пообѣщали народу землю, а потомъ отняли ее, — мнѣ говорятъ: да развѣ это правда! Когда я шепчу: Цари были свѣтлые и святые, — надо мной смѣются: какая же это правда! А когда пытаюсь сказать, что и народъ былъ измученъ, и Цари ослабли, запутались, заблудились и надѣлали, пока правили страной, множество ошибокъ; и правда забитаго и нищаго народа — это тоже правда, и правда великихъ любящихъ Царскихъ сердецъ — это тоже правда, — тутъ я вызываю бурю праведнаго гнѣва: да какъ ты смѣешь мыслить и жить за нихъ! Раскладывать все по полочкамъ! Дѣлать выводы!
Ты просто хитрый сочинитель, вотъ ты кто! А намъ — настоящую правду подавай!
…Правда всегда одна. И правда эта, какъ бы ни затыкали сейчасъ уши безбожники, — это правда о сатанѣ и о Богѣ. Гдѣ-то здѣсь, посреди тѣсныхъ строчекъ, въ сердцевинѣ быстрыхъ своихъ каракулей, я пишу слово «богъ» съ маленькой буквы — и это значитъ, такъ говорятъ и мыслятъ люди, растоптавшіе въ тѣ дни Бога и забывшіе, и проклявшіе Его; а гдѣ-то — старательно и почтительно — съ буквы прописной, такъ, какъ Онъ и долженъ именоваться, во вѣки вѣковъ, аминь. И это значитъ, что люди, говорящіе такъ, молятся Ему и любятъ Его.
Россія подъ крыломъ Бога у многихъ вызывала и вызываетъ ненависть. Русскіе Цари и русское самодержавіе мѣшали ходу безбожной исторіи. Кто и когда вычислилъ величину ея шаговъ? Да, красная Совѣтская страна, перенявъ у царской Россіи всѣ повадки имперіи, стала сама себя, какъ баронъ Мюнхгаузенъ, вытаскивать изъ болота смерти за волосы. Да такъ и не вытащила: гибельное вонючее болото все равно хищно засосало ее. Тьмы темъ погибли въ гражданскую войну, тьмы темъ — когда нахлынула черная волна раскулачиванія, тьмы темъ — въ концлагеряхъ и тюрьмахъ, тьмы и тьмы — во вторую великую войну съ нѣмцемъ. Сколько же людей — цѣлые народы! — положила на алтарь свѣтлаго будущаго несчастная мать, наша Родина? Всѣ эти тьмы темъ умирали для того, чтобы послѣвоенные дѣти, наконецъ, могли ходить въ школу спокойно — снаряды надъ головами не свистятъ, за рѣшетку отца и мать не сажаютъ, — но зато, дѣти, зато быстро забудьте слово «Богъ»! Никакого бога нѣтъ! Все это бабушкины сказки! Все это бредъ сумасшедшаго!
А это кто такой, дѣти, на стѣнѣ, на портретѣ? Не видите развѣ? Не понимаете? Или стѣсняетесь сказать? Это никакой не богъ! Правильно! Это же дѣдушка Ленинъ!
…Свѣтъ сверху падалъ все стремительнѣе. И свѣтящееся облако стало все быстрѣй набирать высоту. Въ чернотѣ, которую не могъ разрѣзать никакой, самый острый зрачокъ, два свѣта наконецъ столкнулись, схлестнулись, — и громадный яркій шаръ взошелъ въ ночи, какъ пьяное, немыслимое и радостное солнце, и это ночное крутящееся надъ мертвыми крышами, надъ мертвымъ городомъ солнце высвѣчивало всѣ грязные углы души, всѣ обманы и подлоги, всѣ предательства и обиды. Солнце облило нѣжнымъ золотымъ свѣтомъ и простило всѣ убійства; всѣ пытки; всѣ казни и разстрѣлы; всѣ людскія бойни, гдѣ люди людей топтали конями, давили танками, забрасывали бомбами, летящими изъ желѣзныхъ брюхъ гудящихъ крылатыхъ машинъ. Распахнулись руки свѣта и обняли бѣдный, мертвый, безъ Бога, міръ, лежащій подъ нимъ. Обняли нѣжно, прощаясь. Навѣкъ? Да развѣ у свѣта, у Бога есть «сегодня», «завтра», «навѣки»! У Бога есть только «всегда», и что бы ни дѣлали, что бы ни сотворяли съ Богомъ жестокіе, бѣдные люди, — Онъ все равно придетъ; Онъ улыбнется; возьметъ тебя въ объятія свѣта; крѣпко прижметъ къ Себѣ; проститъ, и полюбитъ, и возьметъ съ Собою, и вознесетъ.
И уже все равно будетъ, какіе тамъ, внизу, черные черви копошатся, кто тамъ, внизу, на мертвой несчастной землѣ, ругается сквозь гнилые зубы или безпощадно хохочетъ, насмѣхаясь надъ самымъ святымъ, что еще есть, что осталось еще въ памяти человѣка. Міръ безъ Бога — подлый и гадкій міръ. Но такого міра просто нѣтъ. Въ самой язвѣ боли, въ самомъ ужасномъ черномъ военномъ хмелю и кровавомъ похмельѣ человѣкъ, опоминаясь отъ ужаса содѣяннаго, вдругъ слышитъ голосъ, видитъ надъ собой въ угарной, табачной и безбожной тьмѣ свѣтъ — и падаетъ на колѣни, и коснымъ языкомъ проситъ прощенья: самъ не знаетъ, у кого проситъ, тяжко, стыдно ему имя Бога назвать, а — придется, потому что всѣмъ намъ надо будетъ умирать, всѣмъ придется умирать, только не всѣхъ насъ, конечно, казнятъ какъ нашихъ Царей, разстрѣляютъ въ подвалѣ, — а сколько такихъ подваловъ было до разстрѣла Царей, и сколько плахъ было, и сколько висѣлицъ и гекатомбъ было — послѣ! И Богъ это все не остановилъ? И — не остановитъ? Такъ гдѣ же тогда Богъ? Или Онъ — слѣпой и глухой и безъ сердца?
А лучи свѣта все текутъ и текутъ изъ чернаго ночного зенита. Изъ яростной тьмы, такой плотной, хоть ножомъ рѣжь.
И человѣкъ — не звѣрь. Хотя бываетъ лютѣе звѣря. Человѣкъ всегда живъ, онъ — живой. До человѣка можно достучаться. Но лишь тогда, когда рядомъ съ нимъ Богъ. И этого всегда, всегда хочетъ Богъ; человѣкъ же, безумецъ, часто отворачивается отъ Него, смѣясь надъ Нимъ и презирая Его, и человѣкъ платитъ за это слишкомъ дорогой цѣной.
Онъ даже самъ не знаетъ, какой. Не осознаетъ.
Заливается, захлебывается рѣками, морями крови умалишенная земля.
И хочетъ — еще крови. Хочетъ — еще революціи.
…Вамъ — еще революціи?! Вы — по революціи заскучали?!
Вы и правда считаете, что революціи движутъ міромъ?!
…Свѣтящійся огромный шаръ плылъ, вращаясь и перекатываясь, надъ спящимъ городомъ, надъ нѣжной лѣтней рѣкой, надъ притихшимъ чернымъ лѣсомъ. Кое-гдѣ раздавались выстрѣлы. Гдѣ-то истошно кричала женщина: ее насиловали, выворачивали руки. Гдѣ-то плакалъ ребенокъ: онъ ночевалъ на рынкѣ въ ящикѣ изъ-подъ астраханской воблы, тихо плакалъ и прижималъ къ себѣ рыжую собаку, и цѣловалъ ее въ холодный носъ, они оба съ собакой зарывались въ опилки вмѣсто одѣяла, и имъ было тепло, они согрѣвались другъ другомъ. Гдѣ-то любили люди. Обнимались и цѣловались. Гдѣ-то умирали.
…Они всѣ, ставъ свѣтомъ, забыли, что умерли въ мукахъ. Такъ женщина, рождая ребенка, терпитъ скорбь, а когда родитъ, уже не помнитъ скорби.
Они, въ объятіяхъ свѣта, поднимались надъ землей все выше и выше, легко и счастливо летѣли, озирая сразу, вмѣстѣ, въ одинъ мигъ, прошлое, настоящее и будущее, и имъ было это странно и тревожно, они видѣли оттуда, сверху, изъ живой ночной черноты, далеко внизу свои искалѣченныя тѣла, — видѣли не глазами, исчезло зрѣнье, а чѣмъ они видѣли все, они не могли бы сказать. И они горько улыбались надъ собой, надъ мертвыми тѣлами своими: вотъ, оказывается, каково это, умереть — это значитъ продолжить жить, потому что есть будущая жизнь, потому что есть Богъ!
И Богъ, какъ бы это ни хотѣлось опровергнуть тѣмъ, кто не хочетъ, чтобы такъ было, кто отрицаетъ Бога, кто смѣется надъ вѣрой и глумится надъ ней, — Богъ былъ рядомъ съ ними, Богъ былъ ихъ, и Богъ былъ въ нихъ, и они сами, всѣ, до единаго, были въ Богѣ и стали Богомъ.
Простите, люди, что я вотъ такъ все это здѣсь прямо и просто сказала; что назвала все своими именами; если тамъ, за порогомъ смерти, все будетъ не такъ — значитъ, и жизни этой нѣтъ, не должно быть, и наша земная жизнь всего лишь дьявольскій миражъ, морокъ, и тогда все напрасно, и правда все равно; и все равно, правда и ложь, и все равно, любовь и ненависть, и все равно, стыдъ и безстыдство, и все равно, грѣхъ и святость, и все равно, грязь и чистота.
Но вѣдь не все равно!
Нѣтъ! Не все равно!
…они летѣли, крѣпко обнявшись съ Богомъ, и Богъ несъ ихъ, своихъ любимыхъ, все выше, и выше, и выше.
##
Занимался разсвѣтъ. Солнце должно было взойти совсѣмъ скоро.
Небо на востокѣ налилось розовой, будто разбавленной водой, кровью. Небо само было — простыня въ крови, грязная, бѣлесая, захватанная чужими руками, потерявшая бѣлизну дѣвства и вѣры.
Крыши тоже горѣли, свѣтились розовымъ, краснымъ. Краснымъ отблескивали оконныя стекла. Грузовикъ, тарахтя и фыркая, выѣзжалъ со двора и отъѣзжалъ отъ Дома, и шоферъ Люхановъ, сцѣпивъ зубы, медленно велъ его по булыжникамъ, по тряской мостовой.
Въ кузовѣ сидѣли Люкинъ и Ляминъ, и еще люди, но Ляминъ не могъ бы сказать, кто они: тѣ, кто вмѣстѣ съ нимъ разстрѣливалъ царей, или знакомые ему охранники, или новые, пришлые. Откуда они взялись, попрыгали въ кузовъ? По приказу Юровскаго? Онъ сталъ равнодушенъ къ приказамъ. Не слышалъ голосовъ, разговоровъ, вздоховъ и матерковъ. Въ зубахъ тлѣла цигарка. Онъ плюнулъ ее за бортъ грузовика. Тряско ѣхали, и, чтобы не упасть, Мишка въ бортъ рукой крѣпко вцѣпился. Люкинъ качался напротивъ. Онъ былъ какъ пьяный.
А можетъ, и правда пьяный былъ; Ляминъ раздулъ ноздри, пытаясь уловить водочный запахъ.
«Юровскій вродѣ намъ водки обѣщалъ. Послѣ казни».
— Эй, Сашка. Выпить есть?
Онъ не узналъ своего голоса.
— Ты ужъ покурилъ, будетъ съ тебя.
— Куда ѣдемъ?
— Гадовъ хоронить.
Ляминъ боялся посмотрѣть внизъ, себѣ подъ ноги, но все же посмотрѣлъ.
Близко къ его попачканному кровью, липкому сапогу лежала тонкая дѣвичья рука.
Лежала вродѣ бы отдѣльно отъ тѣла.
Ляминъ повелъ глазами выше и увидалъ грудь, всю исколотую штыками, и голую закинутую шею. Волосы, слипшіеся отъ крови. Чистый лобъ. Глаза дѣвушки были открыты. Изъ нихъ сочился ледяной и чистый свѣтъ.
##
…Тучи заволакивали утреннее небо.
…Горы времени сдвинулись. Моря времени высохли.
Небо послѣ ночи смотрѣлось словно сѣрая выпуклая линза, наполненная водой; подъ водой ходили тревожныя тѣни, качались синія и бѣлыя водоросли, на поверхности расцвѣтали лиліи облаковъ. Сквозь линзу хотѣлось увидѣть время, особенно — будущее, но его было не видать.
Хмурость утра сполна искупали ходящіе по городу волнами запахи садовъ. Цвѣты лили нѣжные запахи въ лѣто, въ счастье.
Солнце выглянуло къ девяти утра.
Вокругъ Дома стоялъ караулъ. Ляминъ застылъ у забора съ винтовкой. Его дико клонило въ сонъ. И онъ самъ себѣ снился. Иногда охватывалъ себя за плечи, ощупывалъ ноги, локти: это онъ или не онъ? Себѣ не вѣрилъ.
За воротами послышался женскій быстрый говоръ. Постовой открылъ ворота. Быстро, ловко подбирая одной рукой юбку, вошла молодая послушница, юбка ея мела дворовую пыль, въ другой рукѣ она держала тяжелую корзину — видно было, какъ корзина оттягивала ей руку, и на тонкомъ запястьѣ вздувались толстыя синія жилы. Изъ-подъ юбки мелькали маленькіе темные чоботы. Послушница торопилась къ крыльцу. На крыльцѣ стоялъ Григорій Никулинъ и устало курилъ. Онъ глядѣлъ на подходящую къ крыльцу послушницу скорбно и чуть брезгливо.
Женщина подошла близко къ крыльцу и снизу вверхъ, какъ кошка, просящая молока, глянула на Никулина. Ляминъ опять услышалъ торопливый говоръ, но не понялъ, что же говоритъ послушница. Она протягивала Никулину корзину.
— …сливочки… яички… — донеслось до Михаила.
— Подите съ продуктами обратно! И больше ничего не носите! Сами ѣшьте!
Ляминъ увидалъ круглые глаза послушницы подъ круглыми широкими бровями. Она съ минуту смотрѣла на Никулина. Никулинъ больше ничего не говорилъ. Отвернулся и бросилъ окурокъ подъ крыльцо. «Приснилось все. Похороны эти».
Латыши укатили къ себѣ въ ЧеКа. Двое латышей спали въ комендантской.
Они спали на походныхъ кроватяхъ царскихъ дочерей.
Разложили кровати и увалились въ одеждѣ. Зычно, на весь Домъ, храпѣли.
Имя одного Ляминъ не помнилъ. Второй былъ Латышъ.
Еще въ комендантской сидѣли за столомъ Юровскаго Гришка Никулинъ и Павелъ Медвѣдевъ. Столъ былъ заваленъ драгоцѣнностями. Иныя уже лежали въ шкатулкахъ и въ ящичкахъ, но брильянты и жемчуга были щедро навалены прямо на столешницу. Столъ, прежде голый, благоразумно укрыли скатертью. Никулинъ и Медвѣдевъ молча, мрачно складывали золото и камни въ шкатулки. Оба молчали. А о чемъ говорить?
Царскій песъ, смѣшной спаніель, стоялъ передъ закрытой дверью царской спальни и нюхалъ воздухъ.
Медвѣдевъ и Никулинъ, склоняясь надъ столомъ, разсматривали брильянты. Вертѣли въ пальцахъ, и камни играли, испуская чистые и яркіе, острые лучи.
…а Пашка въ это время, выставивъ крѣпкій задъ, низко нагнувшись и возя, возя мокрой тряпкой по краснымъ разводамъ, по плахамъ половицъ, замывала кровь въ подвальной комнатѣ съ полосатыми обоями, съ запахомъ пороха и гари.
Тряпка напитывалась кровью, Пашка разгибалась и терпѣливо несла тряпку къ ведру, окунала ее въ ледяную воду, отжимала и опять несла къ лужѣ крови, и окунала въ красную жижу, и возила по полу, и тряпка опять жадно глотала кровь и разбухала. Пашка снова волокла ее къ ведру, окунала и выжимала.
Окунала — несла — выжимала.
Несла — окунала — возила.
Опять несла, и опять выжимала.
Выпрямлялась, мокрымъ запястьемъ отводила со лба волосы.
Ее не тошнило, она не боялась, и она ни о чемъ не думала.
Возила — несла — окунала — отжимала. Опять несла и швыряла.
Пальцы сводило холодомъ.
Ей было холодно, и ей было все равно.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
«Происходитъ что-то неописуемое… Новую власть тоже выгнали. Хуже нея ничего на свѣтѣ не можетъ быть. Слава Богу. Слава Богу. Слава…
Меня мобилизовали вчера. Нѣтъ, позавчера. Я сутки провелъ на обледенѣвшемъ мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) съ вѣтромъ. Въ пролетахъ свистѣло всю ночь. Городъ горѣлъ огнями на томъ берегу. Слободка на этомъ. Мы были посрединѣ. Потомъ всѣ побѣжали въ городъ. Я никогда не видѣлъ такой давки. Конные. Пѣшіе и пушки ѣхали, и кухни. На кухнѣ сестра милосердія. Мнѣ сказали, что меня заберутъ въ Галицію. Только тогда я догадался бѣжать. Всѣ ставни были закрыты, всѣ подъѣзды были заколочены. Я бѣжалъ у церкви съ пухлыми бѣлыми колоннами. Мнѣ стрѣляли вслѣдъ. Но не попали. Я спрятался во дворѣ подъ навѣсомъ и просидѣлъ тамъ два часа. Когда луна скрылась, вышелъ. По мертвымъ улицамъ бѣжалъ домой. Ни одного человѣка не встрѣтилъ».
Михаилъ Булгаковъ. «Необыкновенныя приключенія доктора».
Изъ записныхъ книжекъ 1918 года
Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ все увеличивался и увеличивался, росъ и росъ, маленькіе люди, петрушки, гиньоли, буратино, куколки и куклята прибывали, заполняли игрушечную коробку зала, разсаживались, переговаривались, перемигивались, хлопали другъ друга по картоннымъ и деревяннымъ рукамъ, вертѣли глиняными головами.
Нѣтъ, конечно, они всѣ были живые; но вродѣ какъ и кукольные одновременно; потому что за версту видно было — кто-то большій, сильнѣйшій и грознѣйшій, чѣмъ они, ихъ сработалъ, сдѣлалъ.
На сценѣ появилась главная лысая кукла — лысый вождь. Онъ, маленькаго роста, весело и быстро катился по доскамъ сцены къ своему мѣсту. Нашелъ кресло и взобрался на него. И замеръ: онъ принималъ поклоненіе зала. Вождемъ, непонятно почему и за что, избрали лысую крошечную куклу всѣ люди; не только всѣ, что собрались въ залѣ, но и тѣ, кто населялъ огромную черную и свѣтлую, совсѣмъ не игрушечную землю. Съ этой землей игрушки, взявшія власть, играли, какъ съ игрушкой, а вѣдь эта земля заслуживала большаго и лучшаго.
Но въ Совѣтѣ Народныхъ Комиссаровъ такъ не считали.
Они считали, что, захвативъ эту большую и богатую землю, они освободили ее и очистили отъ всевозможной грязи, накопившейся на ней. Этой грязью куклы считали всѣхъ, кто жилъ на землѣ прежде. А жило тутъ много сословій: кто пахалъ землю, кто служилъ требы Богу, кто танцовалъ на балахъ, кто писалъ книги, кто строилъ дома и храмы, кто варилъ и жарилъ ѣду, кто продавалъ на рынкахъ и въ лавкахъ всевозможныя вещи, кто рожалъ и воспитывалъ дѣтей, а кто все это защищалъ съ оружіемъ въ рукахъ. И вотъ куклы сбились въ кучи, у нихъ явился маленькій гололобый вождь, онъ заверещалъ пронзительно: миръ хижинамъ, война дворцамъ! — и тутъ же куклы объявили войну дворцамъ, и за ними, принявъ ихъ за людей, пошелъ народъ.
Народъ всегда идетъ за тѣмъ, кто посулитъ ему лучшее и свѣтлѣйшее будущее.
Кто скажетъ: настоящаго нѣтъ, есть только будущее, такъ давайте умремъ за него!
Еще маленькій лысый чертенокъ вопилъ: миръ народамъ, земля крестьянамъ, хлѣбъ голоднымъ! — и съ восторгомъ, съ упоеніемъ и счастьемъ люди стали на разные лады повторять эти слова. Эти призывы не сбылись — земля, какъ луна, повисла въ воздухѣ и такъ висѣла, ничья, народы вмѣсто того, чтобы обняться и расцѣловаться, передрались, и люди поубивали другъ друга въ поляхъ, въ лѣсахъ и въ городахъ; и люди умирали отъ голода, со вспухшими животами, отъ безкормицы убивая и съѣдая дѣтей своихъ, а потомъ, отъ отчаянія, убивая себя, ладя петлю въ сараѣ. А то пріѣзжали къ людямъ маленькія черныя кожаныя куклы, толклись во дворѣ, входили въ избу, искали хлѣбъ въ мѣшкахъ и находили, и забирали эти мѣшки, подъ плачъ и крики несчастныхъ матерей и младенцевъ.
Но говорящія куклы съ упорствомъ и веселостью повторяли эти призывы, рисовали ихъ огромными буквами на красныхъ знаменахъ, и подъ эти знамена вставали все новыя и новыя толпы, желая новой, лучшей жизни, желая жизни свѣтлѣйшей и счастливѣйшей.
И куклы несли красныя знамена впереди, а позади шли люди, размахивая руками и крича объ общемъ благѣ, о вѣчности, о любви, о благополучіи и изобилии, и гибли подъ пулями другихъ людей — за лучшую и счастливѣйшую жизнь, а куклы наблюдали эти бои и были довольны: исполнялся ихъ игрушечный замыселъ.
А замыселъ былъ простъ, и былъ таковъ: куклы должны властвовать надъ людьми и владѣть землей и деньгами, и люди должны вѣрой и правдой служить имъ.
Тогда на землѣ наступитъ правильный міропорядокъ, и все будетъ устроено такъ, какъ надо.
Какъ надо — кукламъ.
А кто сотворилъ самихъ куколъ, никто не зналъ; знали они сами, но не разглашали эту тайну, потому что, если бы люди ее узнали, куколъ бы вразъ не стало на широкой землѣ.
…Лысый подвижный, юркій чертенокъ усѣлся на свое мѣсто и съ торжествомъ, искристыми веселыми глазами, оглядѣлъ залъ. Залъ былъ полонъ и слегка, какъ улей, гудѣлъ. Мѣсто лысой куклы было — широкое приземистое кресло, обитое старымъ, уже вытертымъ краснымъ бархатомъ. Важно, что бархатъ былъ красный.
Кресло возвышалось на сценѣ, за широкимъ, какъ рѣка, столомъ, и за столомъ, на берегу деревянной рѣки, еще сидѣли разныя куклы. Куклы смотрѣли на людей, и люди восторгались куклами, выражая восторгъ неистовымъ хлопаньемъ въ ладоши. Ярко пылали огни въ рампѣ на краю сцены.
Вышла къ рампѣ живая кукла, лысый чертенокъ заливисто крикнулъ: слушаемъ докладъ наркома здравоохраненія! Кукла, серьезная и въ круглыхъ очкахъ, долго говорила о томъ, какъ въ странѣ улучшилась охрана людского здоровья и какъ счастливы люди Совѣтской страны, потому что отступаютъ старыя страшныя болѣзни — чума, тифъ, холера, оспа, — и какъ увеличилась продолжительность человѣческой жизни. Всѣ въ залѣ вѣрили, улыбались и хлопали.
Кукла съ всклокоченными, курчавыми черными волосами надъ ушами, тоже лысая, смуглая и въ очкахъ, черная изящная обезьяна, наклонилась сзади къ лысому чортику, что-то шепнула ему на ухо. Чертенокъ вздрогнулъ и разулыбался. Потомъ согналъ улыбку съ деревяннаго лица и сталъ серьезнымъ и важнымъ. И важно, громогласно объявилъ: товарищъ Свердловъ проситъ слова, у него для почтеннѣйшей публики весьма важное и срочное сообщеніе!
Черная кукольная обезьяна встала за столомъ, укрытымъ краснымъ сукномъ. Поправила на переносицѣ очки. Очки заманчиво, сладко блеснули. Обезьяна открыла длиннозубый ротъ и стала складно говорить на человѣчьемъ языкѣ. Она сказала людямъ такъ: вашъ царь собирался удрать, да мы его во-время поймали, онъ уже одной ногой былъ на вражескомъ кораблѣ, мы раскрыли крупнѣйшій антинародный заговоръ и предотвратили его! Мы поймали царя, онъ уже почти убѣжалъ, за хвостъ — и разстрѣляли его!
Буря поднялась въ залѣ. Люди захлопали, закричали: ура! — засвистѣли, завыли, затопали. Кое-кто даже крякалъ уткой. Кто-то крикнулъ: слава нашимъ доблестнымъ краснымъ вождямъ! Позоръ нѣмецкимъ маріонеткамъ въ царскихъ коронахъ! Зашумѣли еще пуще. Потомъ шумъ стихъ. Черная обезьяна подняла руку. Черная кожанка у нея на тѣлѣ скрипѣла при поворотахъ туловища. Обезьяна отчетливо и весело сказала: позоръ царскому выродку, обманувшему нашу великую страну! Слава нашему великому вождю, ведущему насъ за собой къ свѣтлому и счастливому будущему!
И весь залъ всталъ, и хлопалъ въ ладоши, пока ладоши не заболѣли.
А когда шумъ утихъ, человѣкъ изъ зала крикнулъ: а семья? гдѣ семья! что сталось съ семьей? ее тоже казнили? — и кукольная обезьяна товарищъ Свердловъ, нимало не растерявшись, отвѣтилъ: нѣтъ, семью перевезли въ надежное мѣсто! Ея судьба, товарищи, цѣликомъ въ вашихъ рукахъ!
И опять люди хлопали, не жалѣя рукъ.
Потомъ люди изъ зала одинъ за другимъ полѣзли на сцену. Подходили къ трибунѣ и просили слова. И лысый чертенокъ и черная обезьяна рѣшали, давать людямъ слово или не давать. Мѣрили человѣка оцѣнивающимъ взглядомъ и махали игрушечной рукой, что означало: разрѣшаю. Или дѣлали запрещающій жестъ и указывали пальцемъ: уходи, молъ! И человѣкъ, пятясь, покорно уходилъ. Такъ всѣ безпрекословно слушались своихъ вождей.
Выходящіе къ трибунѣ одобряли разстрѣлъ ихъ царя. Одинъ одобрилъ, потомъ другой, потомъ третій. И четвертый, и пятый. И изъ зала тоже слышались выкрики: прекрасно! браво! отлично! такъ имъ и надо, кровопійцамъ! Люди говорили, а лысый чертенокъ молчалъ. Слушалъ, склонивъ умную деревянную лысую голову.
Когда люди закончили обсуждать разстрѣлъ ихъ царя, лысый вождь всталъ изъ-за стола, воздѣлъ правую руку и крикнулъ на весь залъ: такъ имъ! Подѣломъ! Отвѣтили за всѣ свои злодѣянія и преступленія противъ нашего народа!
И всѣ опять захлопали и зашумѣли, и шумѣли недолго: вождь махнулъ рукой, и воцарилась мертвая тишина.
И въ этой мертвой тишинѣ всѣ глаза обратились на лысаго вождя.
И онъ тихо, но очень отчетливо, на весь залъ, сказалъ: это была воля народа. А народъ всегда правъ. Ура народу!
И опять всѣ взорвались криками, какъ сумасшедшіе, и долго кричали «ура».
А потомъ на сцену стали выходить люди, работающіе въ больницахъ. Они громкими и робкими голосами повѣдали залу о томъ, какъ больные живутъ въ совѣтскихъ больницахъ. Въ больницахъ, какъ выяснилось, живутъ совсѣмъ не такъ ужъ плохо, но и не особенно хорошо. Не хватаетъ бинтовъ, ваты, марли, лѣкарствъ отъ боли, лѣкарствъ отъ кашля, лѣкарствъ отъ живота, горчичниковъ, банокъ, микстуръ, шприцевъ, иголокъ, грѣлокъ. И еще чистаго медицинскаго спирта. Лысый вождь закивалъ головой: да, да, разумѣется, всѣ эти необходимыя вещи мы немедленно доставимъ въ совѣтскія больницы! Это негоже, чтобы въ совѣтскихъ больницахъ — да спирта не было!
И оборачивался къ президіуму, и жутко подмигивалъ сидящимъ за краснымъ столомъ кукламъ.
А куклы смущенно улыбались ему.
Потомъ началось обсужденіе доклада о больницахъ. Люди сидѣли сначала молча, робко. Потомъ тихо говорили: ну, ваты нѣтъ, оно конечно… ну, бинтовъ нѣтъ, такъ это жъ… а шприцевъ нѣтъ, такъ это же повсюду… война сейчасъ… революція… какіе шприцы… какія теперь обезболивающія… палку въ зубы — и пили ногу… ори не ори, все равно помрешь… ну, животъ вздуетъ, быстрѣй на рундукъ бѣги! — и всякое такое говорили, шептали и выкрикивали, а послѣ, охрабрѣвъ, выбѣгали къ сценѣ и размахивали руками, какъ флагами, передъ лысымъ чертенкомъ и его куклами.
Бинта! Ваты! Шприцевъ! Спирта!
На что чертенокъ вскакивалъ, опять поднималъ впередъ правую руку и весело, топорща усы и воздѣвая остроугольную бородку, словно бы нагло передразнивая, а можетъ, торжествуя и празднуя, подхватывалъ, продолжалъ эти людскіе крики: спирта! Марли! Киселя! Каши! Рыбы! Мяса! Нефти! Хлѣба! Воли! — и бросалъ эти крики, какъ огромные булыжники, въ людскую гущу, въ толпу въ залѣ. И люди ловили эти кричащіе булыжники, прижимали къ сердцу и блаженно жмурились: намъ вождь, самъ вождь это сказалъ! Значитъ, такъ будетъ!
А многіе говорили другъ другу на ухо: вождь блѣденъ, онъ не спитъ ночами, онъ стоитъ надъ картой нашей огромной черной, залитой кровью земли и думаетъ, какъ лучше ее вспахать и засѣять, какъ лучше перегородить плотинами великія рѣки, и какъ, самое главное, лучше вырастить намъ нашихъ дорогихъ родныхъ дѣтей, чтобы они наконецъ и скорѣй увидѣли свѣтлое и счастливое будущее.
Въ залѣ дѣтей не было. Дѣтей сюда, на засѣданія куколъ, не брали.
…люди сами себѣ сдѣлали куколъ, изъ людского непрочнаго матеріала — изъ вѣры и жажды счастья, — и сами повѣрили въ нихъ, и сами шли за ними, и некого было винить.
Въ этомъ всѣ люди, какъ ни странно, оказались — дѣти.
…и они, никто, не знали, что ихъ всѣхъ тоже скоро разстрѣляютъ.
…дѣтей вѣдь всегда разстрѣливаютъ, не правда ли?
##
Караульный открылъ ворота.
Грузовикъ съ трупами царей, стрѣлками и Юровскимъ выѣхалъ изъ воротъ Дома.
Выкатился на Вознесенскій проспектъ. Потомъ повернулъ и понесся по Главной улицѣ. Подъѣхалъ къ ипподрому. Здѣсь городъ заканчивался. Начиналась дорога въ села, въ поля, въ тайгу.
— На Коптяки ѣдешь? Вѣрно?
Юровскій задалъ вопросъ шоферу, не глядя на него. Передъ вѣтровымъ стекломъ прыгала земля.
— Вѣрно.
Проѣхали Верхъ-Исетскій заводъ.
Ляминъ, Латышъ, Кудринъ и Люкинъ тряслись въ кузовѣ. Рядомъ съ трупами.
Грузовикъ замедлилъ ходъ.
— Рельсы пересѣчемъ, — тоскливо бросилъ Сашка.
— Только бъ литерный насъ не сбилъ, — такъ же тоскливо пошутилъ Кудринъ.
Тяжело перевалились черезъ желѣзнодорожный переѣздъ.
— На Пермь дорога.
— Пермякъ уши солены, — Люкинъ улыбнулся и щелкнулъ ногтемъ себя по зубамъ.
Машина въѣхала въ лѣсъ. Высокія сосны, разлапистыя ели, кое-гдѣ березнякъ, лещина.
— Такъ лѣсомъ до Коптяковъ и двинемся?
— А тебѣ не все ль равно?
Еще немного времени прокрутили колеса. Ляминъ глядѣлъ на дорогу, на вьющуюся передъ глазами, изрытую телѣгами и автомобилями землю, и къ нему постепенно возвращались зрѣніе, слухъ и способность думать.
Еще одни рельсы пересѣкли.
— Горнозаводская дорожка, што ль?
— Кто ее знаетъ.
Поворотъ. Еще поворотъ. Ляминъ ухватился за край кузова. Грузовикъ тряхануло. Сапога коснулась мертвая женская нога. Накатила тошнота. На днѣ кузова тамъ и сямъ мерцала кровь. Ляминъ, безмѣрно стыдясь себя, перегнулся черезъ бортъ, и его вырвало — мучительно, желчью. Онъ отеръ ротъ рукавомъ и воровато оглядѣлъ стрѣлковъ. Всѣ молчали.
— Болота тутъ, однако. Застрянемъ!
— Типунъ тебѣ…
Сашка безнадежно махнулъ рукой. Латышъ показалъ конскіе зубы, сунулъ руку въ карманъ куртки, досталъ странную изящную, будто дамскую, табакерку, раскрылъ и съ наслажденьемъ понюхалъ сладкій табакъ. Закрылъ глаза съ сивыми рѣсницами крѣпкой, огромной ладонью, глубоко вдохнулъ и оглушительно чихнулъ. Брызги полетѣли.
Кудринъ расхохотался.
Дико звучалъ одинокій смѣхъ посреди дикихъ лѣсовъ.
— Царская, видать, табакерочка-то?
— Нѣтъ, — Латышъ отдышался. — Наша. Семейная. Бабка моя еще табакъ нюхала. Любила… сладкій.
— А врешь вѣдь! У царей сперъ! Дай-ка!
Кудринъ протянулъ руку. Латышъ пожалъ плечами и протянулъ табакерку. Кудринъ долго вертѣлъ ее и даже попробовалъ на зубъ.
— Золотая. Врешь, — съ нажимомъ, убѣжденно сказалъ. — Царская!
— Думай какъ знаешь.
— Индюкъ думалъ, да въ супъ попалъ!
…Почва пружинила все больше. По сторонамъ дороги — а она опасно сужалась — уже просматривались въ утреннемъ свѣтѣ блѣдно-красные, розовые огни ягодъ клюквы. Разноцвѣтный мохъ заботливо, ласково укрывалъ топь.
— Ой бяда, — проверещалъ Люкинъ, — ой бяда будетъ… Заѣх-хали, мать иху въ душу за ногу…
Грузовикъ забуксовалъ, два раза чихнулъ, будто Латышовскаго табака нанюхался, — и смолкъ. Застрялъ.
— Въ трясинѣ сидимъ.
Люкинъ перевалился черезъ бортъ кузова и наблюдалъ, глубоко ли ушли колеса.
— Немного… Чуть… Люхановъ! — застучалъ по желѣзу кабины. — Давай, наддай! Вырвемся!
Люхановъ еще и еще заводилъ моторъ. Онъ взревывалъ и страшно урчалъ.
А потомъ заглохъ.
Люхановъ открылъ дверцу, высунулся и крикнулъ въ никуда, въ чащобу:
— Моторъ перегрѣлся! Конецъ!
Юровскій выпрыгнулъ изъ кабины, и его ступни мягко, коварно ушли въ трясину. Съ чавканьемъ онъ выдралъ ногу изъ болотины и изругался.
— Надо вѣтки стелить. Чортъ! Чѣмъ рубить?! Топоръ — взяли?! Хоть кто-то догадался?!
— Товарищъ комендантъ, что ты орешь, какъ на пожарѣ, — спокойно и насмѣшливо сказалъ Латышъ изъ кузова, — топора — нѣтъ, зато есть — вотъ что.
И Латышъ показалъ впередъ.
И всѣ посмотрѣли.
Впереди, на переѣздѣ, около желѣзнодорожнаго полотна, толстой церковной свѣчой торчала будка смотрителя.
— Тамъ воду навѣрняка найдемъ для мотора. А если по… какъ это по-русски?.. повезетъ?.. то и шпалы.
— Онъ правъ, — сухо вычеканилъ Юровскій. — Сергѣй! Ступай!
Люхановъ, стараясь наступать на пружинящую, опасную землю осторожно и вдумчиво, медленно побрелъ къ переѣзду.
…Люхановъ долго колотилъ въ дверь будки. Наконецъ что-то живое внутри зашевелилось, загрохотало замками. Еще не открыли дверь, сначала опасливо, нарочно басовито спросили:
— А хтой-то?
— Баба, а мужикомъ прикидывается, — сердито пробормоталъ Люхановъ. Громко крикнулъ:
— Изъ ЧеКа! По заданію! Грузовикъ въ болотѣ застрялъ! Моторъ согрѣлся! Воды надо!
Замки клацнули, и дверь отъѣхала. Толстая сторожиха, зѣвая, какъ звѣрь, во всю глотку, ощупала Люханова маленькими желтыми, рысьими глазками.
— Ишь, медвѣдь! Шатаются тутъ по лѣсу…
Люхановъ, озлившись, рванулъ дверь и открылъ шире. И указалъ бабѣ впередъ, на дорогу.
— Вонъ она, машина!
Сторожиха приставила ладонь ко лбу. Вглядѣлась. Увидала мужскія фигуры, и винтовки за плечами, и револьверы на поясахъ въ кобурахъ. Лицо ея сразу оплыло внизъ, а брови напуганно поползли вверхъ.
— Вы тутъ почиваете, баре… а мы вотъ всю ночку работаемъ!
— Да ужъ чую, чую… погодь, милокъ… водичка есть, есть…
Загремѣла ведромъ. Изъ огромнаго бака, дрожащей рукой отвернувъ кранъ, наливала воду. Тяжко тащила ведро — налила всклень.
— На-ка вотъ… держи… не серчай…
Люхановъ взялъ ведро и пошелъ къ грузовику, а баба истово перекрестилась.
На полдорогѣ шоферъ остановился и крикнулъ сторожихѣ:
— Эй, баба, а шпалы, шпалы у тебя — есть?
Она, прижавъ толстый кулакъ ко рту, только кивала — голосъ пропалъ.
…Бойцы брали шпалы, сложенныя близъ сторожихиной будки, и тащили ихъ къ грузовику, и стелили передъ его желѣзнымъ носомъ.
— Ничего! Не робѣй. Преодолѣемъ.
— Да вшивое болото, конешно. Ништо.
— Да настилъ-то тоже… вшивенькій.
— Не бойсь.
— Утопнемъ тутъ… со всей энтой царской братіей…
Попрыгали въ кузовъ. Люхановъ вскочилъ въ кабину.
Юровскій такъ и сидѣлъ въ кабинѣ, не вышелъ.
Грузовикъ тронулся. Очень медленно, захватывая колесами пядь за пядью, проѣхалъ по настилу. Подъ колесами отвердѣло. Грузовикъ, будто обрадованный звѣрь, устремился впередъ, ходу прибавилъ. Люкинъ хлопнулъ Михаила по спинѣ.
— Ну вотъ! Што жъ я балакалъ! Вырвались!
Покосился на дѣвичій трупъ рядомъ. Кружева въ крови.
— А эти… ужъ не вырвутся.
За великой княжной лежалъ цесаревичъ.
Мальчикъ лежалъ головой къ ногамъ сестры. А ногами — къ ея головѣ.
Они лежали адскимъ валетомъ.
…Еще пару, тройку верстъ ѣхали лѣсомъ. Проселочная дорога превратилась въ лѣсную — корявую, неровную, то узкую, то широкую, то заросшую травой, то идущую сквозь буреломъ; недавніе дожди щедро, кисельно размочили ее, и грязь тутъ, подъ тяжелымъ пологомъ елей и березъ, не высыхала.
— Грязюка не болото! Проскочимъ!
— А мы-то одни какъ съ этими… справимся?
— Не знаю. Руками! Ногами!
Ляминъ смотрѣлъ на ржавую грязную, съ комьями земли, лопату и канистры въ углу тряскаго кузова.
«Канистры съ бензиномъ. А лопата — понятно, для чего».
Посмотрѣлъ на свои руки.
«Насъ всѣхъ, считая съ шоферомъ и комендантомъ, шестеро. Да Юровскій руки марать не будетъ».
Дверца кабины пріотворилась. Донесся голосъ Юровскаго:
— Коптяки скоро! Приготовиться встрѣтить товарищей!
«А вотъ и отвѣтъ. Вотъ и помощь».
Лѣсъ рѣдѣлъ, дорога ровнѣла, небо свѣтлѣло все мощнѣе.
…Всадники и люди въ пролеткахъ маячили впереди. Ляминъ прищурился, старался разсмотрѣть.
«Чей отрядъ? Чьи люди? Юровскій все предусмотрѣлъ. Обо всемъ позаботился. Много ихъ!»
Ближе подъѣхали. И конные двинулись имъ навстрѣчу. Дальній голосъ донесся — кричалъ верховой:
— Товарищъ Юровскій?!
Юровскій высунулся изъ кабины.
— Товарищъ Петръ!
«Ермаковъ. Люди Ермакова. И быстро же онъ ихъ собралъ! Какъ ягоды!»
«Да тутъ все надо дѣлать быстро. Иначе — гибель».
«Гибель? Какая?»
«А ты что, о чехахъ уже забылъ? Можетъ, чехи уже тутъ. Подъ тѣмъ кустомъ сидятъ».
Конные подскакали, грузовикъ затормазилъ. Отрядъ окружилъ машину.
Грузовикъ съ бойцами и трупами царей стоялъ на проселочной дорогѣ; лѣсъ шумѣлъ позади, и лѣсъ шумѣлъ впереди. Различимы были коптяковскія избы. Около избъ топтались люди. Рано вставали, задавали кормъ скотинѣ. Видѣли отрядъ и грузовикъ; любопытствовали.
«Понятно, разглядываютъ насъ. Надо скорѣй убираться».
Юровскій спрыгнулъ съ подножки грузовика.
Лица конныхъ черныя, странныя, будто въ сажѣ; а есть и красныя. Будто въ варенье обмокнутыя. И дико шатаются въ сѣдлахъ.
— Эгей! Комиссаръ! У тебя цари?
— У меня! — крикнулъ Юровскій, блѣднѣя.
— Такъ давай! Давай ихъ намъ сюда!
Блѣдность парнымъ молокомъ заливала скулы Юровскаго.
Всѣ будто кровью измазаны. Лошади храпятъ, шарахаются. Прижимаютъ уши. Хохотъ и смѣхъ откровенный, гадкій. Глотки раструбами выпускаютъ ругань, перегаръ, страшныя шутки.
Ляминъ и Люкинъ встали въ кузовѣ во весь ростъ. Глядѣли на отрядъ.
Ермаковъ подъѣхалъ на ворономъ конѣ, угольно-черный крупъ коня отливалъ густо-синимъ огнемъ, длинная грива неряшливо спадала на холку. Конь сытый, ребра не торчатъ, какъ у скелета, хорошо кормленый.
— Яковъ! Эй! Яковъ!
— Ну что?!
— Что ты такой бѣлый, какъ булка! А-хахаха!
— Спасибо за людей!
— Да ужъ не за что! Общее дѣло!
На коняхъ сидѣла пьяная красная, веселая и злая толпа.
Ляминъ обводилъ всѣхъ глазами, они всѣ смотрѣли на Лямина.
— А ето хто ето такой рыжай?!
— Дакъ нашъ жа! Краснай!
— И то вѣрно, красный боецъ…
— Ну давай, сбрасывай намъ ихъ! Поперва — княжонъ!
— А потомъ и старуху, мать ея!
— А какая разница! Старуха, два уха, все равно!
— Щасъ потѣшимся, братцы!
— Ищо какъ!
Латышъ и Кудринъ перемахнули черезъ бортъ кузова.
Люкинъ пробормоталъ:
— Оне, энто… хотятъ — ихъ… мертвенькихъ?..
Юровскій набрался духу и крикнулъ:
— Мы! Ихъ — разстрѣляли!
Обернулся къ Лямину и Люкину.
— Сгружай!
Ляминъ звякнулъ крюкомъ, откинулъ дощатый бортъ.
Ему надо было поглядѣть на трупы. Надо было видѣть ихъ, видѣть теперь все время.
И это надо было себѣ приказать дѣлать.
«Гляди! Гляди! Не отворачивайся!»
Глаза скользили, падали вбокъ и внизъ.
Сашка и Ляминъ взяли первый трупъ и кинули на землю.
Это былъ трупъ великой княжны Ольги.
Кони танцовали около трупа. Изъ пролетокъ вопили:
— Давай! Давай ее скорѣй сюда! Тяни!
Конный ненавидяще метнулъ взглядъ на Лямина.
— Что вы намъ тутъ… она же — падаль!
Голоса поднялись, развернулись угрюмымъ вѣеромъ:
— Мы же… живыхъ хотѣли!
— Давай живыхъ!
— Живыхъ тащи!
— Мать вашу!
Ляминъ уже прямо, не опуская глазъ, смотрѣлъ на следующій трупъ.
«Пускай только не стошнитъ. Все перетерплю».
— Давай, Сашка, хватай.
Это была дѣвица Демидова.
Сбросили.
Толпа недуромъ заревѣла.
— А-а-а-а!
— И эта — тоже трупъ!
— Катафалкъ пригнали!
— Дря-а-а-а-ани!
— Гдѣ живыя княжны?! Гдѣ?!
— Гдѣ — царь?! Живой! Самъ его буду казнить!
Юровскій, ощупавъ маузеръ на боку, всталъ передъ конными.
Кони храпѣли, взбрыкивали. Всадники наѣзжали конями на застывшаго ледянымъ комомъ Юровскаго.
— Что жъ вы ихъ намъ — мертвыми — приволокли?!
— Уволакивай мертвяковъ обратно! Тащи живыхъ! Живыхъ!
Сжимали и разжимали кулаки. Матерились такъ, что воздухъ вокругъ стоналъ и трескался.
— Обманка! Не пойдетъ!
— Ты жъ намъ говорилъ — живьемъ привезутъ!
Столпились вокругъ Ермакова. Съ пролетокъ тоже истошно кричали и махали руками.
Юровскій завопилъ:
— Казнь совершилась!
Прямо къ мордамъ коней нагло пошагалъ Латышъ. Оскалился по-конски; и по-конски на лошадей — захрапѣлъ. Они попятились. Верховые схватились: кто за револьверы, кто за эфесы шашекъ.
— Совершили! А намъ — обѣщали!
— Я самъ хотѣлъ царя растерзать! Самолично!
— Да мы васъ самихъ сейчасъ…
Латышъ еще и еще шагнулъ впередъ. Почти подъ копыта коней. Кони ржали и косились пучеглазо. Латышъ поднялъ руку. Изъ маленькаго, плюгаваго, изъ него текла странная всепобѣждающая сила, жаркій потокъ, сметавшій на пути любое сопротивленіе, любую чужую волю.
— Именемъ Чрезвычайной Комиссіи! Телеграмма отъ Ленина была. Приказъ вождя!
Молчаніе. Слышны стали нестройные звуки утра.
Пѣли птицы. Жужжали жуки. Кричали, будто смѣялись, пѣтухи.
Далеко свиристѣлъ рожокъ пастуха.
А еще дальше, у призрачной кромки полей, на границѣ земли и небесъ, сухо цокали выстрѣлы.
«Охотники? Или — наши палятъ? Или… можетъ… бѣлые… уже…»
Пьяные люди, желавшіе во что бы то ни стало крови, мести, охолонули.
— Ну если приказъ Ленина…
— Ленинъ, слышь, самъ велѣлъ…
— Самъ…
— У васъ телѣги — есть? — крикнулъ Юровскій.
— Яковъ! Откуда телѣги? — отвѣтно крикнулъ Ермаковъ.
Вороной конь подъ нимъ нервно прядалъ ушами; грива отсвѣчивала темнозеленой болотной травой.
Толпа снова зашумѣла. Кони заржали.
— Еще и телѣги имъ!
— Вонъ, пролетки!
— Не могли у крестьянъ забрать, — зло вышепталъ Юровскій.
Ермаковъ поднялъ голову и крикнулъ Лямину и Сашкѣ:
— Давай живѣй, расторопнѣй! Время! Время!
«Время, собака, оно давно застыло, сдохло».
Сбрасывали трупы наземь, а пьяные люди Ермакова — заводскіе рабочіе, бывшіе казаки, еще съ царскими у пояса шашками, красноармейцы изъ частей Уралсовѣта, голь и бродяги, вставшіе подъ красное знамя, прислуга и половые, грузчики и посыльные, батраки и бакенщики, что захотѣли лучшей жизни, — подхватывали ихъ и жадно, хищно обыскивали, и, кажется, какъ волки надъ добычей, щелкали зубами. Совали руки, пальцы въ карманы, за пазухи, и руки тутъ же пачкались кровью, и руки не стѣснялись и не боялись трупнаго холода — сновали, ныряли, дрожали, перебирали, толкали, цапали и тащили.
«Руки. Это же грабли. Онѣ сейчасъ все… пограбятъ…»
Сашка, изъ кузова, зацѣпивъ воздухъ раздутыми ноздрями, заполошно крикнулъ Юровскому:
— Товарищъ комендантъ! Карманы царямъ чистятъ!
Юровскій выхватилъ револьверъ и выстрѣлилъ въ небо. Разъ, другой.
— Прекратить кражу! Всѣхъ — разстрѣляю!
Ермаковъ тоже вынулъ револьверъ и вскинулъ надъ головой.
И тоже выстрѣлилъ. Одинъ разъ.
— Эй! Всѣхъ положимъ! Грабить — отставить!
Черныя осьминожьи лапы волосъ Ермакова ползли въ стороны надъ ушами, надъ висками.
Конные попрыгали наземь, хватали трупы за ноги, за руки, за головы, подъ мышки и тащили къ пролеткамъ.
— Эй, ребятня! На нихъ штой-то напялено.
— На бабахъ?
— Ну да! Какіе-то, мать ихъ, корсеты… особенные…
— И тверденькіе такіе! Какъ, шутъ знатъ, желѣзные…
— Можетъ, отъ пуль защиту какую удумали?
Юровскій шагнулъ къ трупамъ. Рядомъ лежали Татьяна и мать.
Онъ положилъ руку на грудь царицы. Быстро ощупалъ.
Потомъ прикоснулся къ груди Татьяны. Ткнулъ пальцемъ. И всей пятерней.
Быстро, все и сразу, понялъ.
Заоралъ надсадно:
— Трупы — раздѣнемъ догола! Но не здѣсь! Слышите! Не здѣсь! А тамъ, гдѣ будемъ хоронить!
— Пролетки всѣ ужъ забиты, товарищъ Яковъ! — крикнулъ Латышъ.
— Чортъ, чортъ… Кто въ грузовикѣ?
Ляминъ и Люкинъ переглянулись.
Въ грузовикѣ лежали докторъ Боткинъ, цесаревичъ, Марія и царь.
Алексѣй и Марія такъ и лежали: валетомъ.
Люхановъ высовывался изъ кабины. Ждалъ.
— Трогай!
Медленно покатилъ впередъ грузовикъ. Сашка и Михаилъ сѣли на дно кузова. Ляминъ сѣлъ прямо въ натекшую на доски кровь. Ничего не чувствовалъ. Портки кровью пропитались. Сашка дернулъ Мишку за рукавъ:
— Сдвинься, эй. Въ кровищѣ сидишь.
Ляминъ не шевельнулся.
##
Разсвѣтъ набиралъ силу. Всѣ спрашивали другъ у друга: куда ѣдемъ? Гдѣ это урочище? Гдѣ это чортово мѣсто? Куда мы ихъ дѣнемъ? А можетъ, сжечь? А можетъ, порубить въ куски, да голодные звѣри — найдутъ и съѣдятъ?
Юровскій послалъ конныхъ разыскать урочище.
— Урочище Четыре Брата, — бормоталъ, двигая губой, слизывая потъ, хотя жары никакой не было, — урочище… четыре сестры и братъ…
— А лопаты-то захватили? — Ермаковъ, наклонившись съ коня, постучалъ въ окно кабины.
Юровскій плюнулъ и распахнулъ на медленномъ ходу дверцу.
— Забыли, въ бога душу! Одну, вродѣ, взяли…
— Съ одной — провозимся до полудня! До вечера!
Ермакова затрясло.
Латышъ сидѣлъ въ пролеткѣ и держалъ трупъ Татьяны за колѣно. Другой рукой возилъ ей по груди.
— Все узнаютъ, знаютъ… — шепталъ Юровскій.
— Надо скорѣй! — кричалъ Ермаковъ.
— Заплутали мы! — издалека, рупоромъ приставивъ ладони ко рту, кричалъ трясущійся въ пролеткѣ Кудринъ.
Ермаковъ, скача рядомъ съ машиной, тоже скривился:
— Да потеряли мы эту дорогу, Яковъ!
— И что теперь?
Юровскій попытался стать безтрепетнымъ. У него получилось.
— Ничего! Ты усталъ? Можетъ, поѣдешь домой? Дамъ коня! А мы — тутъ все — безъ тебя довершимъ!
Юровскій жестко блеснулъ глазами.
— Никуда не поѣду!
— Воля твоя…
…Сашка, въ кузовѣ, лазалъ руками по груди Маріи. Ляминъ отвернулся, чтобы не видѣть этого.
«Она уже не она. Это трупъ. Это… скоро сожгутъ. И бросятъ въ шахту».
Все въ немъ взорвалось, и ошметки сердца полетѣли въ стороны, кровавые.
«Нѣтъ! Это она! Она!»
— Мишка… а Мишка… ты гляди-ка!.. ты знашь!.. тутъ у ея и правда… и вѣрно!.. што-то такое… выпуклое… вродѣ какъ стальное… али камни, кругляши какіе-то… вотъ, нащупалъ!.. а поглядѣть?.. ну какъ ножомъ разрѣжу… я немного… я просто надпорю… да разверну, епть, чуть-чуточку…
Сашка вынулъ изъ кармана складной ножъ, раскрылъ его и распоролъ тонкую прочную нить.
Запустилъ руку.
— Ой-ёй… Ёнда-шлёнда… каменья… Мишка, святой истинный крестъ…
Рука въ крови. Ладонь красная. Вытащилъ руку. Разжалъ пальцы. На ладони лежала горстка мелкихъ и крупныхъ, разнокалиберныхъ, тщательно отграненныхъ брильянтовъ.
«И это она… подъ сердцемъ носила…»
Медленно двигался впередъ погребальный красный царскій поѣздъ.
— Мишка!.. Да ты глянь! Што морду воротишь!.. Вѣдь энто жъ богатство цѣльное… До конца жизни — нужды знать не будемъ!.. Ей-бо!.. Ну давай, што жъ ты сидишь какъ каменный, што ждешь… Што ждемъ-то, а!..
Ляминъ медленно, очень медленно повернулъ къ Сашкѣ голову.
— До конца жизни?
— Да што жъ ты такой тугодумъ, а… Пока ѣдутъ, а… Ну пока телепаюцца!.. Вѣдь такое везенье… а… разъ въ жизни быватъ!.. Ну не таращься на меня, какъ лягва въ пруду… очнися, Мишка, очнись!
Ляминъ смотрѣлъ и не видѣлъ, и вдругъ какъ повязку рванули съ его глазъ, и онъ слишкомъ близко, до испуга близко, увидалъ Маріино лицо.
Вродѣ бы она приподнялась надъ дномъ грузовика и плавно полетѣла впередъ, и подлетѣла къ нему, и глаза ея были закрыты; но она медленно распахнула вѣки, и Мишка тоже весь подался впередъ, качнулся впередъ, ближе къ этимъ глазамъ, — а они были синіе, слишкомъ синіе, такимъ бываетъ небо въ іюлѣ въ жаркій, истомный полдень. Такое небо въ Жигуляхъ. Когда рыбалить поплывешь на лодкѣ; и полдень, и пчелы на близкомъ берегу, ихъ гундосое нѣжное жужжанье еле слышится; и синева льется въ душу; и облака громоздятся, наваливаются другъ на друга, раскидываются кружевными подзорами.
Висѣла она передъ нимъ, плыла, и онъ хотѣлъ вытянуть руки, чтобы ощупать ее: жива, и летитъ! — и не могъ.
— Мишка… ешкинъ котъ… да што съ тобой?!
Голова Юровскаго показалась надъ краемъ кузова, сзади, гдѣ отогнутъ былъ бортъ.
Онъ сразу понялъ, по хищному сумасшедшему блеску Сашкиныхъ глазъ, что къ чему.
Наставилъ револьверъ.
— Если кто только тронетъ трупы! Всѣхъ застрѣлю и рядомъ съ ними — закопаю!
Люкинъ поднесъ ладонь къ фуражкѣ.
— Да мы… да энто! Да никогда! Пальцемъ не…
Голова Юровскаго исчезла. Будто, отрубленная, укатилась въ кусты.
Уже отъ кабины онъ крикнулъ:
— Ляминъ, Люкинъ! Трогаемъ! Верховыхъ послалъ развѣдать, гдѣ шахта! Движемся за ними! Вамъ — оставаться въ грузовикѣ и стеречь трупы! Пуще глаза!
— Есть пуще глаза, — безъ голоса сказалъ Люкинъ, не отнимая руки отъ виска.
##
Впереди скакали патлатый Ермаковъ и его помощникъ, бывшій кронштадтскій матросъ Вагановъ. Юровскій выслалъ впередъ еще двухъ конныхъ — искать шахту. Вся процессія двигалась за ними, не теряя изъ виду крупы командирскихъ коней и ихъ развѣвающіеся хвосты.
Лѣсъ сгущался. Разсвѣтъ разжигался и пылалъ, солнце поднималось надъ лѣсомъ, а лѣсъ темнѣлъ, и гуще, горячѣе плыли его сумасшедшіе ягодные, грибные запахи. Деревья становились все выше, росли будто на глазахъ.
— Вѣдьминъ лѣсъ, — съ тоской выдавилъ Сашка, — въ такомъ лѣсу… лѣшіе сожрутъ тебя и косточки плюнутъ…
Грузовикъ тарахтѣлъ. Люхановъ велъ машину осторожно — помнилъ болото близъ переѣзда.
— Люди! — крикнулъ Сашка и всталъ въ кузовѣ, какъ на кораблѣ впередсмотрящій.
И тутъ же свалился: грузовикъ сильно качнуло.
— Матерь въ бога…
Онъ упалъ на цесаревича.
Скатился съ него. Оглянулся брезгливо.
— Я, кажись, ему рожу помялъ…
Ляминъ смотрѣлъ на стоящихъ на дорогѣ крестьянъ.
Въ лаптяхъ, въ онучахъ; въ рукахъ туеса и корзины.
Всѣ мужики заросшіе, какъ лѣсовики, бороды до пояса, гуще, чѣмъ у іереевъ.
Конный Вагановъ подгарцовалъ къ мужикамъ. Грозно крикнулъ:
— Откуда такіе?
Мужикъ съ черной густой бородой и съ черными толстыми, какъ двѣ сытыя піявки, бровями засопѣлъ и выпустилъ хрипатыя слова сквозь мохнатый ротъ:
— Коптяковскіе, батюшка. Вона оттудова. — Рукой махнулъ. — По грибы отправилися!
— По грибы, вижу.
Вагановъ повернулся къ Ермакову.
— Командиръ, а это не засланные? Это не насъ бѣлые ущупываютъ?
— Съ такими-то бородами?
Ермаковъ усмѣхнулся.
— Нѣтъ, мужики, понятно, и есть мужики! Настоящіе! Но вѣдь и бѣлые настоящіе тоже.
— Грибы?
— Шутить бы тебѣ, Петръ…
— Давайте обратно! Поворачивай, говорю! Въ Коптяки!
— А съ чего это ради? — Черный бородачъ крѣпче сжалъ плетеную ручку корзины въ волосатой ручищѣ.
— А съ того!
Вагановъ выхватилъ оружіе. Мужикъ пристально поглядѣлъ на револьверъ и загребъ рукой воздухъ, обращаясь къ мужикамъ:
— Айда по избамъ. Бабы седня жарехи не дождутся.
…Солнце поднималось радостно и неуклонно и дикимъ яблокомъ выкатилось изъ-за верхушекъ елей и сосенъ, и закачалось надъ дурманнымъ, пьянымъ лѣсомъ, когда показались посланные на развѣдку верховые.
— Сюда поворачивай! — махали они руками. — Нашли! Нашли!
— Нашли чортову шахту, — радостно сказалъ Сашка.
Грузовикъ въѣхалъ въ лѣсъ, немного протянулъ впередъ по сужавшейся межъ деревьевъ дорогѣ — и внезапно сталъ осѣдать внизъ, въ землю. Проваливаться.
Юровскій и Люхановъ быстро выскочили изъ кабины. Юровскій заоралъ недуромъ:
— Бойцы! Скидывай трупы! Въ яму попали!
Переднія колеса, къ счастью, застряли межъ двухъ деревьевъ, и тѣмъ самымъ словно бы держали грузовикъ, и дальше въ яму онъ не валился.
— Заднія колеса висятъ!
— Давай, давай, быстрѣй кидай ихъ!
Юровскій кричалъ народу въ пролеткахъ:
— Стопъ! Стопъ! Сейчасъ изъ кузова вамъ на пролетки трупы сгрузимъ!
— Откуда тутъ яма?
Ляминъ невидяще глядѣлъ на Сашку Люкина.
— А песъ ее разберетъ, — безпечно отвѣчалъ Сашка, — може, какія разработки тута… шахты вѣдь… може, старенькая шахтенка какая… а мы въ ее — улькъ…
Сашка сваливалъ трупы. Ляминъ и Юровскій стояли внизу и принимали.
Сначала Сашка свалилъ царя. Царь былъ совсѣмъ легкій, Ляминъ даже удивился, — кожа да кости.
«Видать, ничего не ѣлъ въ послѣдніе дни, исхудалъ, что-то чувствовалъ, можетъ».
Бѣгомъ оттащили въ пролетку.
— Ты… царя-то бережнѣй вези.
Смѣхъ заколыхался, огнемъ опалилъ сосновые ближніе стволы.
Подъѣхала другая пролетка. Комендантъ и Ляминъ волокли доктора Боткина.
Этотъ — руки оттягивалъ, не хуже гири. Будто хотѣлъ ихъ, могильщиковъ, своею тяжестью пригнуть и съ собой въ землю — уволочь.
— Сюда еще кто уберется?
— Уберется! Смѣло! Тащи!
Юровскій и Ляминъ побѣжали за оставшимися.
— Мальчишка остался и княжна.
— Какая?
Трудно было выговорить. Но онъ сказалъ. Теперь ужъ все равно.
— Марія.
— Ясно. Давай скорѣй. Шевелись!
Сашка грубо сталкивалъ внизъ трупъ. Они ловили.
…и онъ принялъ ее на себя, чуть согнулся подъ этой уже мертвой и кровавой тяжестью, но все равно нѣжной и единственной, и странно зашуршали мертвые камни, вываливаясь, будто вытекая алмазной кровью изъ хищнаго разрѣза у нея на лифѣ, и ему было плевать, что это самоцвѣты, что она цесаревна, что она мертвая; онъ принялъ на руки и понесъ свою любовь, и то, что она мертвая, ему тоже уже было все равно.
Все равно онъ ее любилъ, онъ только теперь это понялъ, — но любовь эта была странной, ни на что не похожей; такъ люди на землѣ не любятъ, надъ такой любовью люди смѣются, она ихъ бѣситъ, они глумятся надъ ней и показываютъ на нее пальцами: глядите, глядите! Двое сумасшедшихъ!
…да, мы двое сумасшедшихъ, и ты и я, ты цесаревна, а я мужикъ, и то, что насъ свела жизнь, это неспроста; она свела насъ для того, чтобы я понялъ — не одна только насмѣшка, не одинъ подлый и грязный глумъ есть въ мірѣ, не одна издѣвка, не одно пресмыканіе и выслуживаніе передъ сильными; а есть еще чистота, вотъ какъ въ твоихъ глазахъ, такая синева, есть это небо, я жъ на него никогда такъ близко не смотрѣлъ, а на тебя смотрѣлъ, и ты мнѣ его показала, ты сама была небомъ, и я въ тебѣ купался. А сейчасъ я опять на землѣ, на грязной, кровавой землѣ; ну да ладно, это ничего, это такъ намъ положено, мужикамъ. И солдатамъ. Я солдатъ, и у меня только одинъ путь: винтовку въ руки, и пошелъ. А остальное — все равно.
…они оба несли мертвую дѣвушку, командиръ и солдатъ, и солдатъ понималъ: вотъ еще четыре, три шага до пролетки, и тамъ ее укроютъ тряпьемъ, чтобы ни деревья, ни звѣри, ни птицы, ни люди ее не видѣли; и пролетки потрясутся къ шахтѣ, и наконецъ до нея доѣдутъ. А что будетъ дальше? Извѣстно, что. Солдатъ шепталъ себѣ: ты больше ее не увидишь, никогда не увидишь, — и тутъ же горько спрашивалъ себя: да развѣ въ глазахъ и слезахъ все дѣло? Развѣ для того, чтобы любить, обязательно надо видѣть?
…я закрою глаза и увижу тебя.
…онъ несъ ее, уцѣпивъ подъ мышки, тащилъ надъ лѣтней многотравной, цвѣтущей землей. Онъ самъ въ нее стрѣлялъ, самъ убивалъ. Онъ самъ сейчасъ ее хоронитъ. Вотъ какъ бываетъ.
Подъ ногами качнулся бѣлый цвѣтокъ. Онъ вышепталъ: кашка, — и тутъ же подумалъ: Пашка.
…и опять это имя растаяло легкимъ синимъ туманомъ въ логахъ и лощинахъ.
Потому что онъ тутъ же подумалъ: Машка! — и сталъ повторять про-себя: Машка, Машка, — и сердце будто обливали густымъ, старымъ, горькимъ медомъ, и обкуривали горькимъ сизымъ самосадомъ.
Трупъ Маріи положили въ пролетку поверхъ трупа матери.
Сбѣгали къ грузовику. Онъ уже не проваливался — клещи древесныхъ стволовъ держали его крѣпко. Вынули трупъ мальчика и доволокли къ пролеткамъ.
Всѣ трупы укрыли темнымъ сукномъ.
Не для всѣхъ труповъ хватило пролетокъ.
Юровскій приказалъ мастерить носилки — и лопатой рубили молодыя деревца, привязывали къ нимъ простыни и брезентъ, клали несчастныхъ и такъ несли. Пролетки, подводы и люди съ носилками двинулись дальше въ лѣсъ.
Лѣсъ шумѣлъ.
— А далеко-то еще? Эй, товарищи!
Эхомъ отдавались голоса въ лѣсу, таяли среди деревьевъ, солнечныхъ тонкихъ лучей и хвойныхъ терпкихъ запаховъ.
— Да нѣтъ! — кричали верховые. — Ужъ близехонько!
…Ляминъ подошелъ близко къ шахтѣ и заглянулъ внизъ.
Въ шахтѣ стояла вода.
«Или дожди, или подземныя тутъ воды. Давно шахта заброшена».
— Что добывали тутъ?
Обернулся къ Юровскому: онъ стоялъ за плечомъ.
— Золото.
Трупы разложили на ровной площадкѣ около шахты. Подъ ногами пружинила рыжая глина.
Юровскій смотрѣлъ на трупы и беззвучно считалъ ихъ. Какъ скотовъ, по головамъ.
— Пять, шесть… — Загибалъ пальцы. — Девять, десять… Одиннадцать.
Выдохнулъ.
— Фу, слава богу. Все! Эй! Слушай приказъ! Раздѣть всѣ трупы! Разложить костры! Будемъ одежду жечь!
Подходили и подходили изъ глуби утренняго, сырого и теплаго, пронизаннаго довѣрчивымъ солнцемъ лѣса все новые и новые бойцы. Хмель изъ иныхъ повывѣтрился. Кто-то глядѣлъ пьяно налитыми, красными глазами, мрачно молчалъ.
— Верховые! Стереги дорогу! Проѣзжихъ — гнать въ шею!
Красноармейцы оживились, наклоняясь надъ мертвыми дѣвушками.
— А какъ ихъ раздѣвать прикажете, товарищъ Яковъ?
— Пуговки разстегать — али ножичкомъ вспоремъ?
— Да каво тамъ разстегать… стаскивай все внизъ, отъ шеи къ пяткамъ, ядрена лапоть! Тебя што, бабу учить разсупонивать?!
Къ первой — къ Татьянѣ подобрались. Какой-то боецъ потрепалъ ее по выпачканной въ крови щекѣ.
— Налитая щечка… сладко ѣла, пила…
— Какое тамъ сладко, песъ знаетъ чѣмъ ихъ потчевали…
— Щи да каша, пища наша…
— А вѣдь и песъ-то знаетъ, какъ ее звали!..
— Да все равно… давай… рѣжь…
Ножами надрѣзали петли, срѣзали крючки и пуговицы. Съ Татьяны стащили кружевную бѣлую кофточку, въ которой ее разстрѣляли, и подъ кофточкой увидали разрѣзанный лифъ: его уже выпотрошили тамъ, въ подвалѣ. Освободили отъ дорогихъ побрякушекъ.
Солдаты, съ пересмѣшками, стащили этотъ раскромсанный лифъ, жадно ожидая увидѣть подъ лифомъ гладкую наготу, — а вмѣсто этого подъ лифомъ обнаружился плотный холщовый, изъ нѣсколькихъ слоевъ ткани, корсетъ. Въ немъ виднѣлись дыры отъ пуль.
И въ дырахъ этихъ нѣчто блестѣло, а тутъ лучъ ударилъ княжнѣ въ грудь, — да вспыхнуло такъ ослѣпительно, что солдаты зажмурились, а иные закрыли глаза ладонями.
— Охъ ты! Царица небесная!
— Иди ты… какая царица… это жъ княжна…
— Вотъ такъ блескъ! Это жъ…
— Сокровища ихнія!
— Царскія сокровища!
И слово: «сокровища!.. сокровища!..» — мгновенно облетѣло всю похоронную команду. Всѣ повторяли его, швыряли изъ губъ въ губы, и тутъ же другимъ передавали, и скоро всѣ — и солдаты, и командиры — знали: цари одѣты въ тайные жилеты, а въ жилетахъ — дополна сокровищъ, золота, серебра, брильянтовъ и самоцвѣтовъ.
Всѣ ринулись впередъ. Столпились надъ глиняной площадкой, гдѣ лежали мертвецы.
Тянули руки, головы и глаза. Тянулись всей плотью, любопытствомъ, жадностью, желаньемъ взять, украсть, унести навѣкъ. Съ собой. Шутка-ли, царскіе жемчуга! Золото царское!
— Гдѣ, гдѣ золото?.. Покажи… ну, кажи мнѣ его!
— Да вонъ, вонъ… видишь же!
— Я вижу. Эхъ и сверкаетъ!
— Да ты разрѣжь, разрѣжь ширше…
— Ё да ты мое, сколько ихъ тутъ… камешковъ…
— А вонъ, вонъ, видать, цѣпочка…
— Браслетъ торчитъ, ободъ вижу…
— Самъ ты ободъ! Это — застежка!
— Самъ ты застежка, это, могетъ-быть, гребень золотой… въ косу себѣ втыкала…
Глаза горѣли не хуже брильянтовъ. Руки обратились въ грабли и клещи.
Юровскій понялъ: если ринутся — не остановишь.
— Команда — слушай! Всѣ свободны!
Люди замерли. Глаза горѣли. Брильянты на окровавленной груди Таты сверкали и потухали.
— На охранѣ остаются четверо часовыхъ! Такъ! — Обвелъ глазами хищно дышавшую, горячую толпу. — Никулинъ! Теребиловъ! Люкинъ! Ляминъ! Изъ команды Ермакова остаются… Ермаковъ! Вагановъ! Груздевъ! Рахмановъ! Слѣпухинъ!
Люди стояли. Ждали.
Жадно скрюченные пальцы складывались, сжимались въ кулаки. Лица наливались мракомъ и послушаніемъ. Пьяные глаза моргали; таращились; суживались въ презрительныя щелки.
— Выполнять приказъ!
Юровскій сжималъ въ кулакѣ револьверъ. Но не стрѣлялъ.
Ермаковъ, рядомъ, сидѣлъ въ сѣдлѣ. И тоже не стрѣлялъ.
Ляминъ и Люкинъ стояли плотно, бокъ-о-бокъ. Ляминъ чувствовалъ тепло, идущее отъ Люкина.
«Сашка горячій какой. Печка. Возбужденный. Хотѣлъ камешки… покрасть…»
— Разъѣзжаемся! — провелъ рукой по воздуху сверху внизъ верховой, имени его Ляминъ не зналъ и никогда уже не узналъ.
Поворачивали коней.
Кто ругался, кто молчалъ.
Въ лѣсу, далеко, восклицала кукушка.
«Кукушка, кукушка, сколь лѣтъ мнѣ осталось… дней…»
Кукушка клекотнула: кукъ! — и замолкла.
И Ляминъ неожиданно весело, беззвучно разсмѣялся.
…и мрачно смолкъ.
…Они всѣ лежали лицами вверхъ на глиняной лѣсной огромной ладони — цари, ихъ вѣрные люди, ихъ врачъ. Всѣ — вверхъ лицами. Лишь одинъ наслѣдникъ лежалъ ничкомъ.
— Перевернуть мальчишку! — скомандовалъ Юровскій.
Его перевернули.
— Что ждете! Мы одни. — Юровскій сталъ странно пристукивать зубами. Будто у него болѣлъ зубъ, и онъ провѣрялъ его на боль нажимомъ. — Приступайте!
Григорій Никулинъ, съ большимъ охотничьимъ ножомъ, наклонился надъ Ольгой. Очень осторожно распарывалъ на ней тайный корсетъ. Подставлялъ ладони. Въ ладони сыпались жемчуга.
— Э, нѣтъ, такъ дѣло не пойдетъ. Дайте что-нибудь подстелить!
Юровскій, самъ жадно сверкая желтыми бѣлками, подоткнулъ подъ Ольгу грязный брезентъ.
— Какая грязища… почище не нашелъ…
— Гришка, если бъ мы знали…
— Все продумывать надо…
Солнце вольно гуляло межъ пахучихъ сосновыхъ вѣтвей. Брызгало золотомъ на склоненныя надъ трупами головы — нагія, въ кепкахъ, въ фуражкахъ.
Выгребали изъ разрѣзовъ камни; да они сыпались сами. Пальцы ловили скользкія отъ крови алмазины. Глаза, если бы могли, любовались. Но они уже не могли восхищаться и любоваться; въ виду волчьей, дикой казни любое любованіе выглядѣло гадкимъ, смѣшнымъ и даже идіотскимъ. Вотъ жадность — да. Эта одна — подлинная осталась.
— Не только въ лифахъ… камни… не только… на голыхъ шейкахъ… а — въ спеціальныхъ корсетахъ… въ доспѣхахъ… ахъ, хитрецы… ай, додумались… мы-то въ домѣ… чуточку поймали… пару рыбокъ… главное — здѣсь… здѣсь… главный уловъ…
Ляминъ слушалъ больное, восторженное бормотанье Юровскаго.
Солнце залѣзало все выше, выше. Съ Ольги выгребли, какъ показалось, все; перешли къ царицѣ.
— Подержи! — Никулинъ протянулъ Лямину ножъ.
Завозился въ крючкахъ.
На царицѣ было — лѣтомъ, странно — теплое, шерстяное платье со множествомъ мелкихъ крючковъ на спинѣ, отъ ворота на затылкѣ и ниже, вдоль по хребту.
«Ну да, ночью же подняли съ постелей; и надѣла — что потемнѣе, построже — фотографироваться. Чтобы на снимкѣ — строже, достойнѣй выглядѣть».
— Давай! — Рука протянулась за ножомъ. — Не могу тутъ копаться. Взрѣжу!
«Онъ о ней — какъ о рыбѣ говоритъ».
Рыбы, рыбы… Солнце померещилось чудовищнымъ золотымъ зеркальнымъ карпомъ, плывущимъ въ заводяхъ вѣтвей-водорослей.
— Боже мой! — вырвался вопль у Юровскаго.
Они наклонились надъ трупомъ Александры, Никулинъ разрѣзалъ сѣрый волглый, мѣстами алый и коричневый ледъ холста, многажды простроченнаго, и наружу вывалились груды брильянтовъ и золота. Дальше рѣзалъ Никулинъ. Обнажилась грудь мертвой. Выпитая пятью дѣтьми, обвисшая. Всѣхъ растолкалъ Петръ Ермаковъ. Присѣлъ передъ трупомъ.
— А ну разойдись! — рявкнулъ, и всѣ попятились. — Самъ я тутъ!
Руки забѣгали по плечамъ, по животу. Задрали, завернули на грудь юбку. Ляминъ глядѣлъ, какъ Ермаковъ, будто играючи, подхватываетъ изъ-подъ мышекъ старухи, изъ-подъ ея окровавленныхъ боковъ круглые рыбьи глаза жемчуговъ, золотую паутину цѣпочекъ.
И еще онъ глядѣлъ — и не ослѣпъ при этомъ, — какъ руки комиссара Ермакова ныряютъ въ исподнее, ищутъ тамъ, шарятъ, раздираютъ, пробираются; сдираютъ, какъ кожуру съ ошпареннаго яблока, нижнія юбки, панталоны; и суются дальше, подъ животъ, и скребутся по-кошачьи, и — замираетъ спина, голова вжимается въ плечи, и молчитъ Ермаковъ, и пыхтитъ. А Ляминъ смотритъ на это все, смотритъ.
«Надо отвернуться».
Шея занѣмѣла, и ему казалось — онъ повернетъ ее и сломаетъ.
— Вотъ… вотъ… — донесся до Лямина влажный шопотъ комиссара. — Теперь и помирать можно… я щупалъ у царицы манду…
Юровскій шагнулъ къ нему и далъ ему крѣпкій подзатыльникъ. Ермаковъ обернулся. Его лицо шло красными пятнами и глядѣлось, какъ въ коревомъ дѣтскомъ бреду.
— Ты что?! Спятилъ?! Давай, работай!
Ермаковъ липкими дрожащими руками разсовалъ по карманамъ то краденое, что судорожно, скользко каталось въ его пальцахъ. Юровскій сдѣлалъ видъ, что этого не увидѣлъ.
— Работаю, Яковъ!
Голосъ хриплъ и тяжелъ. Ухомъ — не поднимешь.
Разорвалъ послѣдніе крючки — на поясѣ. Сорочку разодралъ. Животъ царицы плотно обнималъ такой же холщовый, какъ и лифъ, поясъ. Ладони Ермакова гладили холстину, ласкали.
— Ахъ-ха… Вотъ тутъ-то и таится… что?.. Яковъ, слѣди…
Ножъ стальнымъ зубомъ хватанулъ холстъ. Раздался легкій трескъ. Ермаковъ отвернулъ лоскутья въ стороны. Подъ ребрами Александры и на ея животѣ плотными, сплошными рядами прижимался къ ея мертвой плоти, охватывалъ ее крупный жемчугъ.
Ожерелья, что носили ея предки. Драгоцѣнности нѣмецкихъ княжествъ. Колье временъ Екатерины. Жемчужныя бусы, что обворачиваютъ вокругъ шеи три, четыре, пять разъ. Сокровища русской короны: здѣсь жемчуга Елены Глинской, Маріи Нагой, Елизаветы Петровны, Анны Іоанновны. И, можетъ, даже Софіи Палеологъ. И Богъ знаетъ кого еще. Человѣческія слезы, вы — жемчугъ царей. Люди, васъ мучили! А они ваши мученья — съ торжествомъ — носятъ.
— Какая… красота…
«Нѣтъ. Это не красота. Это горе. Ужасъ».
Юровскій прохрипѣлъ:
— Осторожнѣй… Поддѣнь… руки подтисни подъ поясницу ей… не рви нить… гдѣ-нибудь да разстегивается…
Ермаковъ, сопя, возился, подтыкая ладони подъ спину старухи.
— Застежки, мать ихъ… Не найду… не чую…
— Тогда — рѣжь… но тихо… тихо!
Юровскій тоже наклонился. Оба наклонились надъ царицей, какъ надъ зарѣзанной коровой.
«И свѣжуютъ. Сейчасъ раздѣлаютъ».
Работали въ четыре руки. Ермаковъ рѣзалъ и бралъ, и вынималъ, и клалъ; Юровскій — ассистировалъ.
«И здѣсь онъ ученикъ хирурга. И здѣсь онъ — фельдшеръ».
Юровскій повернулъ голову къ бойцамъ.
— Григорій!
Никулинъ вытянулся. Скула въ крови вымазана.
— Найди гдѣ хочешь бумагу и карандашъ!
— Я все приготовилъ, товарищъ Яковъ.
— Будемъ дѣлать опись!
Царицыны жемчуга тихо лежали на широко разстеленномъ на лѣсной землѣ брезентѣ, посверкивали, переливались тайнымъ, рыбьимъ перламутромъ, отблескивали кровью, нѣгой постели и тончайшихъ простынь, навѣкъ убитой нѣгой бала, мечты, пробужденья подъ золотыми родовыми иконами.
…лѣсъ, и сосны, и старая затопленная шахта.
«Даже по-христіански не похоронимъ. Ни гробовъ. Ни могилъ. Ни креста. Ничего».
Рядомъ, на подводѣ, уже сидѣлъ красноармеецъ Груздевъ. На колѣнѣ желтую толстую бумагу разложилъ. Въ пальцахъ — свинцовый плотницкій толстый карандашъ.
— Наперво опишемъ брильянты! Ихъ тутъ даже больше, чѣмъ жемчуговъ!
Юровскій разогнулся. Держалъ въ крѣпко сжатыхъ кольцомъ большомъ и указательномъ пальцахъ огромный прозрачный камень. Поворачивалъ медленно, и камень испускалъ длинныя жесткія искры.
— Брильянтъ величиной съ яйцо перепелки! Форма — круглая! Номеръ одинъ!
Груздевъ, на подводѣ, выставивъ колѣно, черкалъ по бумагѣ толстымъ карандашомъ.
— Съ яй-цо пе-ре… А что дороже, товарищъ комиссаръ, алмазъ или жемчугъ?
— Оба хороши! — Юровскій скрипнулъ зубами.
Держалъ на вытянутой рукѣ, будто разсматривалъ на просвѣтъ рыболовную сѣть, жемчужное ожерелье. Ожерелье падало до самой земли и волочилось по ней.
— Номеръ два! Ожерелье изъ жемчуга! Жемчугъ круглый, отборный… думаю, морской… синеватаго оттѣнка!
— Жемьчухъ — хе на концѣ?
Никулинъ вспоролъ еще одинъ плоскій и твердый поясъ. Эта холстина залегала на старухиномъ животѣ подъ жемчугами. У него вырвался изумленный вопль.
— У-у-у-ухъ! Товарищъ Яковъ, вы никогда такого не видали! И я тоже.
Подъ утреннимъ солнцемъ дикимъ, первобытнымъ огнемъ пылали розсыпи брильянтовъ.
У Юровскаго глаза горѣли, какъ эти брильянты.
— Проклятье, — весело сказалъ онъ. — Да тутъ ихъ цѣлый пудъ!
— Пудъ не пудъ, а изрядно…
— Пополнимъ казну Совѣтской страны!
Бойцы торопко, брезгливо раздѣвали другихъ. Тѣла обнажались быстро и безповоротно.
«Да, безповоротно все. Не вернуть».
Ляминъ услышалъ трескъ и запахъ гари. Обернулся — Слѣпухинъ и Вагановъ уже разожгли костеръ.
Валежника вокругъ было много, сучья, вѣтки и стволы молодыхъ заломанныхъ березокъ то-и-дѣло бросали въ огонь, и скоро онъ заполыхалъ мощный, жадный.
Одежда царей лежала рядомъ съ огнемъ.
Всѣ они лежали на голой землѣ уже голые.
«Люди и земля. Какъ все просто».
— Что у нихъ на шеяхъ?!
Юровскій указывалъ на трупы дѣвушекъ.
Бойцы старались смотрѣть на голые дѣвичьи трупы равнодушно, но у нихъ не получалось.
На шеѣ у каждой изъ княжонъ чернѣлъ гайтанъ. И на гайтанахъ — образки.
— Снять иконы!
Никулинъ утинымъ шагомъ подошелъ къ самому маленькому, полудѣтскому трупу. Анастасія лежала мирно, будто спала. А красное на ея тѣлѣ — да это просто варенье, мама варила въ большомъ мѣдномъ тазу, еще кобургскомъ, семейномъ.
Наклонился, рванулъ гайтанъ, разорвалъ сразу, сильными ручищами; повертѣлъ образокъ.
— Никакой это не образокъ, товарищъ Яковъ. Это — тотъ разбойникъ!
— Какой еще?
— Распутинъ, въ бога мать!
— Распутинъ?
Никулинъ протянулъ Юровскому круглую дощечку съ портретомъ Распутина.
Юровскій даже не прикоснулся.
— Сжечь!
Къ кострамъ уже волокли одежду. Заваливали въ костеръ. Кружевныя тряпки, армейскіе штаны, бѣлыя лѣтнія кофточки, исподнія рубахи занимались тутъ же — костеръ солдаты развели могучій.
«Какъ бы лѣсъ не загорѣлся. А то и поджечь недолго. Вотъ урону будетъ».
Глаза сами искали и находили Марію. Онъ смотрѣлъ на нее, голую, уже не стѣсняясь. Не сводилъ съ нея глазъ.
«А что. Теперь ужъ все равно. Смотри сколько влѣзетъ. Сейчасъ все исчезнетъ. Кончится».
Вокругъ него гудѣли люди, гудѣлъ огонь, гудѣлъ на тепломъ, горячемъ вѣтру лѣсъ, а онъ не видѣлъ всего этого и не слышалъ, — онъ смотрѣлъ на Марію, и невѣдомая ему раньше отрада вдругъ сошла на него, обвѣяла и окутала его всего: и снаружи, и изнутри.
— Сумки принести изъ подводъ и пролетокъ!
Онъ не слышалъ крика Юровскаго. Уши какъ заложило, кто-то гораздо сильнѣе его отгородилъ его отъ всего, что происходило и должно было произойти.
Бойцы тащили большія кожаныя сумки со старыми, обмотанными бинтами, рваными ручками. Горстями, жадно и зло и радостно, хватали съ земли, съ распоротой холстины золото и камни и укладывали въ сумки. Клали поспѣшно, и второпяхъ роняли наземь то брильянтъ, то брошь, то перстень.
Сумки набили доверху. Три тяжеленныхъ, раздутыхъ сумки надо было донести до пролетокъ; Вагановъ и Груздевъ потащили первую, — какъ трупъ, оба, одинъ взялъ за одну ветхую ручку, другой за другую. Ручки оторвались. Сумка упала и неуклюже, тяжело перевернулась. Камни разсыпались.
— Собирай! — неистово закричалъ Юровскій.
Солдаты ползали по землѣ и собирали жемчуга и брильянты, ожерелья и перстни, и снова бросали въ сумку, и, другъ на друга не глядя, то-и-дѣло совали себѣ въ карманы то горящій огнемъ камень, то золотую бирюльку.
Донесли. Втащили въ пролетку. Вторую сумку несли бойцы, и третью, а еще на землѣ, близъ труповъ, оставались сокровища.
Юровскій кусалъ губы. Думалъ.
— Эй! Товарищъ Вагановъ! Скидай рубаху!
— А какъ же я безъ гимнастерки, товарищъ комиссаръ?
— Какъ, какъ! Скидывай рубаху и завяжи рукава узломъ!
Вагановъ понялъ. Уже гимнастерку стаскивалъ. Обнажалась волосатая грудь, на ней татуировка: синій парусникъ, и плыветъ къ солнцу; а на рукѣ, чуть выше запястья, ближе къ локтю, — орелъ несетъ въ когтяхъ женщину.
— Такъ она жъ по́томъ пахнетъ! Каменья — по́томъ солдатскимъ пропахнутъ!
— Такъ это же честь для царскихъ побрякушекъ!
И Вагановъ, и Юровскій, и Никулинъ — смѣялись.
У всѣхъ радостно глаза блестѣли. Каждый смогъ алмазную крошку, какъ встрепанный воробей, уворовать.
Ляминъ ничего не видѣлъ.
Онъ смотрѣлъ на Марію.
…она и голая, и мертвая, и въ крови была такъ хороша и свѣтла, что лѣсъ, шумя, замолкалъ. И смолкало все вокругъ. Небо падало тихимъ беззвучнымъ пологомъ. Оно закрывало ихъ отъ чужихъ глазъ и чужихъ жизней. У нихъ жизнь сейчасъ была одна на двоихъ. И это было такъ странно. Будто бы жизнь его, Лямина, кончилась, уже изошла на нѣтъ, и ему надо сейчасъ послѣдовать за ней, за этой дѣвушкой изъ другого, уже мертваго міра — туда, откуда онъ уже не вернется. Въ смерть.
…смерть, произнесъ онъ медленно и вдумчиво это короткое страшное для всѣхъ слово, вотъ она, смерть, и она наступитъ сейчасъ. Теперь. Ему вспомнилось, какъ въ дѣтствѣ, въ церкви, батюшка пѣлъ про жизнь безконечную, и то, какъ ему искренне, безоговорочно вѣрилось въ это.
Онъ вѣрилъ тогда во все, что ему говорили. Теперь онъ не вѣритъ даже тому, что видитъ. А вѣритъ въ то, чего нѣтъ, но что еще только будетъ: въ счастливое будущее, въ строительство Совѣтской страны, въ лучшую, счастливѣйшую долю. Для того, чтобы ея достигнуть, надо пролить много крови. И кровь этой голой дѣвушки, что сейчасъ лежитъ передъ нимъ на глинистой землѣ и смотритъ мертвыми свѣтлыми глазами въ небо, тоже пролита для этого.
Для того, чтобы сіяніе размахнулось на полнеба и охватило всѣхъ, всѣхъ. Каждую душу. Всякую жизнь.
Чтобы жемчугъ… покатился…
…глаза ея, почему они открыты? Она такъ и застыла съ открытыми небу глазами. Она не видѣла и не слышала ничего вокругъ, и онъ тоже; они сейчасъ стали слѣпы и глухи къ міру, такъ сильно захотѣвшему свѣта и счастья, что во имя этого счастья онъ образовалъ на этой, вотъ этой, теплой подъ ногами, землѣ величайшее несчастье. И имъ вмѣстѣ надлежало переплыть, пересѣчь это несчастье; и они хотѣли бы, да смерть оказалась очень ужъ рядомъ, такъ рядомъ, что отъ нея было уже не отбрыкаться. И то правда, эта дѣвушка, ея сестры и братъ, ея отецъ и мать и тысячи, милліоны другихъ людей умерли и еще умрутъ за счастье; только сами объ этомъ ничего и никогда не узнаютъ. А вѣдь умереть за счастье — большая честь, великое счастье.
Счастье! Оно такъ рядомъ. И смерть — рядомъ. Можетъ-быть, смерть и есть — счастье?
…стоялъ надъ голой мертвой дѣвушкой, смотрѣлъ на ея грудь и руки, на животъ и нѣжныя колѣни, и куда пропало желаніе, вѣчное вожделѣніе самца къ самкѣ; онъ обратился въ душу, и вмѣсто вымазаннаго кровью тѣла передъ нимъ лежала душа, нѣжная и сильная, какъ само это тѣло; сильныя плечи и сильныя красивыя руки, сильныя стройныя ноги и сильной красивой лѣпки лицо — все это были признаки иной силы, которая незримо тащила, вела за собой, уводила. Куда? Онъ не понималъ. Но шелъ, какъ слѣпой, и шепталъ, и молился, и радовался.
…а потомъ растерялся и потерялся.
…а потомъ понялъ, что случилось; и согнулся, будто ему перебили позвоночникъ; и накатили рыданья, да стыдно стало.
Извнѣ донеслись крики:
— Тащи къ шахтѣ! Бросай!
Въ его плечо вцѣпилась рука. Затрясла, больно, грубо.
— Ты! Мишка! Ты што, застылъ какъ ледяной! Всѣ работаютъ, а ты!
Сашка Люкинъ нещадно трясъ его.
У Лямина на спинѣ кожа поднялась частымъ гребнемъ, дрогнула и опала. Морозъ перебѣжалъ на грудь.
— Што зубами блямкаешь?!
— Ничего. Худо мнѣ стало. Но ничего. Я уже. Я сейчасъ, — безтолково говорилъ, выталкивая изъ себя слова, понятныя Сашкѣ.
— Ну ты… давай не придуряйся… слабость щасъ нельзя выказывать…
Сашка наклонилъ къ нему голову. Сочувствіе солено блестѣло въ его чуть навыкатѣ, рыбьихъ глазахъ.
— Ужъ чутокъ осталось…
Трупы тащили къ шахтѣ.
— Мишка! Ну очнися… валяй, бери…
Онъ наклонился и просунулъ руки Маріи подъ мышки.
— Вотъ такъ! А я — за ноги!
Сашка взялъ Марію сначала за щиколотки, потомъ выругался и подхватилъ подъ колѣнки.
— Такъ-то удобнѣй…
Лямину показалось, Марія застонала.
— Осторожнѣй, — вырвалось у него.
Люкинъ посмотрѣлъ на него, какъ на безумца.
Волокли къ шахтѣ молча.
И другіе бойцы тоже трупы молча волокли; бросали внизъ, и громко чмокала вода, глотая пищу изъ людей.
Люкинъ и Ляминъ поднесли Марію къ шахтѣ. Ляминъ смотрѣлъ на колѣни Маріи. На ея тонкія породистыя, какъ у красивой кобылы, щиколотки. Ему казалось — она еще тепла. Но, скорѣй всего, это ему лишь казалось.
— Кидай!
Онъ смотрѣлъ на ея грудь. Голая грудь. Слишкомъ нѣжная. А грудная клѣтка широкая, сильная. Крестьянская.
«Могла бы запросто снопы вязать. И жать могла бы».
— Што стоишь! Дай я столкну!
Люкинъ положилъ ноги Маріи на землю. Ляминъ все такъ же держалъ ее подъ мышки. Люкинъ схватилъ трупъ за лодыжки и заоралъ уже бѣшено, взорвавшись:
— Бросай, твою-жъ черезъ коромысло!
Онъ снова протиснулъ руки ей туда, гдѣ съ радостью, со счастьемъ грѣлъ бы ихъ, пряталъ и смѣялся, когда бъ она была жива. Потянулъ на себя, и внезапно, рѣзко она стала тяжелой, тяжелѣе стальной балки.
Люкинъ уже спустилъ ноги Маріи въ отверстіе шахты. Подскочилъ къ Лямину и цапнулъ трупъ за плечи.
— Все! Отпускай!
Ляминъ держалъ.
— Отпускай! Бросай, говорю!
Ляминъ не шевельнулся.
— Да што жъ энто, етишкинъ котъ…
Люкинъ ударилъ его по рукамъ. Зло и крѣпко.
— Бросай!
Онъ разжалъ руки.
Тѣло ушло внизъ, и скоро изъ глубины раздался влажный, громкій чмокъ и всплескъ.
Онъ стоялъ надъ шахтой, а къ шахтѣ все подтаскивали трупы.
Отъ костра — онъ еще пылалъ — пахло горѣлыми тряпками.
Солнце висѣло надъ верхушками сосенъ и березъ и больно било въ глаза.
Сбросили Ольгу и цесаревича. Дѣвицу Демидову и Татьяну. Лакея Труппа и Ольгу.
Когда сбрасывали въ шахту цесаревича — боецъ Вагановъ процѣдилъ, окидывая тѣло взглядомъ охотника, что скармливаетъ потроха собакамъ:
— Ишь, птенчикъ… Отлетался…
Подтащили царя.
Бойцы передъ тѣмъ, какъ столкнуть царя въ шахту, разсматривали его лицо и всѣ остальныя части тѣла. Хотѣли запомнить? Возненавидѣть? Или прощались — не съ нимъ: съ собой, прежде человѣками?
А кто жъ они сейчасъ?
— Сбрасывай царя, братцы!
И они сбросили его.
Еще одинъ чмокъ, послѣдній.
Кого послѣднимъ въ шахту бросили, Ляминъ не запомнилъ.
Онъ стоялъ, одеревенѣлый, безъ чувствъ и мыслей, и чисто и просторно было у него на сердцѣ — такой черный и пустой просторъ всегда на осеннемъ черноземномъ, полосами вспаханномъ полѣ, когда громоздятся надъ землей, пахнущей сырымъ картофелемъ и травой и грязью и предчувствіемъ скораго, перваго снѣга, громадныя, величиной съ тысячу дирижаблей, облака — и грудятся, и пухнутъ, и мерцаютъ сѣрой мышиной кожей, а потомъ вдругъ радужнымъ исподомъ рѣчной перловицы; и опять раздуваются и опадаютъ, и вѣтеръ медленно, важно несетъ ихъ вдаль и ввысь, далеко отъ черноты и погибели міра.
Такое черное поле разостлалось у него передъ глазами сейчасъ. Онъ стоялъ и смотрѣлъ въ черное узкое горло шахты, и ему слышались тамъ крики, шопоты и вопли. А еще въ зѣвѣ шахты вспыхивали огни. Это было странно и тревожно. Огни цвѣтные, алые и золотые, а то густо-синіе, и вдругъ неистово-зеленые, кинжальные. Можетъ-быть, это вспыхивали царскіе алмазы.
Алмазы остались жить, а тѣла, носившія ихъ, застрѣлили и утопили.
Каждая ихъ жизнь стоила всего богатства Россіи. Неужели идущія надъ землей облака несчислимыхъ крестьянскихъ, солдатскихъ, мужичьихъ и бабьихъ и дѣтскихъ душъ стоили такъ дорого, кроваво?
Ляминъ стоялъ и спокойно смотрѣлъ, какъ клонится подъ теплымъ низовымъ вѣтромъ трава у его ногъ, у его грязныхъ, въ крови, сапогъ. Мысли текли спокойно, печально и медленно. Даже и не мысли, а ихъ далекіе, горькіе отголоски.
«…тихо какъ… куда ушли… всѣ мы такъ…»
Ермаковъ крикнулъ:
— Товарищъ Яковъ! Ѣсть хочешь?
Ермаковъ нагнулся надъ пролеткой. Вытащилъ корзину. Поставилъ на землю. Откинулъ тряпку.
— Ого-го, сколько яицъ! Это что, монастырскія? Попробуемъ… какія у монашекъ курочки, м-м-м…
Вынулъ яйцо, разбилъ его широкимъ, лопатой, ногтемъ, выпилъ. Крякнулъ, какъ послѣ водки.
— Ничего курочки! Желточекъ знатный!
Юровскій подошелъ къ корзинѣ. Онъ еле тащилъ ноги. Везъ ногами по лѣсной травѣ.
— Вотъ пенекъ, товарищъ. Садись. Потрудились!
Юровскій задумчиво смотрѣлъ на яйца. Они аккуратно и вкусно лежали въ корзинѣ — разныхъ оттѣнковъ: чисто-бѣлыя, чуть желтоватыя, коричневыя, золотистыя, охряныя. Будто къ Пасхѣ лукомъ покрашенныя, а на дѣлѣ — отъ разномастныхъ куръ.
Запустилъ руку въ корзину. Думалъ, сваренныя; и черезчуръ сильно въ пальцахъ сдавилъ. Ермаковъ запоздало крикнулъ:
— Сырыя!
По пальцамъ, по ладони Юровскаго текли золотой желтокъ и жемчужный бѣлокъ и стекали за черный обшлагъ.
Онъ отряхнулъ руку, потомъ присѣлъ и крѣпко вытеръ руку о траву.
— Я жъ говорилъ, товарищъ…
Юровскій сѣлъ на пень. Пень торчалъ старый и сплошь замшелый. Мохъ сползалъ съ него зелеными ежами, мохнатымъ рыжимъ и сизымъ бархатомъ. Мхомъ обросъ даже распилъ. Юровскій брезгливо подковырнулъ мохъ, соскоблилъ его съ пня ребромъ ладони и усѣлся. Подвинулъ къ себѣ корзину. Уже осторожно, какъ драгоцѣнность, взялъ яйцо и странно, по-дѣтски, поглядѣлъ его на просвѣтъ.
— Ну? Что видишь? Цыпленка?
Юровскій вынулъ изъ кармана ножъ и ножомъ разбилъ яйцо.
— Курицу вижу.
Выпилъ яйцо однимъ глоткомъ. Повертѣлъ въ пальцахъ и бросилъ въ кусты скорлупу.
— Изъ всѣхъ цыплятъ, запомни, Петръ, вырастаютъ когда-нибудь страшныя взрослыя птицы. И у нихъ есть клювы и когти. Но у нихъ есть также бѣлое вкусное мясо, и ихъ можно ощипать.
Ермаковъ захохоталъ: шутка удалась.
И Юровскій сталъ вынимать изъ корзины яйца одно за другимъ, разбивать ножомъ и выпивать. Вынимать, разбивать и выпивать. Вынимать, разбивать и…
…эти яйца, вспомнилъ Юровскій, онъ попросилъ монашекъ принести для цесаревича.
А нынче онъ самъ себѣ былъ цесаревичъ.
И самъ себѣ царь; и самъ себѣ судья; и самъ себѣ палачъ; и самъ себѣ топоръ; и самъ себѣ пуля; и самъ себѣ могильщикъ. И самъ себѣ революціонный пролетаріатъ. И, главное, самъ себѣ — и Уралсовѣтъ, и Москва, и Питеръ, и Ленинъ, и Свердловъ.
Юровскій вытеръ ротъ тыльной стороной ладони и упряталъ ножъ въ карманъ. Завтракъ былъ оконченъ.
— Бойцы!
Красноармейцы подтянулись къ замшелому пню.
— Гранаты мы захватили вѣдь?
— Такъ точно, товарищъ Яковъ! — выкрикнулъ Груздевъ.
— Закидать гранатами шахту!
— Да вѣдь они мертвые, товарищъ…
— Исполнять приказъ!
— Слушаюсь!
…Бѣжали къ шахтѣ съ гранатами. Бросали внутрь и отбѣгали, и ложились.
Ляминъ все стоялъ.
— Ложись!
Люкинъ толкнулъ его, и Мишка упалъ.
Надъ его встрепанной рыжей башкой полетѣла земля, осколки, вырванная съ корнемъ трава.
Люкинъ лежалъ рядомъ, сопѣлъ возмущенно.
— Табѣ што, жить надоѣло…
— Нѣтъ. Жить — хочу.
«Сначала пуля, потомъ земля, потомъ вода, потомъ огонь. Вотъ и прошли они огонь, воду и мѣдныя трубы. И что? Гдѣ они теперь? Въ моихъ мысляхъ? А кто о нихъ еще думаетъ? Ихъ очень скоро забудутъ. Всѣхъ. А мы… мы нашъ, мы новый міръ построимъ… и тамъ имъ не будетъ памяти — совсѣмъ никакой. Ни даже крошечки».
Ляминъ поднялъ отъ земли голову. Неподалеку, въ густой травѣ, лежали оторванные взрывомъ женскіе пальцы.
Ляминъ свернулся на землѣ червемъ, лобъ уткнулъ въ колѣни, руки въ локтяхъ согнулъ — и такъ замеръ.
Сашка Люкинъ всталъ съ земли, отряхнулся. Ковырялъ пальцемъ въ оглохшемъ ухѣ, прыгалъ на одной ногѣ, будто воду послѣ нырянья изъ ушной раковины вытряхивалъ.
— Не трогайте его, ребята, — сказалъ бойцамъ, странно глядящимъ на скрученнаго на землѣ улиткой Лямина. — Не въ себѣ онъ. Прошибла его энта вся катавасія.
Ермаковъ подошелъ къ шахтѣ и заглянулъ въ нее.
Глубоко внизу, подъ черной водой, лежали трупы.
— Мертвый ты, песъ, — глухо, самому себѣ подъ носъ, сказалъ комиссаръ Ермаковъ.
Но на самомъ дѣлѣ онъ это сказалъ — царю.
##
…и уже все равно, что и какъ было потомъ. И что чекистъ Медвѣдевъ разсказалъ бойцу Люкину, а боецъ Люкинъ — бойцу Лямину. Царей вынули изъ шахты и захоронили еще разъ — потому, что чекисты, придя утромъ на рынокъ за продуктами, услыхали, какъ торговки межъ собой переговариваются и обсуждаютъ, гдѣ мертваго царя съ семьею, въ какомъ лѣсу, закопали. Ну и что? Испугались комиссары. Рѣшили такъ затаить могилу, чтобы никогда и никто не нашелъ, не отрылъ. Земля большая, тайга велика. Уралъ все скроетъ, все поглотитъ и закогтитъ.
И нашли новыя шахты по московскому тракту; и добыли керосина и сѣрной кислоты, чтобы трупы жечь и уродовать, чтобы превратить ихъ не въ подобіе людей — въ гнилое мясо, въ мѣшки костей; и взяли изъ тюрьмы телѣги и лошадей, безъ кучеровъ, правили сами; и вернулись къ старой шахтѣ; и вытащили царей изъ того золотоноснаго рудника.
Пылали факелы. Матросъ Вагановъ спустился въ шахту и стоялъ тамъ во мракѣ, по грудь въ ледяной и черной водѣ. Ваганову спускали веревки, онъ обвязывалъ ими трупы, кричалъ: майна, майна! — и веревки тянули вверхъ. Такъ вытянули на поверхность земли всѣхъ, кто уже понюхалъ глубину земли и вѣчный покой; и отволокли далеко въ лѣсъ, и стали копать яму, но тутъ явился приблудный крестьянинъ, несчастный грибникъ, съ корзиной ядреныхъ бѣлыхъ, и его испуганно и жестоко застрѣлили, вѣдь онъ могъ увидѣть яму и голыхъ, страшныхъ покойниковъ.
И опять повезли на телѣгахъ, потомъ на тряскомъ грузовикѣ мертвецовъ; и безсмѣннымъ часовымъ при нихъ находился Юровскій; и опять застревали въ буреломной тайгѣ телѣги и шины авто; и оставалось на выборъ — либо зарыть, либо сжечь. И стали жечь; костеръ возсталъ до небесъ; и положили въ костеръ сначала сына и мать, а потомъ увидали, что это не мать, а служанка; и догорѣлъ костеръ, и прямо на кострищѣ стали яму копать, и въ нее бросили останки, а потомъ снова развели огонь на мѣстѣ погребенья, чтобы покрыть могилу пепломъ. И рыли, безъ перерыва рыли солдаты рядомъ огромную, послѣднюю могилу для всѣхъ остальныхъ; и, когда вырыли, всю семью туда уложили и стали обливать голыхъ и мертвыхъ царей сѣрной кислотой, чтобы ядъ разъѣлъ лица и покрылъ пятнами и полосами тѣла. И бросали, бросали лопатами въ яму землю и траву, вѣтки и перегной. И набросали сверху хворостъ, а еще поверхъ наложили шпалы, а еще проѣхали на грузовикѣ — и узорчатыя шины впечатались въ перекрестья хвороста и слои земли, и вмяли вѣтки въ землю, и вмяли время въ смерть. И, когда проѣхали на машинѣ поверхъ могилы еще и еще разъ, кто-то крикнулъ: чисто! и слѣда не осталось!
Всего этого Ляминъ не зналъ и не могъ знать. Его съ собою Юровскій на эти вторыя похороны не взялъ. Комиссаръ видѣлъ: слабъ боецъ, и слеза у него рядомъ. Не нужны Красной Арміи въ серьезномъ дѣлѣ такіе слезливые бойцы; пусть сидитъ на кухнѣ рядомъ со своей Пашкой и помогаетъ ей чистить картошку. Или чиститъ коней и мыть ихъ водитъ на Исеть, тоже дѣло.
##
Ляминъ ходилъ по Дому.
Домъ былъ и мертвымъ и живымъ вмѣстѣ; и Ляминъ ходилъ по нему такъ, какъ докторъ выслушиваетъ опасно больного и боится поставить ему правдивый діагнозъ, и боится обидѣть, и боится убить словомъ.
Ляминъ ходилъ по комнатамъ, поднимался и спускался по лѣстницамъ. Онъ ходилъ одинъ. Въ домѣ еще была Пашка, она, какъ обычно, стояла на кухнѣ у плиты.
Охрану постепенно распускали, но не на волю отпускали: оформляли стрѣлковъ на фронты.
Лямина ждалъ, скорѣй всего, ему ужъ Авдеевъ намекалъ, фронтъ на Уралѣ — красныя войска бились на Уралѣ съ бѣлыми, и ему уже сказали, что опредѣлятъ его въ сводный Уральскій отрядъ какого-то комиссара Блюхера, подъ Богоявленскъ.
Это означало — онъ изъ Екатеринбурга долженъ двинуться на югъ; тамъ, по слухамъ, шли жестокіе бои, но шансъ былъ, что красные возьмутъ перевѣсъ.
«Насъ — больше. Красныхъ — больше! Подъ красное знамя вся страна встаетъ! А эти… недобитки…»
Домъ глядѣлъ бѣльмами бѣлыхъ оконъ. Известку со стеколъ никто не успѣлъ отмыть. Всюду валялся мусоръ, и усѣянный мусоромъ Домъ походилъ на громадную свалку.
Ляминъ открывалъ дверь царской спальни. Перешагивалъ черезъ зубныя щетки, еще испачканныя въ засохломъ зубномъ порошкѣ, и рѣзныя изящныя гребенки. Переступалъ черезъ булавки и заколки, черезъ невиданныя скребницы съ жесткой торчащей щетиной — то ли платяныя, то ли для обуви, а можетъ, волосы дамамъ чесать, — черезъ пустые флакончики; поднималъ флаконы съ полу, отворачивалъ пробки и вдыхалъ запахъ — нѣжный, то сирени, то ландыша, то розъ. Сапоги хрустко, жестоко наступали на разбросанныя фотографіи, на деревянныя позолоченныя рамки.
Подходилъ къ гардеробу. Распахивалъ двери. Руки любопытствовали, а глаза стыдились и прятались. Но онъ вскидывалъ вѣки, и прямо передъ нимъ на длинныхъ брусьяхъ качались пустыя вѣшалки, и онъ видѣлъ, какъ онѣ превращаются въ живыя плечи, и плечи одѣваются въ шинель и кутаются въ шубку, какъ руки влѣзаютъ въ рукава, а ноги торчатъ изъ-подъ обшитыхъ кружевомъ юбокъ. Онъ громко хлопалъ дверью гардероба и отшагивалъ отъ него, и деревянный ящикъ, какъ пустой гробъ, отзывался смертнымъ эхомъ.
Отпахивалъ и дверцы печей. Къ печамъ за все это время онъ успѣлъ привыкнуть — вѣдь самъ частенько ихъ топилъ. Онъ думалъ, печи глянутъ на него пустыми зѣвами, а онъ открывалъ дверцы — и на него вываливались кучи золы: здѣсь сожгли горы тряпокъ, утвари, бездѣлушекъ и, можетъ, писемъ и книгъ. И, конечно, нотъ — всѣ дѣвушки были превосходныя музыкантши, онъ помнилъ, какъ Ольга играла и пѣла, какъ Татьяна легко и любовно перебирала клавиши.
…на этомъ роялѣ бойцы пили водку, въ него ссыпали пепелъ отъ папиросъ.
Всякой вещи свое время и свое мѣсто подъ солнцемъ.
Ляминъ присѣдалъ передъ печью, трогалъ золу. Она была еще теплая.
«Я тутъ ничего не жегъ. Я ничего не трогалъ тутъ! Все сожгла охрана, пока мы ѣздили ихъ хоронить».
Дверцы скрипѣли, будто пѣли. Онъ шелъ дальше. Не могъ остановиться. Ноги сами его несли. Вотъ она столовая. Сколько разъ они ѣли тутъ; и сколько разъ у царей изъ-подъ носа выхватывали недоѣденное блюдо, смѣялись надъ ними, тыкали имъ въ носъ огрызкомъ ржаного: жри! жри! Кровушку попили, теперь хлѣбушкомъ закусите!
Въ каминѣ тоже возвышались горы золы. Здѣсь тоже много чего пожгли. Возлѣ камина стояло кресло-каталка. Въ этомъ креслѣ выкатывали цесаревича гулять; въ немъ иногда сидѣла царица, ее подкатывали къ бѣльмастому окну, подавали ей книгу, и она читала. Съ мокрымъ полотенцемъ на больной головѣ. Съ больными ногами, даже лѣтомъ укутанными въ шерстяные носки.
Ляминъ шелъ, и тоска затхлой грязной водой наполняла его легкія, и трудно было дышать.
Онъ хотѣлъ туда, дальше, въ комнату, гдѣ спали царскія дочери.
Онъ открывалъ дверь, и ему въ лицо била сухая жесткая пустота. Пустота томила и поражала. Голыя стѣны хохотали надъ нимъ. Ему хотѣлось закрыться отъ пустоты, какъ отъ солнца или пули, рукой. Желѣзная круглая коробка изъ-подъ конфектъ; на коробкѣ написано крупными буквами: «МОНПАНСЬЕ ТОВАРИЩЕСТВО АБРИКОСОВЪ И СЫНОВЬЯ».
Вкусъ лимонныхъ леденцовъ онъ остро почувствовалъ подъ языкомъ и на губахъ.
…вкусъ ея губъ, такъ и не распробованныхъ.
Подъ кроватью стояло судно цесаревича. Ляминъ не понималъ, какъ тяжело онъ боленъ; и что это за болѣзнь такая. Ему Пашка сказала — это когда человѣка ранятъ, а кровь льется и не остановится. А если ушибется — кровь льется внутрь, и ты можешь умереть отъ того, что твои потроха кровью зальетъ, какъ рѣка берега заливаетъ въ разливъ. Судно! Они всѣ подтыкали эту посудину подъ мальчишку. И отецъ, и мать, и сестры, и докторъ. И эта, сѣнная ихъ дѣвка, какъ ее, Нюта. Почему здѣсь такъ мрачно?
Онъ оглядѣлся и понялъ, почему. Окно было занавѣшено клѣтчатымъ шерстянымъ плэдомъ. Онъ не зналъ, что это плэдъ, думалъ — одѣяло. Подошелъ къ окну, заморское одѣяло сорвалъ. Кинулъ на голый матрацъ.
«А гдѣ же ихъ походныя кроватки? Вѣдь на нихъ онѣ спали? На такой — она спала?»
Тревога выкрутила нутро. Онъ выбѣжалъ изъ спальни княжонъ. Пошелъ по коридору, твердо, зло распахивая двери — одну, другую, третью. Дошелъ до комнатъ, гдѣ спала охрана, и до караульной. Толкнулъ дверь караульной ногой; тамъ стояли эти кровати, длинныя, на низкихъ ножкахъ, — настоящія солдатскія.
«Да вѣдь Пашка говорила — ихъ и воспитывали какъ солдатъ. Утромъ царь заставлялъ ихъ ложиться въ холодныя ванны, а послѣ растираться жесткими полотенцами, а послѣ дѣлать по пятьдесятъ присѣданій. И онѣ все это продѣлывали».
Онъ представилъ себѣ Марію — въ лифчикѣ и панталонахъ, съ синей пупырчатой, гусиной кожей послѣ ледяной ванны, присѣдающую передъ распахнутымъ настежь, даже зимой, окномъ и терпѣливо считающую: «…тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…»
«Ей здѣсь рожденье отмѣчали. Девятнадцать».
И вспомнилъ, какъ добылъ ей на день рожденья пирогъ; вкуснѣйшій пирогъ, съ малиновой ягодой, обмазанный яичнымъ бѣлкомъ, облазилъ всѣ кондитерскія — и нашелъ, и купилъ на послѣднія деньги, и навралъ: мнѣ самолучшій, невѣстѣ на именины несу, и ему кричали въ спину: товарищъ, еще теплый! ваша невѣста будетъ довольнешенька! — и онъ бѣжалъ, тащилъ пирогъ черезъ весь Екатеринбургъ, тяжело дыша, хватая воздухъ небритыми губами, представляя, какъ она удивится и обрадуется; и она и правда удивилась и обрадовалась, а потомъ пришли солдаты и Никулинъ и отняли пирогъ, Пашка наябедничала, и Марія глядѣла на него глазами, въ которыхъ собралось все смущенье и вся радость погибшаго міра.
Гдѣ же вся ихъ радость? Тамъ, въ лѣсу.
Гдѣ же вся ихъ жизнь? Тамъ, въ глубокой шахтѣ.
Не ври себѣ. Въ лѣсу, подъ землей ихъ смерть; а ихъ жизнь все равно раскатилась, разсѣялась всюду, вотъ облако въ небѣ, оно такъ похоже на ея кружевное лѣтнее платье.
Онъ согнулся и плотно уложилъ лицо въ ладони, будто себя уложилъ въ гробъ и прикрылъ крышкой.
И такъ долго стоялъ.
…И по всѣмъ комнатамъ валялись иконы. Множество иконъ.
Иконы, ихъ красные ненавидѣли и презирали. Хотя иные солдаты тайкомъ крестились на образа, а на груди носили кресты на гнилыхъ старыхъ гайтанахъ. Царскія иконы валялись подъ его ногами, хуже шелухи отъ сѣмечекъ; ихъ можно было пнуть, раздавить сапогомъ, плюнуть на нихъ, пустить на растопку — онѣ бы не сопротивлялись. А какъ крестилась на нихъ царица! Благоговѣйно, блаженно. Онъ никогда не видалъ, чтобы люди такъ крестились на иконы, какъ она.
«Умоленная была. Ей бы — въ монастырь… игуменьей…»
Отчего-то подумалъ: и царю пребыть бы патріархомъ, а не царемъ.
Иконы валялись и въ отхожемъ мѣстѣ за Домомъ. И у дома Попова, гдѣ ночевала охрана; и Ляминъ зналъ объ этомъ. Онъ это видѣлъ. Но сейчасъ онъ шелъ по Дому, и онъ разговаривалъ съ Домомъ, какъ съ больнымъ другомъ, и онъ жаловался Дому на то, что произошло.
«Ты понимаешь, мы ихъ убили. А они — въ тебѣ — жили. Жили! И всюду висѣли иконы. И они на нихъ молились. И — не вымолили жизни себѣ».
Онъ трогалъ корешки ихъ книгъ. Пухлая Библія, обтянутая темной кожей, изъ нея торчали длинныя, обшитыя атласомъ закладки. Атласъ выцвѣлъ и продырявился.
Молитвословъ. Акаѳистъ святой преподобной Ксеніи Блаженной Петербургской.
Акаѳистъ Божіей Матери. Житіе святого Серафима Саровскаго. «О терпѣніи скорбей».
Четьи-Минеи — да, это они читали каждодневно, поминая житіе каждаго святого, что родился въ этотъ день.
А это что за книги? Ляминъ наклонялся, шопотомъ, по слогамъ читалъ имена и заглавія.
«Левъ Тол-стой. «Вой-на и миръ». Антонъ Чеховъ. «Раз-сказы». Сал-ты-ковъ… ковъ… Щед-ринъ. Авер-чен-ко… Миха-илъ Лер-мон-товъ…»
Тезка, улыбнулся онъ Михаилу Лермонтову, и ласково погладилъ книгу.
Поднялъ съ полу еще одну. На обложкѣ стояло: «АЛЕКСАНДРЪ ПУШКИНЪ. СОЧИНЕНІЯ». Развернулъ. Зрачками выловилъ сразу и обжигающе:
…если жизнь тебя обманетъ —
Не печалься, не сердись;
Въ день унынія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ.
Сердце въ будущемъ живетъ,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ мило.
На голой кровати лежала тщательно оструганная широкая доска. На этой доскѣ ѣлъ, пилъ, игралъ и читалъ цесаревичъ, лежа въ постели. Остро и влекуще пахло, но не духами, а чѣмъ-то прянымъ и терпкимъ. Ляминъ догадался: лѣкарствами. И вѣрно, по подоконникамъ, на полкахъ, на тумбочкахъ въ изобиліи виднѣлись пузырьки и флакончики, пробирки и чашечки, бутылки и мензурки: въ нихъ прозрачно застыли лѣкарственныя пьянящія смѣси, которыя лишь сутки, двое назадъ принимали внутрь эти люди.
Ляминъ шагнулъ къ подоконнику и взялъ въ руки странную бутылочку въ формѣ гитары. На бутылочкѣ была приклеена этикетка. Онъ прочиталъ: «СВЯТАЯ ВОДА». Беззастѣнчиво и безсознательно отвинтилъ пробку. Что надо сдѣлать? Глотнуть? Помазать виски, грудь? Вылить себѣ на затылокъ?
Хотѣлось пить. Онъ, морщась, глотнулъ. Подносилъ къ губамъ брезгливо, а глоталъ чисто, радостно, вкусно. Вода и впрямь оказалась вкуснѣйшей — холодной въ жару, чистой и свѣжей.
«Будто серебра живого глотнулъ. И правда святая».
Думалъ такъ, нимало не вѣря въ это.
Вышелъ въ прихожую. Тамъ на лавкѣ стояла пріоткрытая коробка. Изъ коробки торчала шерсть. Онъ подумалъ: овечья, — и поднялъ крышку, а подъ крышкой оказались человѣчьи волосы, и онъ отпрянулъ. И снова набросилъ крышку на коробку, и отошелъ, и выругался шопотомъ.
Это были остриженные волосы дѣвушекъ; ихъ остригли, когда онѣ хворали корью, еще въ февралѣ, въ Тобольскѣ. А коробку эту, съ волосами княжонъ, они зачѣмъ-то съ собой возили, вмѣсто того чтобы выкинуть на помойку.
Ляминъ потопалъ сапогами, стряхивая съ нихъ налипшую грязь. Повернулся и пошелъ опять въ столовую.
Что-то его безпокоило въ столовой, а онъ не зналъ, что. Вошелъ. За стеклами шкапа высились сервизныя тарелки. Половину изъ нихъ уже растащили. На полу валялись сухіе полевые цвѣты: гвоздики, ромашки, мышиный горошекъ, донникъ.
«Донникъ любятъ пчелы. Кто сюда цвѣты приволокъ? Да и бросилъ».
Вродѣ какъ въ память… на полу лежатъ…
Повелъ глазами. Одинъ изъ стульевъ былъ обтянутъ чехломъ.
И на бѣломъ чехлѣ — прямо посрединѣ — на спинкѣ стула — отпечатокъ: красная ладонь, и потеки засохшей крови.
«Руку обтерли… послѣ того, какъ трупы выносили…»
Его прошибла дикая мысль: можетъ-быть, это отпечатокъ его собственной руки.
##
…Онъ закрылъ дверь столовой. По Дому ползли съѣстные запахи.
Вошелъ на кухню.
Пашка вздрогнула на стукъ двери и топотъ шаговъ, подняла къ затылку руки и привычнымъ ему жестомъ стянула узелъ платка, но не обернулась.
Ляминъ подошелъ близко и положилъ тяжелыя руки ей на плечи.
— Что, такъ ужъ противенъ?
— Сними руки, — холодно и медленно сказала Пашка, — не видишь, я стряпаю.
На плитѣ булькали двѣ кастрюли. Крышками не были покрыты. Одна съ разсольникомъ, другая съ чищеной картошкой.
— Разсольникъ съ мясомъ?
Зачѣмъ спросилъ, не зналъ. Просто чтобы что-то говорить.
Голосъ отъ него къ ней шелъ, какъ человѣкъ по канату надъ пропастью.
— Постный.
— Это ничего.
— Ничего.
Ея спина говорила ему: ты же видишь, намъ не о чемъ говорить.
— Пашка, у тебя что, другой? Честно скажи.
Она возила половникомъ внутри бадьи съ разсольникомъ. Поднесла половникъ ко рту и попробовала на соль, вхлюпнула въ себя глотокъ горячаго. Обожглась, махала рукой на открытый ротъ.
— Ах-ха-ха. Нашелъ что спрашивать.
— Прости, если что не такъ.
— А что мнѣ тебя прощать. Ты самъ себя прощай.
Вотъ теперь глянула наконецъ — остро, колюче, изъ-за кастрюли.
«Знаетъ. Что — знаетъ? Про Марію? Такъ я жъ никому…»
Михаилъ попытался пошутить.
— Ты лучше дай мнѣ разсольничку попробовать. Можетъ, ротъ обожгу… и не потянетъ къ тебѣ… цѣловаться.
— Цѣловаться? — Пашка обернулась къ нему всѣмъ сильнымъ торсомъ, стояла рядомъ, вертѣла въ рукахъ половникъ, какъ легкій бабій гребешокъ. — Цѣлуются, когда любятъ. А ты меня…
Замолчала. Снова повернулась къ плитѣ.
Ляминъ видѣлъ теперь ея профиль, четкій, рѣзкій, будто изъ дерева срѣзанный.
— Хочешь сказать — все?
— Что — все? — И голосъ былъ вырѣзанный изъ дерева и вылитый изъ чугуна. Какъ крѣпкія, закрытыя ворота. — Все будетъ, только когда въ могилу положатъ. А теперь — надо жить и…
Опять молчала. Мѣшала разсольникъ. Онъ ждалъ.
— И воевать.
— Воевать! На кухнѣ!
— Скоро отправятъ. Воевать.
Легко вздохнула, будто бабочка у нея съ плеча взлетѣла.
— Куда — тебя?
У него это вырвалось почти крикомъ.
Она куснула губу. Вытерла ее выгибомъ руки, кистью съ набухшими венами.
— Насъ съ тобой въ разныя стороны пошлютъ.
— Это ты постаралась?
— Ничего я не старалась. Мнѣ — командиры сказали.
— Командиры?
— Комиссаръ Ермаковъ.
— И — Юровскій?
— И Юровскій.
Зачерпнула полный половникъ горячаго разсольника. Поднесла Лямину.
— Хлебай!
Онъ отпрянулъ, какъ конь.
— Ты что же, дура… горячо же…
— Ага! — Ея глаза блестѣли двумя сколами разбитаго хрусталя. — Горячо! Больно то-есть! Боишься, обожжешься! А я — не боялась!
Выплеснула половникъ въ кастрюлю. Супъ разбрызгался, и она охнула и вытерла мокрое лицо и грудь ладонью.
— Ну вотъ, — надъ собой усмѣхнулась, — хотѣла тебя обжечь, а обожглась сама. Такъ съ нами завсегда, съ бабами.
— Пашка, — хрипло вытолкнулъ изъ себя, послѣднимъ козыремъ, — мы же ждемъ ребенка!
— Мы? Это я жду.
Крѣпко вытерла руки фартукомъ, закрыла кастрюлю громадной и тяжелой крышкой. Супъ булькалъ подъ крышкой тихо и сердито.
Сдернула фартукъ. Онъ уже подзабылъ ее въ солдатскихъ штанахъ, и вотъ она опять была передъ нимъ въ нихъ — въ военной своей формѣ, ни баба ни мужикъ, и баба и мужикъ, и дѣвка и парень, и вмѣстѣ лошадь, и будто птица, и легкая и тяжелая, и крѣпкая и слабая, — такая Пашка, какой она была всегда въ отрядѣ; и сейчасъ она отдалилась отъ него, ее будто освѣтило отблескомъ то ли былыхъ, то ли будущихъ сраженій, и эти далекіе огни укрупнили ея рѣзкія черты и сдѣлали недосягаемымъ и скорбнымъ ея такое близкое и прежде, въ иныя рѣдкія минуты, по-бабьи нѣжное лицо. Онъ протянулъ руки, она рѣзко и умѣло увернулась, отошла, и онъ глядѣлъ на ея сапоги, они отпечатывали по полу кухни мокрый грязный слѣдъ: она недавно носила воду изъ колодца и выпачкалась въ грязи.
«Дождь прошелъ недавно».
Онъ вспомнилъ, какъ она однажды въ осеннемъ Тобольскѣ стояла подъ дождемъ. Холодъ, хлещутъ струи, а Пашка стоитъ въ одной гимнастеркѣ подъ ледяными потоками, запрокинувъ лицо, и поднимаетъ ладони, и ловитъ ладонями крупныя холодныя сѣрыя капли, и смѣется. Она думала, что ее тогда никто не видѣлъ. А вотъ онъ — увидѣлъ.
Огни, ходящіе по ея тѣлу, по ея гимнастеркѣ, груди, спинѣ и штанамъ, сдѣлались ярче, ему уже почудилось — открыта дверь, и входятъ проклятые бѣлые и сейчасъ будутъ стрѣлять; открыта настежь жизнь, пали не хочу. И надо ложиться на полъ. И выхватывать изъ кобуры наганъ. И отстрѣливаться.
…черезъ мигъ, другой понялъ: это открыта дверца печки, и отсвѣты пламени ходятъ по Пашкиному сильному, грудастому, стройному тѣлу, жадно цѣлуютъ его, ласкаютъ.
— Пашка! — крикнулъ онъ. — Ты меня любишь?
Ея спина. Вся въ бликахъ яснаго, яркаго пламени.
— Пашка! Ты меня не любишь!
И это было послѣднее, что онъ могъ ей сказать.
…Опять бродилъ по комнатамъ. Одинъ.
Зачѣмъ онъ это дѣлалъ? Не зналъ. Домъ втягивалъ его въ себя, Домъ оставлялъ его въ себѣ — навсегда. Домъ былъ воронкой, въ нее ухало и пропадало въ крутящейся чернотѣ все, что мучило его и дѣлало его счастливымъ, — Жигули и буянская Наталья, западный фронтъ, Галиція и Польша, Петроградъ и Москва, Сибирь и Уралъ, костры и пулеметныя очереди, конскій храпъ и запахъ терпкаго женскаго пота, и Пашкины солдатскіе штаны, что сушились на голой вѣткѣ передъ командирской избой, и забытыя руки матери, и дикіе далекіе крики казнимыхъ людей, и звѣзды и тучи и холодныя чистыя рѣки — все исчезало тутъ, въ стѣнахъ Дома, подъ его крышей; и не было силъ вырваться, и затягивало сильнѣй, и только по глотку солнца, по глотку неба въ огромныхъ глазахъ этой дѣвочки, царской дочери, и могъ затосковать онъ — передъ тѣмъ, какъ все забыть.
Глядѣлъ на мебель. Глядѣлъ на рисунокъ на столѣ: одна изъ сестеръ нарисовала акварелью качели межъ двухъ старыхъ деревьевъ, и листву, и облака, — солнечный день. Подъ рисункомъ стояла подпись: «М. Н. Р.». Онъ глядѣлъ на подпись и не понималъ, что это — «Марія Николаевна Романова».
Подобралъ съ полу листокъ. Красивый почеркъ. Ровный и строгій. Онъ все равно плохо разбиралъ чужія письмена: хорошо умѣлъ только печатное слово.
— И крестъ тяжелый и… кро-ва-вый… съ твоею… кро?.. кро-то-стью… встрѣ-чать…
«Изъ Писанія, что ли, стихъ».
Спустился по лѣстницѣ. Вышелъ во дворъ. Постоялъ немного подъ солнцемъ; оно и не свѣтило, и не грѣло, — странное пустое солнце. На мѣстѣ солнца — дыра.
Садъ на вѣтру пошевеливалъ листьями — что-то нѣжное бормоталъ.
Ляминъ открылъ дверь, вошелъ въ Домъ и прошелъ черезъ всѣ комнаты перваго этажа. Онѣ были пусты. Вернется ли сюда охрана? Или всѣ ужъ укатили? Онъ не зналъ.
«Можетъ, всѣ ютятся въ домѣ напротивъ, у Поповыхъ. А можетъ, еще сюда придутъ».
«Почему я здѣсь?»
«А кто меня знаетъ. Вотъ возьму сейчасъ и самъ уйду. Они всѣ… сами боятся и деру даютъ…»
Его тянуло въ ту комнату. Поглядѣть. Въ послѣдній разъ.
Спустился по лѣстницѣ.
Глухо бухали по ступенямъ сапоги.
Сапоги замедлили передъ порогомъ. Переступили.
…Слишкомъ темно. Слишкомъ тѣсно. Какъ они всѣ здѣсь умѣстились?
Окно вело въ міръ. Единственное.
Но въ это окно было видно не небо — земля.
«Они видѣли землю. Они уже всѣ здѣсь были — подъ землей».
Онъ глядѣлъ на толстую чугунную рѣшетку на окнѣ.
«Тюрьма она и есть тюрьма. Даже если это домъ — съ кухней, столовой… со спальней».
Чуть скрипѣли половицы.
«Какъ чисто тутъ вымыли. Всю кровь замыли. Пашка замыла».
Вообразилъ ее: какъ она наклоняется, съ мокрой тряпкой, пропитанной кровью, окунаетъ ее въ ведро и полощетъ, и отжимаетъ. И становится розовой, а потомъ оранжевой, а потомъ красной вода въ ведрѣ.
Онъ глядѣлъ на тонкую стѣнку, отдѣлявшую комнату отъ кладовой.
«Тамъ Пашка мнѣ сказала о ребенкѣ».
Подошелъ къ стѣнѣ и потрогалъ ее. Стѣна была картонной; по сути, легкая перегородка.
«Если-бы Пашка сидѣла въ кладовой — ей бы все было слышно».
«А можетъ, и сидѣла. Откуда ты знаешь».
«Да ей и такъ все было слыхать. Выстрѣлы и крики раздавались на весь Домъ».
Онъ глядѣлъ на слѣды отъ пуль и трогалъ ихъ. Будто по стѣнѣ ползли клопы, и надо было ихъ раздавить.
Глядѣлъ на полъ. Что-то его безпокоило.
Подъ карнизами — увидалъ: не всю кровь Пашка отмыла. Слѣды остались.
«Слѣды, вездѣ слѣды. Человѣкъ идетъ и оставляетъ слѣдъ. Охотникъ по зимнему лѣсу на лыжахъ идетъ — за нимъ слѣдъ; да по водѣ лодка проплыветъ — тоже слѣдъ, да быстро таетъ. Эти слѣды — сотрутъ, отчистятъ. И останется только земля. Она все и пожретъ. Всѣ наши вопли и всѣ слѣды. И слѣда не останется».
Вдругъ ясно и горько подумалъ: забудутъ. Забудутъ все! И царей, и тѣхъ, кто ихъ убивалъ.
Только произойдетъ это еще нескоро.
«А можетъ, скоро. И оглянуться не успѣешь. Скажутъ: царь Николай! — а вокругъ спросятъ изумленно: а кто-жъ это былъ такой?»
Онъ глядѣлъ на стѣны, и слѣды отъ пуль то сбѣгались къ нему, то разбѣгались чернымъ фейерверкомъ, то сыпались ему въ ладони чернымъ зерномъ, то собирались въ страшный черный комъ. А потомъ опять взрывались. И мелькали передъ глазами.
«Они бѣгали по комнатѣ. Пытались увернуться отъ смерти».
Онъ глядѣлъ опять на полъ и видѣлъ вмятины въ доскахъ.
«Это мы докалывали ихъ штыками».
Видѣлъ дыры.
«Это Ермаковъ стрѣлялъ въ царя. Или въ наслѣдника. Все равно».
Онъ глядѣлъ, и передъ глазами вдругъ заклубился дымъ, онъ отгонялъ его рукой и дико, беззвучно смѣялся. Оборвалъ смѣхъ и немного постоялъ съ закрытыми глазами.
«Дымъ. Все станетъ землей, и все станетъ дымомъ надъ землей. Когда жгутъ по веснѣ… палые листья…»
Онъ подошелъ къ стѣнѣ.
По стѣнѣ бѣжала кривая надпись.
«Это они написали? Но когда? Они бы не успѣли».
Попытался разобрать.
Напрасно.
«Какія-то каракули. По-ненашему. Можетъ, тайный шифръ?»
Нѣмецкая строчка бѣжала, загибалась книзу, косо падала.
Передъ глазами встала вся гора кольтовъ, маузеровъ и нагановъ, сваленныхъ на роялѣ въ комендантской.
«Мы для казни припасли столько оружія, что можно было бы взять штабъ Сибирской арміи и генералъ-маіора Гришина-Алмазова».
Самъ своей шуткѣ усмѣхнулся.
Не могъ уйти изъ комнаты: ноги не несли обратно.
Такъ и стоялъ посреди, глядя то на полъ, то на стѣны, то на потолокъ съ одинокой электрической лампой.
«Свѣтъ тонулъ въ дыму. Мы свѣта не видѣли. Вслѣпую стрѣляли».
Далеко, на верхнемъ этажѣ, раздался рѣзкій стукъ.
Что-то упало. А можетъ, выстрѣлили.
Ляминъ не шевельнулся. И не вздрогнулъ.
Онъ стоялъ и глядѣлъ.
##
Городъ. Онъ такой мертвый. Онъ ждетъ бѣлыхъ. И скоро падетъ.
Городъ уже зналъ и ждалъ, когда онъ падетъ; и онъ хотѣлъ, чтобы это произошло скорѣе, и безъ особыхъ мученій и безъ особой крови; но, понятно, безъ крови никакъ не могло обойтись, и городъ, притихнувъ, молча ждалъ крови и почти смирился съ ея пролитіемъ.
Юровскій спѣшилъ. Онъ честно, искренне боялся. Даже паниковалъ, хотя ему докладывали каждый часъ о продвиженіи бѣлыхъ войскъ. «Уже рядомъ, рядомъ», — шепталъ онъ самъ себѣ, и счетъ шелъ на часы, а часъ такъ быстро обращается въ минуты, а минуты распадаются на серебряное зерно секундъ и толкаютъ впередъ тонкую бѣшеную стрѣлку на роскошномъ царскомъ брегетѣ. Царскомъ? Онъ этотъ брегетъ снялъ съ доктора Боткина. Но и Боткину спасибо.
Лошадиныя копыта взрыли молчащій жаркій воздухъ мѣднымъ цоканьемъ. Извозчикъ подъѣзжалъ къ его дому, и Юровскій стоялъ на крыльцѣ и видѣлъ бороду, гриву, сваленные на подводѣ мѣшки. Юровскому показалось: въ этихъ мѣшкахъ старикъ повезетъ его тѣло, разрубленное на куски. Отогналъ видѣнье, улыбнулся возницѣ. Загодя, сразу, сунулъ деньги: на вокзалѣ можетъ не хватить времени, кто знаетъ, когда подадутъ и когда отправятъ поѣздъ!
Онъ бросилъ извозчику: помогай, еще заплачу! — и старикъ съ готовностью спрыгнулъ, какъ молодой, съ козелъ. Тащили чемоданы и баулы. Слишкомъ тяжелые, и слишкомъ много. Что въ этихъ сакахъ и тюкахъ? Извозчикъ тащилъ и обливался потомъ. Юровскій заставилъ старика понадрываться. Самъ несъ что поменьше: сумку, ящики съ серебряной столовой посудой. Боже, какой чемоданъ! Это всѣмъ чемоданамъ царь! При словѣ «царь» Юровскій почернѣлъ и замѣшкался. Потомъ опять ногами засеменилъ.
Когда онъ торопился, онъ шагалъ очень мелко, будто ребенокъ, — маленькими шажками, неловко, неустойчиво. И ноги въ колѣняхъ кривилъ.
Громадный чемоданъ они тащили вдвоемъ, извозчикъ и комиссаръ.
Послѣднимъ взгромоздили его на подводу.
Чемоданъ былъ опечатанъ сургучными, какъ на почтѣ, печатями; и старикъ извозчикъ немало тому дивился. Тайное, видать, везетъ; косился на жуткій чемоданъ. Баринъ, можно, я покурю? Какой я тебѣ баринъ, я товарищъ, хотѣлъ-было оборвать старика Юровскій — и осѣкся. Завтра въ городъ войдутъ чехи и бѣлыя войска, и снова здѣсь будутъ баре, господа, свѣтлости и степенства. И не будетъ его новаго міра, ихъ міра, что такъ жестоко, падая раненой грудью на горы труповъ, самозабвенно строятъ они.
Разъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь, — шопотомъ считалъ багажныя мѣста Юровскій. Потомъ прыгнулъ сверху багажа и крикнулъ старику: гони!
…они примчались на вокзалъ, сгружали багажъ на телѣжку носильщика, и Юровскій залился бѣлымъ молокомъ ужаса. Что съ вами, баринъ? Онъ еле разжалъ зубы. Деньги забылъ. Деньги? Ну это вы, баринъ, поспѣшили… такъ я слетаю? Мигомъ? Онъ ушами строгими и чуткими, какъ у пса, слушалъ выкрики кондукторовъ: литерный номеръ семнадцать — тридцать два отправляется на Москву черезъ пятнадцать минутъ! Отправляется на Москву… Нѣтъ, другъ, не получится у насъ ничего. Спасибо, но не надо!
Рука въ пустомъ нагрудномъ карманѣ замерла. Дать телеграмму съ дороги! Чтобы — посланный въ Москву привезъ, прямо въ гостиницу!
Гдѣ онъ забылъ бумажникъ?
Дома?
Нѣтъ, въ Домѣ. На столѣ. Въ комендантской.
А можетъ, его украла Пашка? Эта стерва. Воровская дѣвка. По рожѣ ея видно, что сцапать можетъ, и не охнетъ, и не застыдится.
Пашка. Онъ вспомнилъ комендантскую въ ночь передъ разстрѣломъ; и столъ, застеленный зеленымъ сукномъ и прикрытый, для красоты, битой плахой грязнаго оконнаго стекла. Подъ стекломъ лежали сухіе цвѣты и исписанныя вдоль и поперекъ бумаги. Еще лежала фотографія Ленина — та, гдѣ онъ говоритъ рѣчь на броневикѣ въ Петроградѣ, и портреты Маркса и Энгельса. Оглядывался. Глаза хватали, будто крали. Серебряныя шишечки на никелевой спинкѣ койки. Оторванная мѣдная кнопка на черной кожаной обивкѣ стула. Рояль. Этотъ чортовъ рояль. Мошкинъ все время хотѣлъ пѣть, пить и гулять. Они держали на роялѣ бутылки съ водкой и краснымъ виномъ. А потомъ держали оружіе. Уже не молотили, веселясь, по клавишамъ; револьверы валялись внутри рояля, на желтыхъ, стальныхъ и мѣдныхъ струнахъ. Струны чуть позванивали, когда солдаты лѣзли въ рояль, какъ въ шкапъ, за оружіемъ.
…ея ноги безъ чулокъ. Ея колѣни.
Не думать.
Бумажникъ со всѣми купюрами — полбѣды. Онъ забылъ дома главное.
Онъ забылъ дома свою мать.
Ее схватятъ бѣлые и разстрѣляютъ, думалъ онъ медленно и спокойно, а вокзалъ вокругъ него жилъ быстрой, ужасной, заполошной и дымной жизнью: людскія ноги спѣшили и спотыкались, паровозы гудѣли, сходя съ ума, и снова взвывали и плакали, дѣти тоже плакали, сновали между ногъ взрослыхъ и жили своей, непонятной, дикой и печальной жизнью, и бѣжали пассажиры къ поѣздамъ, а они были набиты биткомъ, такъ набитъ грибами въ грибное дождливое лѣто длинный туесъ, и врывалась гарь, какъ отрядъ съ саблями наголо, въ зданіе вокзала, и клубились людскіе рои возлѣ кассы, умоляя, вопя, проклиная и заклиная, — и кто-то счастливый и встрепанный, съ измятымъ второпяхъ билетомъ, оголтѣло бѣжалъ къ составу, а паровозъ гудѣлъ долго и обреченно, скликая всѣхъ на послѣдній дорожный пиръ, на послѣдній, жесткій, какъ стукъ топора или сухой выстрѣлъ, стукъ колесъ, — этими колесами жестокій богъ переѣхалъ время, и вмѣстѣ съ временемъ его людей, и люди не могли собрать воедино свои отрѣзанныя руки и ноги и головы и сердца, и плакали, безрукіе и безсердечные, другъ у друга на груди. А богъ смѣялся. И они бросались къ нему, ища защиты, и обнимали его, и прижимались къ нему, и опять плакали, а онъ смѣялся снова и снова, раскатистымъ смѣхомъ, обиднымъ.
Разстрѣляютъ, ну и что, думалъ онъ, и меня тоже схватятъ въ поѣздѣ и разстрѣляютъ, и теперь что? Всѣмъ одна участь. И это та революція, которую ты ждалъ, которой ты хотѣлъ такъ страстно, что во имя ея бросилъ все, что тебѣ было дорого, и ушелъ за ней — во тьму, въ снѣга и ссылки?
Да, это та самая революція, отвѣтилъ онъ себѣ и сжалъ зубы, а старикъ извозчикъ рядомъ съ нимъ согнулся весь въ три погибели, что-то понялъ про него — и побѣжалъ отъ него прочь, а можетъ, онъ просто измѣнился въ лицѣ, и оно у него перекосилось и стало страшнымъ, какъ у мышинаго царя Щелкунчика изъ старой нѣмецкой сказки, что мать, старая тетя Эстеръ, по слогамъ, запинаясь въ русскихъ словахъ, читала ему на ночь. Носильщикъ катилъ телѣжку быстро, изо всѣхъ силъ, животъ выпиралъ у него подъ фартукомъ и мышцы на рукахъ вздувались, онъ кричалъ Юровскому: ништо! Успѣемъ! Вонъ еще только подали! Еще пыхтитъ! Запрыгнете на подножку, вамъ ли впервой, товарищъ комиссаръ! И этотъ меня знаетъ, въ веселомъ ужасѣ подумалъ Юровскій, а они съ носильщикомъ уже бѣжали вдоль состава, и онъ таращился въ билетъ, ища глазами номеръ вагона, слѣпъ на ходу, втискивался въ первый попавшійся, и носильщикъ втискивалъ баулы, сумки и чемоданы вслѣдъ за нимъ, и тотъ, огромный чемоданъ плылъ надъ головами, какъ черный Летучій Голландецъ. Осторожнѣй! — хотѣлось заревѣть ему на весь вокзалъ, — тамъ же царскія сокровища! Но онъ не закричалъ такъ, онъ еще держалъ себя въ рукахъ, а вокзальная толпа колыхалась и несла его на своихъ волнахъ, и онъ чувствовалъ себя щепкой, и это было позорное, совсѣмъ не царское чувство.
Они вернутся, они скоро вернутся, думалъ онъ о бѣлыхъ съ ненавистью, но впереди ждала Москва, и Москва была еще красная. И его это утѣшало. Онъ протискался дальше въ вагонъ, подтаскивалъ свои вещи къ себѣ, продвигаясь съ ними, какъ кучеръ съ обозомъ, по вагону все дальше, наконецъ нашелъ свободное мѣсто — это была третья полка, стрѣха, голубятня. Онъ забросилъ на полку всѣ свои баулы и тюки — и тотъ чемоданъ тоже. Онъ не вѣрилъ въ бога, но пробормоталъ: дай богъ добраться.
Поѣздъ тронулся, Юровскій закрылъ глаза. И ему почудилось, что въ самомъ большомъ его чемоданѣ лежатъ расчлененные трупы царскихъ дѣтей, и царя, и царицы, и ихъ слугъ, и любимой собачки. Куски тѣлъ, и смотритъ мертвый глазъ, и торчитъ мертвое, въ крови, ухо, слушаетъ перестукъ колесъ. И торчитъ плечо, и торчитъ сосокъ на мертвой груди, и выпираетъ ребро, и слиплись въ крови волосы. Тамъ жемчуга и алмазы! — хочетъ закричать онъ, но не можетъ. Потому что знаетъ: въ томъ чемоданѣ — его смерть.
Не моя! Твоя. Я не дѣлалъ этого! Дѣлалъ.
Онъ спорилъ съ собой, а поѣздъ шелъ, и сосѣдъ напротивъ, развязавъ узелокъ съ жареными куриными ногами, помидориной и двумя солеными огурцами, съ тяжкимъ вздохомъ сказалъ: только бы бандиты на литерный не напали! А такъ все путемъ, доберемся, тише ѣдешь, дальше будешь! И сталъ сосѣдъ ѣсть жареную куриную ногу, жадно запуская зубы въ мясо, и у Юровскаго потекли слюнки, но онъ тутъ-же представилъ себѣ отрубленную ногу великой княжны, онъ не помнилъ ея имени, лежащую у щедро, могуче горящаго костра. И какъ эту ногу Никулинъ, оскалившись, беретъ и въ костеръ бросаетъ.
И такъ ему сдѣлалось плохо, что онъ еле успѣлъ поднести руку ко рту, нагнулся надъ проходомъ, и выблевалъ все, что за завтракомъ съѣлъ, что старая мать приготовила, — и паштетъ изъ куриной печенки, и рыбу по-польски, съ яйцомъ и зеленымъ лукомъ, и фаршированное яйцами, орѣхами и сыромъ куриное горлышко, и печенье съ изюмомъ и корицей, — а все это онъ отмѣннымъ кофіемъ съ удовольствіемъ запилъ, а потомъ еще выкурилъ дорогую папиросу, и счастье было на весь день обезпечено, — и сосѣдъ по вагону, подслѣповатый старикашка въ похожей на мышеловку засаленной кепкѣ, сочувственно глядѣлъ на него и на стыдныя его корчи, и шепталъ, и бормоталъ: ахъ, господинъ хорошій, вы, вѣрно, отравились! Юровскій утеръ вонючій ротъ и сказалъ: я не господинъ, а товарищъ. И старикашка въ кепкѣ замолчалъ, а Юровскій посмотрѣлъ на него и ужаснулся: старикъ былъ страшно похожъ на Ленина.
И то правда, Ленинъ маячилъ вездѣ, въ говорахъ и репликахъ, на вокзалахъ и въ деревняхъ, на газетныхъ свинцовыхъ листахъ и расклеенныхъ на столбахъ афишахъ, въ восторженно блестѣвшихъ стеклахъ очковъ краснаго офицера и въ сверкающихъ ненавистью зрачкахъ офицера бѣлаго, — Ленинъ былъ всюду и всѣмъ, и все, что было Ленинымъ, прожигало душу насквозь, и въ эту дыру люди отнынѣ наблюдали свой міръ — а міръ пересталъ быть миромъ, онъ сталъ безконечной войной, и люди повторяли запекшимися губами: Ленинъ, Ленинъ, — и міръ незамѣтно сталъ Ленинымъ, и это было безповоротно.
«Безповоротно все», — думалъ Юровскій, тщательно вытирая ротъ платкомъ и украдкой нюхая платокъ. За окномъ вагона неслись лѣтніе луга и поля, бѣлыя пятна ромашекъ разбредались по чистой свѣжей зелени; на болотахъ розовыми фонарями свѣтились скопленія клюквы. Юровскій тоже былъ Ленинъ, и въ очень большой степени; почувствовавъ себя Ленинымъ, онъ пріосанился, кинулъ косой взглядъ на огромный чемоданъ на высокой, подъ грязнымъ вагоннымъ потолкомъ, полкѣ, вспомнилъ, что́ лежитъ подъ его обтянутой кожей добротной крышкой, и самъ собой остался доволенъ. Дорожная вагонная толпа вокругъ него перестала его тревожить. Онъ понялъ — Москва его за все похвалитъ; наказанья ему не будетъ; и все, что онъ сдѣлалъ, онъ сдѣлалъ по велѣнью страны, трудового народа и Ленина.
«Ленинъ!» — воскликнулъ онъ внутри себя, радуясь и молясь этому красному великому имени, и тутъ же все въ немъ отозвалось на многіе голоса, на разные лады: «Ленинъ! Ленинъ! Ленинъ!» Колеса выстукивали это имя. Огурцы въ банкахъ переваливали это имя съ боку на бокъ въ разсолѣ. Вѣтеръ на стеклахъ это имя писалъ, веселясь, и улеталъ. Люди шептали это имя на ухо другъ другу, повѣряя имъ самое драгоцѣнное, что у нихъ еще за душой оставалось.
И Юровскій понималъ: онъ — мессія, и онъ выполнилъ миссію, и онъ ѣдетъ и везетъ въ Москву красный факелъ — факелъ свободы отъ стараго міра. Отъ царей. Онъ ихъ растопталъ. Онъ ихъ втопталъ въ землю. Онъ ихъ унизилъ и обратилъ въ пепелъ.
Онъ вспомнилъ, какъ на полосатой, какъ атласный старый барскій халатъ, стѣнѣ Дома онъ торопливо написалъ по-нѣмецки толстымъ плотницкимъ карандашомъ, выпавшимъ изъ кармана у Никулина: «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ЦАРЬ ВАЛТАСАРЪ БЫЛЪ УБИТЪ СВОИМИ ПОДДАННЫМИ». Откуда всплылъ въ его памяти и ударилъ его по глазамъ черный огонь этихъ словъ? Чьи они были? Когда умерли и когда ожили? Онъ не зналъ. Писалъ, какъ во снѣ. Подошелъ Никулинъ и вытащилъ у него изъ сведенныхъ судорогой пальцевъ кургузый обгрызенный карандашъ. Что ты тутъ черкаешь, комиссаръ? Слова. Какія слова, прочитай! Онъ медленно прочиталъ, по-русски. Ты все правильно написалъ, товарищъ Яковъ, сказалъ Никулинъ, мы возстали и убили его. Все правильно. Все справедливо.
А онъ стоялъ у стѣны, искусанной пулями, еще заволокнутой пороховымъ сизымъ, какъ крыло голубя, дымомъ, и ему было все равно.
Поѣздъ ударилъ колесами коротко и страшно, какъ больнымъ сердцемъ, въ желѣзныя ребра вагона и всталъ. Старикашка въ кепкѣ проскрипѣлъ: курочки не хотите ли? Юровскій отвернулся къ окну и не сказалъ ничего.
Онъ думалъ о Никулинѣ. Никулинъ тоже долженъ былъ выѣхать въ Москву. Завтра.
Съ мандатомъ отъ Уральскаго Совѣта и съ маузеромъ на боку.
Онъ будетъ охранять два вагона съ царскимъ добромъ.
И еще при немъ будетъ мѣшокъ. Они съ Никулинымъ нашли, какой погрязнѣе. Совсѣмъ затрапезный; а въ Перми Юровскій велѣлъ Никулину переоблачиться въ крестьянскую одежонку, и мѣшокъ тотъ держать у себя подъ ногами, чтобы ногами его все время чувствовать. Никулинъ предложилъ: а можетъ, его веревкой къ поясу привязать? — на что Юровскій спросилъ: а какъ же ты съ мѣшкомъ до вѣтру ходить будешь? И разсмѣялся жестко, хрипло, уродливо.
Тамъ, за спиной, они оставили пустой Домъ. Сняли всѣ караулы. Всѣхъ бойцовъ, что Домъ охраняли, отослали на фронтъ, воевать съ бѣляками. И дорога у нихъ у всѣхъ была одна — сражаться не на жизнь, а на смерть; если бѣлогвардейцы захватятъ ихъ въ плѣнъ и прознаютъ, что они — охрана царя, — казнить будутъ долго, медленно, съ самыми дикими пытками.
Въ его чемоданѣ — золото и брильянты. Въ никулинскомъ мѣшкѣ — жемчуга. Перстни, браслеты и діадемы, колье и броши они не считали. Много пропало! Но что съ возу упало… Не вернешь того, что прожито. И сожжено.
Колеса стучали. Поля разстилались. Лѣса летѣли. Юровскій сапогомъ закаталъ свою блевотину подъ вагонную полку. И подумалъ про себя: я песъ.
Ему казалось — брильянты въ чемоданѣ шуршатъ и перекатываются. Говорятъ съ нимъ.
Онъ слышалъ голоса царей. Усмѣхался самъ надъ собой.
Онъ, въ тряскомъ прокуренномъ вагонѣ, передъ грязнымъ стекломъ окна, еще не пробитымъ пулей, среди вони и смрада разномастнаго люда, былъ самъ себѣ царь — хоть на одинъ день, на то время, пока поѣздъ мчитъ его къ Ленину.
И пусть появится любая развеселая банда, пусть поѣздъ густо обстрѣляютъ бѣляки, пусть дряни убьютъ машиниста и ворвутся въ вагоны и станутъ грабить пассажировъ, — теперь уже было все равно: онъ ѣхалъ царемъ, и онъ владычествовалъ надъ собой и страной, и онъ сдѣлалъ, что хотѣлъ.
##
Михаилъ спалъ некрѣпко, и вдругъ проснулся, какъ не спалъ.
Ему почудилось — онъ виситъ въ воздухѣ надъ койкой.
Онъ былъ, странно, одинъ. Вся охрана дѣлась куда-то. Чуть позвякивали желѣзныя пружины подъ его тѣломъ. Онъ завозился, пружины зазвенѣли громче; затихъ — пружины продолжали звенѣть.
— Что за чортъ, — сказалъ Ляминъ въ полный голосъ и спустилъ съ койки ноги.
Пружины звенѣли весело и безпорядочно, сами по себѣ.
Всталъ. Огладилъ колѣни, расправляя штаны. Спалъ одѣтый. Раздѣваться не было силъ.
Вытеръ потъ съ шеи, со щекъ. Дверь слегка отворилась.
«Ага, вотъ кто-то изъ нашихъ возвращается».
Дверь дернулась и опять закрылась. Ляминъ остановившимися глазами смотрѣлъ на нее. Открылась опять, пошире. Въ черную щель втиснулись плечо, рука, пять пальцевъ высовывались изъ обшлага пиджака и радостно, насмѣшливо пошевеливались. Кто-то невидимый за дверью пальцами перебиралъ: то ли дразнился, то ли зазывалъ.
— Уйди, — сказалъ Ляминъ потерянно, потрясенно, а голоса не было.
Вслѣдъ за плечомъ и рукой въ дверь протиснулась нога въ начищенномъ башмакѣ. Потомъ къ ней приставилась другая. Дверь открывалась все шире, и въ комнату влѣзла грудь, обтянутая жилеткой, и другая рука, и спина, и весь пиджакъ. А голова? Голова гдѣ?
— Гдѣ голова?! — крикнулъ Мишка, и ему казалось — онъ слышитъ свой крикъ.
И, какъ только онъ крикнулъ это, — явилась голова.
Мощная лысина. Бѣлый кегельный шаръ. Въ усадьбѣ у помѣщика Ушкова, когда ихъ, дѣтей, водили къ помѣщику на рождественскую елку, онъ однажды видѣлъ такой круглый, гладкій шаръ на вертящейся ножкѣ; и сказали тогда, что это барскій глобусъ.
На бѣломъ глобусѣ лысой головы призрачно плыли рисунки морей и океановъ. Проплывали и умирали земли, города, острова. Вспыхивали красныя пустыни и гасли кровавые ледники. Голова глубже протиснулась въ щель, плечо нажало сильнѣй, дверь тоненько, жалобно застонала и распахнулась вся. Вслѣдъ за лысой страшной, громадной, какъ земля, головой человѣкъ изъ двери вышелъ весь. Онъ былъ маленькаго, даже слишкомъ маленькаго роста. На собачку похожъ. Или на маленькую обезьянку.
«Карликъ… Откуда онъ тутъ? Можетъ, изъ цирка? Можетъ, я сплю?»
Ляминъ крѣпко ущипнулъ себя, крутанулъ пальцами кожу на запястьѣ. Охнулъ. Подъ кожей расплывалась кровь.
«Эка я. Какъ гусь клювомъ, чуть мясо изъ себя не выщипнулъ».
Лысый карликъ нагнулъ голову, разсматривая Лямина исподлобья. Мотнулъ головой туда, сюда. Изъ окна сочился голубой лунный свѣтъ. Лысина человѣчка блестѣла точеной слоновой костью. Онъ раскинулъ ручки и растопырилъ пальцы, словно приглашая Мишку то ли къ бесѣдѣ, то ли къ призрачному застолью. То ли молча говорилъ: ну вотъ и все, дорогой товарищъ, и нечего мнѣ вамъ больше сказать, вы сами съ усами, и все уже совершилось.
— Гдѣ я видѣлъ тебя, — пробормоталъ Ляминъ.
Потъ стекалъ у него съ надбровныхъ дугъ подъ брови, на вѣки.
Лысый карликъ шагнулъ къ нему, еще шагнулъ, и Ляминъ попятился.
— Ну, ну, товайищъ. Что вы такъ напугались? Я не кусаюсь.
Ляминъ замеръ.
Человѣчекъ радушно, склонивъ лысую башку къ плечу, поглядѣлъ на него. Коротко разсмѣялся, потеръ коротенькія ручки.
— И сѣсть не пьигласите? Тогда я самъ сяду. Не тьевожьтесь! Вы въ полнѣйшей безопасности. Пока, ха-ха, васъ не клюнулъ жайеный пѣтухъ! Сами знаете куда! Ха! Ха!
Ляминъ обѣими руками отеръ мокрое лицо. Человѣчекъ усѣлся на стулъ, положилъ ногу на ногу. Одинъ башмакъ чистый, надраенный до зеркальнаго блеска; другой — грязный, и грязь налипла комками, красная, рыжая могильная глина.
Онъ нагнулъ голову. Лысина блеснула въ лунномъ свѣтѣ. Лысина сама взошла, какъ Луна, — только не на небесахъ, а въ комнатѣ, напротивъ потерявшаго даръ рѣчи Лямина.
— Что же вы молчите? Меня — узнали? Вижу, вижу, что узнали! Да кто тепей меня не знаетъ! Меня, батенька, знаетъ тепей весь мій! Вы смотьите на меня и думаете: это пьизьякъ! Нѣ-е-е-етъ, батенька, ужъ увольте! Какой я пьизьякъ! Я самый настоящій, и пьявдивѣе меня нѣтъ никого на свѣтѣ! И, знаете что, по секьету скажу, — и не будетъ!
Ляминъ протянулъ руку. Онъ хотѣлъ дотянуться до керосиновой лампы на столѣ и разжечь ее. Онъ еще не успѣлъ прикоснуться къ ней — она дернулась, какъ живая, отскочила отъ него по столу, подъѣхала къ краю и упала, и разбилась съ легкимъ жалобнымъ дребезгомъ.
Онъ смотрѣлъ на тонкіе осколки на полу, и дрожалъ, и шепталъ себѣ: не дрожи, уймись, утихни, все сонъ и бредъ.
Лысый карликъ обцѣпилъ ручонками свое выставленное вверхъ колѣно. Покачивался на стулѣ. Разсматривалъ Лямина, какъ жука въ гимназической коллекціи.
— Вотъ вы, товайищъ, на меня такъ смотьите, будто бы я у васъ — куйицу укьялъ. Или васъ въ кайты обыгьялъ. А я вамъ, между пьочимъ, стьяну — подайилъ! Цѣлую огьомную стьяну! Съ йѣками, моями, океанами, гоами, дойогами и полями, дейевнями и гойодами! Съ людьми, между пьочимъ! Люди, батенька, вѣдь это тоже матейялъ! Да еще какой! А вы и не догадывались?! Ого-го какой матейялъ люди! Самый наипейвѣйшій!
Ляминъ раскрылъ ротъ, и наконецъ голосъ излетѣлъ изъ него.
— И я, по-вашему, матерьялъ?
— И вы, батенька! И вы! Еще какой! Вы — кійпичъ въ такой фундаментъ, на какомъ мы постьоимъ такое зданіе… никому въ мійѣ не снилось! И, надо сказать, такіе кійпичи скьѣпляются только — знаете, чѣмъ? Ну? Чѣмъ?
Ляминъ почернѣлъ лицомъ.
— Вѣйно! Кьовью! Только кьовью, и больше ничѣмъ!
— Неужели безъ крови нельзя? — еле выговорилъ Ляминъ. Щеки его пошли рябью, какъ рѣка подъ вѣтромъ; онъ скрипѣлъ зубами.
Лысый карликъ радостно всплеснулъ ручонками.
— Нѣтъ! Нѣтъ и нѣтъ! Стьоительство будущаго тьебуетъ только кьови! Вотъ пьедставьте себѣ. Цай Петъй Пейвый задумываетъ возвести на болотахъ — новую столицу. Нагоняетъ со всей Йоссіи въ чухонскія болота мужиковъ. Бьетъ ихъ батогами. Коймитъ чойтъ-те чѣмъ. Они мьютъ какъ мухи! А гойодъ, гойодъ — встаетъ изъ болотъ! Йождается! Петьогьядъ стоитъ, товайищъ, на кьови и только на кьови! Но если бы этой кьови не было — былъ бы Петьогьядъ?! А?! Была бы слава Йоссіи?! А?! Не слышу!
Карликъ прижалъ къ уху ладонь, сложивъ ее раструбомъ.
— Нѣтъ, — ледяными губами вылѣпилъ Михаилъ.
— Именно такъ! Вотъ и дѣлайте выводы!
Михаилъ видѣлъ — на лысинѣ явственнѣй стали проступать очертанія материковъ. Суша вздувалась, моря опадали, утекали въ черныя ямы. Плиты континентовъ смѣщались, ползли, наползали другъ на друга. Гибли земли и горы въ невиданныхъ катастрофахъ. Лямину казалось — онъ слышитъ крики людей; кричали гигантскія толпы, плотныя массы, кричали хуже животныхъ, загоняемыхъ въ капканъ бойни.
— Мы — кровь…
— Да! Точно! Вы — кьовь! И больше ничего! Кьясная, теплая кьовь! Матейялъ, изъ котойаго лѣпится жизнь!
— И вы считаете… — Это было чудовищно, но они бесѣдовали. Какъ два простыхъ, живыхъ русскихъ человѣка за ночнымъ чаемъ, за разсѣяннымъ пасьянсомъ. — Что пролитая кровь — это всегда добро? Не зло?
Лысый закинулъ бѣлую голую голову и захохоталъ.
Онъ хохоталъ тихо и вкрадчиво, топорща усы, — такъ могъ бы хохотать толстоголовый, бархатный котъ-британецъ.
— Исключительно такъ! Одно съ дьюгимъ всегда очень, очень тѣсно связано. Невозможно йазлѣпить два явленія, если одно вытекаетъ изъ дьюгого! Пьичинно-слѣдственныя связи? Такъ вотъ же онѣ! Вы насъ югаете за кьясный тейой, за штабеля йазстьѣлянныхъ — а мы вамъ — электйификацію всей стьяны! лампочку въ каждую избу! плотины чейезъ Днѣпьй, Волгу, Обь, Енисей! чейезъ Амуй! чейезъ Яну, Индигійку и Колыму! и туйбины кьютятся, и свѣтомъ залита глухая медвѣжья тайга! а потомъ! вы даже не знаете, что будетъ потомъ!
— Что?
Губы Лямина бѣлѣли, а глаза проваливались въ слѣпую черноту.
— Пейелетъ на аэйопланѣ чейезъ Сѣвейный полюсъ! оюжіе, какого не было еще ни у кого и нигдѣ! пулеметъ, что можно будетъ съ собой носить въ кайманѣ — и стьѣлять изъ него безъ пейеыва! Вы намъ — о пьолитой кьови, а мы вамъ — вспаханныя и засѣянныя хлѣбомъ, пшеницей и йожью, безоглядныя, безгьяничныя степи! освоенную тундью! облетъ на самолетѣ новѣйшей констьюкціи вокьюгъ Земли! И — поднимемся надъ Землей, и воплотимъ въ жизнь сумасшедшія идеи этого глухого самоучки, этого юйодиваго поляка… какъ его бишь… Ціолковскаго… и постьоимъ йакету… и — взлетимъ! къ звѣздамъ! Къ звѣздамъ, вы-то вѣдь не глухой, вы-то — слышите!
Да, Ляминъ все слышалъ. До слова.
И моталась, моталась передъ нимъ эта бѣлая ледяная голая башка, и ходили по ней живыя, умопомрачительныя, гигантскія тѣни.
— И — поголовная, замѣтьте, поголовная гьямотность!
Карликъ оралъ весело и оглушительно, и Лямину хотѣлось заткнуть уши.
Но руки налились свинцомъ и висѣли вдоль тѣла.
И тутъ лысый карликъ сдѣлалъ незамѣтный шагъ и подскочилъ къ нему. Ляминъ не успѣлъ отшатнуться. Лысый схватилъ его за руку, вцѣпился крѣпко, какъ клещъ. Кожа на всемъ тѣлѣ Лямина собралась въ крупныя складки лютаго отвращенія. Онъ задрожалъ и хотѣлъ выдернуть руку, но лысый оказался много сильнѣе; онъ подтащилъ Лямина къ лунному окну и свободной рукой, маленькими пальчиками постучалъ по стеклу, приглашая взглянуть, что же тамъ, снаружи, гдѣ Луна и звѣзды.
— Глядите, товайищъ! Я покажу вамъ, какъ мы всѣ — пьеобьязимся!
Карликъ выкинулъ впередъ руку и сталъ вродѣ бы выше ростомъ. И сталъ расти. Онъ сталъ расти и увеличиваться, и крупнѣть, и ширѣть, и грозно наливаться сначала мѣдью, потомъ чугуномъ, потомъ бронзой, и бронзовѣли черты его лица, бронзовой, твердой и блестящей становилась бородка, бронзовѣли усы и уши, и громадная лысина бронзово сверкала, — а губы его разлѣплялись все такъ же живо и весело, и все такъ же слышалъ Ляминъ эту быструю картавую рѣчь, энергичную, смѣлую, страстную, смѣющуюся:
— Глядите! Пока у васъ есть глаза и йазумъ! Глядите, ужасайтесь, изумляйтесь! Востойгайтесь! Я-то, я знаю все! Такъ пьеобьязится наша стьяна! Она станетъ по-настоящему великой. Все, что было, — йазбѣгъ! Но все великое стоитъ, повтою еще и еще йазъ, на кьови. Да, насъ обвинятъ въ томъ, что мы утопили стьяну въ кьови! Насъ обвинятъ въ томъ, что мы по всей стьянѣ настьоимъ тюйемъ и лагейей. И сгноимъ тамъ, убьемъ тамъ тысячи, мильёны, десятки мильёновъ людей! Но если мы не сдѣлаемъ этого — насъ йаздавятъ, какъ блохъ. Насъ пейестьѣляютъ, какъ куйопатокъ! Отъ насъ не оставятъ и мокьяго мѣста! А мы окьѣпнемъ. Мы станемъ сильными. Сильнѣе всѣхъ въ мійѣ. И мы — выигьяемъ втоую великую войну! Пейвая мійовая война была стьяшной, да. Но втоая, товайищъ, будетъ еще стьяшнѣе! Готовьтесь! Я-то знаю. Весь мій ополчится на насъ! Намъ будутъ кьичать въ уши, тьюбить по всему свѣту: у васъ въ Йоссіи — власть кьясныхъ олигайховъ! Но зато у насъ, единственныхъ на всей Землѣ, будетъ безплатное обьязованіе и безплатная медицина! А? Каково?!
Онъ все крѣпче вцѣплялся въ руку Лямина.
«Отсохнетъ рука… отвалится…»
Ляминъ глядѣлъ въ окно, кивалъ, глаза его расширялись. За окномъ передъ нимъ проплывало время. Оно принимало очертанія людей, звѣрей, машинъ, башенъ, танковъ, плотинъ, самолетовъ, ракетъ. Оно неслось мимо, не останавливалось. И отражалось въ лысинѣ карлика, какъ въ выпукломъ, кривомъ зеркалѣ.
«На мнѣ — крестъ… А онъ мнѣ въ правую руку впился… не перекреститься…»
— Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази… Его…
Ляминъ поднялъ лѣвую руку и дико, смѣшно перекрестился ею.
Лысый человѣкъ выпустилъ его руку. Пальцы растопырились, жадно щупали воздухъ. Наткнулись на подоконникъ.
…онъ стоялъ у подоконника одинъ, совсѣмъ одинъ, и тупо, слѣпо смотрѣлъ на фонарь, синею лысой Луной горящій передъ Ипатьевскимъ домомъ.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
«Здравствуйте, дорогая Наталья Павловна!
Съ привѣтомъ къ Вамъ изъ сельца Куроѣдово Бугурусланскаго уѣзда Ляминъ Михаилъ Еѳимовичъ.
Мои всѣ, навѣрное, умерли или перебиты, и мнѣ некому писать, и вотъ пишу я Вамъ.
Хотя я, дорогая Наталья Павловна, надѣюсь и вѣрю, что мой отецъ Еѳимъ Михайловичъ и моя сестра Софья Еѳимовна оба живы, можетъ-быть, Богъ ихъ сохранитъ. Времена нынче тяжелыя, и я надѣюсь на то, что у Васъ все хорошо и благополучно, дорогая Наталья Павловна. Я воюю во Второй Николаевской стрѣлковой дивизіи у краснаго командира Василія Ивановича Чапаева. Дѣла наши идутъ хорошо. Съ боемъ мы беремъ села и станицы и города, занятые погаными бѣлогвардейцами и бѣлоказаками. Мы бьемъ ихъ по всѣмъ фронтамъ. Близокъ ужъ тотъ часъ, когда побѣда будетъ за нами. Мы одолѣемъ врага и построимъ на нашей землѣ лучшее будущее. Наши дѣти и внуки будутъ жить въ прекрасномъ свѣтломъ будущемъ. За это мы бьемся и отдаемъ наши жизни, дорогая Наталья Павловна. Въ недавнемъ прошломъ я находился въ отрядѣ въ Екатеринбургѣ, мы сторожили бывшаго царя злодѣя Николая Романова и его семью. Въ охранномъ отрядѣ вмѣстѣ со мной служилъ и Вашъ отецъ, Ереминъ Павелъ Еѳимовичъ. Мы съ нимъ иной разъ вспоминали о Васъ и о Новомъ-Буянѣ. Сейчасъ отъ него вѣстей я не имѣю.
Ну вотъ и все, дорогая Наталья Павловна, вотъ и всѣ мои новости, писать больше нечего. Кланяйтесь Настасьѣ Ивановнѣ, Душкѣ и всѣмъ Вашимъ дорогимъ роднымъ. Засимъ низко кланяюсь Вамъ, вѣчно Вашъ Михаилъ Еѳимовъ сынъ Ляминъ. 21 января 1919 года».
Они успѣли покинуть Екатеринбургъ еще до того, какъ въ него вошли бѣлогвардейцы.
Сперва держались рядомъ. Ляминъ то-и-дѣло косился на Пашкинъ животъ. Да, онъ росъ, но былъ пока незамѣтенъ подъ широкими штанами и гимнастеркой, ее Пашка частенько надѣвала навыпускъ. Михаилъ время отъ времени говорилъ ей: Пашка, кончай воевать, давай я тебя гдѣ-нибудь на Волгѣ, у своихъ, спрячу. Бралъ ее ладонями за щеки, заглядывалъ въ ледъ сѣрыхъ глазъ и спрашивалъ: поѣдешь со мной въ Жигули? Жить со мной — поѣдешь?
Она молчала, дергала головой, и его руки слетали съ ея лица, какъ вспугнутыя, голодныя птицы.
Они видѣли передъ собою вокзалы, дороги, дышащіе терпкими дымами паровозы, плачущій и хохочущій народъ, голодныхъ, что тянули руку у обочины, и сытыхъ, что катили мимо въ быстрыхъ пролеткахъ. Видѣли шоферовъ, съ лицами дьяволовъ изъ бездны, за рулемъ обляпанныхъ грязью авто, а въ кузовѣ — мертвыхъ дѣтей, сваленныхъ штабелями и смердящихъ. Видѣли людей въ бѣлогвардейской формѣ, прямо и гордо идущихъ въ рыдающей, летящей по вѣтру мусоромъ толпѣ; и людей въ красноармейскихъ островерхихъ шапкахъ-богатыркахъ, похожихъ на луковицы, а можетъ, на торчащую вверхъ, къ небесамъ, женскую грудь. Видѣли, какъ отощавшій безумный ребенокъ жуетъ, какъ лошадь, вѣтки вербы, и какъ бывшая барыня, дрожа пальцами, руками и всѣмъ тщедушнымъ тѣльцемъ, продаетъ на рынкѣ за безцѣнокъ дорогой, съ тяжелымъ кровавымъ рубиномъ, княжій перстень.
Они видѣли многое — и молчали; а толку что было въ рѣчахъ?
Рѣчи уже сказали всѣ, уже не слушаютъ рѣчь.
И надо просто итти и смотрѣть.
…А запоминать — не надо; нельзя помнить человѣку — нечеловѣческое.
…Пашку направили въ степи подъ Бѣлорецкъ, а Лямина, какъ и хотѣло красное начальство, въ сводный Уральскій отрядъ къ Каширину и Блюхеру; но, повоевавъ осень подъ Красноуфимскомъ, отшвырнувъ бѣлыхъ за Сылву, онъ попросился у командованія перевести его туда, гдѣ теперь сражалась Пашка.
Пашка написала ему всего одно письмо — въ Оренбургъ. На почтамтъ онъ забѣжалъ случайно; сердце тревожилось, что-то чуяло. Ему протянули изъ прозрачнаго окошка грязный, мятый конвертъ. Онъ съ трудомъ, и смѣясь и плача, разбиралъ, стоя подъ громадной хрустальной, буржуйской, еще не убитой люстрой почтамта, Пашкины удивительныя каракули.
«ОРИНБУРГЪ ПОЧТАМПЪ ЛЯМИНУ МИХАИЛУ ЕѲИМОВУ ДО ВАСТРЕБОВАНІЯ ВЪ СОБСТВЕННЫЯ РУКИ. МИШКА Я ВА ВТАРОЙ НИКАЛАЕВСКАЙ СТРѢЛКОВАЙ ДИВИЗІѢ ПОДЪ НАЧАЛОМЪ ВАСИЛІЙ ЧАПАЕВА. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СВИДѢЦА ПРІѢЖЖАЙ КВАРТИРУЕМЪ СЧАСЪ ВЪ КУРОѢДОВѢ. ЕСЛИ НЕ СМОЖИШЬ НЕ ПОМИНАЙ ЛИХОМЪ. ПАШКА».
…Когда онъ прибылъ въ село Куроѣдово, въ расположеніе войска Чапаева, и шелъ пустынной, мертвой улицей, онъ не думалъ ни о чемъ; ни о томъ, зачѣмъ сюда пріѣхалъ, ни о томъ, какъ вдругъ увидитъ ее, и какая она стала, — голова была пуста и звенѣла, какъ подмерзлая въ кладовой тыква, и звономъ подъ сапогами отзывалась жесткая, какъ листъ желѣза, въ бѣлесыхъ отъ инея земляныхъ комьяхъ, дорога подъ ногами.
Сапоги ступали размѣренно, шелъ медленно, — подъ Красноуфимскомъ его ранило, да легко, неопасно; онъ вспомнилъ, какъ въ войскахъ Брусилова, на Западномъ фронтѣ, его однажды зацѣпилъ осколокъ, а вокругъ солдаты весело гоготали: «Царапина!»
Винтовка моталась за спиной. Смеркалось въ октябрѣ рано.
«Вотъ уже и годъ прошелъ. Промелькнулъ. Съ той октябрьской ночи».
Годъ исполнился его революціи; революціи ихъ всѣхъ, кто хотѣлъ иной жизни.
«А стала ли лучше жизнь? Оно, конечно, можно смѣло себѣ приврать, что — стала».
Усмѣхнулся, губы дрогнули нехотя.
Воевать — усталъ.
Молоть языкомъ, рапортовать, байки баять — усталъ.
«Утомился калякать. А сейчасъ приду… разспросы… балясы… бумаги класть на столъ… а вдругъ не здѣсь, вдругъ — снялись отсюда?.. но она-жъ сама начеркала: Куроѣдово…»
Самъ себѣ страшился признаться, что изъ-за нея пріѣхалъ.
«Какъ тамъ дите въ ней? Не скинула бы. Вояка».
…Все было какъ обычно. Представился. Отчитался. Предъявилъ документы. Былъ принятъ въ отрядъ. О Пашкѣ — ни слова не сронилъ.
«Само все выявится. Не надо тутъ торопиться».
И все-же, когда шелъ къ избѣ, гдѣ его расквартировали, — оглядывался, настороженно, по-охотничьи, и опять раздавливались черные, сизые комья холодной земли подъ сапогами.
«Какая странная грязь здѣсь. Въ комки сбирается такіе громадные, съ голову младенца».
Вообразилъ: это онъ идетъ и давитъ головы младенчиковъ.
Самъ помоталъ башкой, отгоняя бредъ.
Но опять и опять себя видѣлъ идущимъ по младенческимъ, нѣжнымъ головенкамъ, и наступалъ на нихъ, и давилъ, раздавливалъ — съ сочнымъ хрустомъ, съ винными брызгами густой крови изъ-подъ подошвъ.
Дошелъ до той избы, что ему указали. Ужъ вскинулъ кулакъ, чтобы постучаться.
И застылъ со вздернутымъ кулакомъ: къ нему по улицѣ шла баба въ офицерскихъ галифэ, въ гимнастеркѣ навыпускъ, съ большимъ торчащимъ животомъ, и въ этой животастой бабѣ въ галифэ онъ узналъ Пашку.
Онъ стоялъ, а она медленно шла по темной осенней улицѣ чужого безлюднаго села, въ холодномъ стыломъ, какъ сливки съ погреба, инистомъ вечерѣ, чуть переваливалась, брюхатая, съ боку на бокъ, и уже подходила къ нему — такъ скучно, буднично и просто, будто они и не разставались на эти долгіе, какъ жизнь, полные крови, криковъ и горячей жути вѣчные мѣсяцы.
Она слишкомъ близко подошла къ нему, и онъ учуялъ ея запахъ.
— Здравствуй, — тихо сказала ему, а можетъ, и не сказала.
Можетъ, почудилось.
Онъ взбросилъ руки, чтобы обнять ее. Пашка стояла недвижно. Не шевельнулась.
И онъ опустилъ руки — смущенно, обозленно.
Тоже сказалъ, еще тише, чѣмъ она:
— Здравствуй.
А можетъ, и смолчалъ.
Такъ стояли.
Долго? Коротко? Михаилъ опомнился первымъ. Постучалъ въ дверь.
— Да тутъ открыто всегда, не трудись, — сказала Пашка и, сунувшись впередъ него, навалившись плечомъ, съ натугой открыла тяжелую, на легкомъ осеннемъ морозцѣ забухшую дверь.
Вошла первой. Онъ — за ней.
— Я вамъ тутъ бойца новаго привела!
Слишкомъ веселъ, пронзителенъ былъ ея крикъ, забился голубемъ подъ низкой матицей.
Вокругъ стола сидѣли люди. Кто въ шинеляхъ, кто въ курткахъ, кто-то даже въ вязаной женской кофтенкѣ. Ляминъ стоялъ у притолоки, дальше не шелъ, будто сапоги у него примерзли къ полу.
— Кто таковъ?
— Ляминъ Михаилъ! Изъ-подъ Красноуфимска прибылъ!
— А, красноуфимскій. Садись!
— Повечеряй.
Ляминъ краемъ глаза скользнулъ по разваренной, въ оббитыхъ мискахъ, бѣлой картошкѣ, по бѣлымъ усамъ капусты, свисающимъ по краямъ стеклянной пузатой банки, по початой четверти — голубая жидкость плескалась и ходила крылатыми тѣнями за плоскими гранями толстаго стекла.
— Спасибо.
Спасибо сказалъ, а все стоялъ.
И тогда Пашка легонько толкнула его въ спину.
— Это мой пріѣхалъ, — громко и мрачно сообщила всѣмъ.
А потомъ сама сѣла на край табурета, и табуретъ чуть хряпнулъ шаткимъ сидѣньемъ подъ ея уже тяжелымъ тѣломъ.
И тогда, краснѣя лицомъ, шеей и, можетъ, даже животомъ, сѣлъ и онъ.
…Обернулся: кто-то на него долго, холодно смотрѣлъ, а отъ чужого взгляда стало жарко и тяжко.
Бѣловолосый, патлатый, жесткій, черствый. Плюгавый!
— Латышъ, — сказалъ однѣми губами.
— Здорово, — сказалъ Латышъ, протянувъ къ Мишкѣ руку, крѣпко подчеркивая всѣ три буквы «о».
И Ляминъ, смѣшавшись, руку эту — крѣпко пожалъ.
Ему уже наливали водки въ длинный, похожій на каменный «чортовъ палецъ» стакашекъ, уже били его по плечамъ, толкали, онъ уже посмѣивался, уже опрокидывалъ водку въ ротъ и спѣшно, слѣпо искалъ на столѣ, чѣмъ закусить, и ему на вилкѣ — соленый помидоръ тянули, и онъ глоталъ холодный терпкій помидоръ, какъ сгустокъ огня, и зрячей спиной видѣлъ брюхатую Пашку, а бокомъ — Латыша, а затылкомъ — невидимый мостъ, перекинутый надъ нимъ, жующимъ, отъ Латыша къ Пашкѣ.
Еще одинъ стаканъ, и еще одинъ помидоръ, и еще одинъ смѣшокъ.
— А мы-то думали, у ея другой ея!
— А вонъ ея, оказалось, какой.
— А скольки жъ у ей — еянныхъ?
— Эй, бабонька, а не запутлякалась часомъ въ своихъ-то?
Онъ звѣрьими ушами слышалъ, какъ она, сидя сзади него, громко и жадно жуетъ. И даже слышалъ, какъ глотаетъ.
«Кормитъ-то вѣдь двоихъ… себя — и его…»
Шоркнули ножки табурета о половицу. Пашка встала. Переваливаясь, пошла къ печи. Обернулась, и онъ обернулся. Она поймала глазами его глаза.
— Вы тутъ безъ меня въ слова поиграйте. Спать хочу. Бой завтра.
Встала на лавку, и Ляминъ видѣлъ, какъ она сначала завалила ногу на печную ступеньку, потомъ перевалила на печь свой животъ.
Тамъ жилъ его ребенокъ.
«А можетъ… Латыша!»
Пашка долго возилась на печи. Укладывалась. Подкладывала подъ голову старыя цвѣтныя тряпки, мятыя занавѣски. Укрывалась овчиннымъ тулупомъ. Въ густой, слипшейся овечьей шерсти стараго тулупа можно было заблудиться.
##
Онъ удивлялся: она все еще сидѣла въ сѣдлѣ.
На коня забиралась тяжело, хваталась руками за сбрую, скрипѣла зубами, взваливала себя въ сѣдло, какъ куль съ мякиной, иной разъ кого, кто рядомъ маячилъ, и подсадить просила, — а все еще упрямо скакала верхомъ. Михаилъ загибалъ пальцы, чтобы сосчитать мѣсяцы: сколько времени тамъ, въ ней, вертится и бьется эта крохотная непонятная жизнь.
«Страшно и подумать. Дура она! Скачетъ. Скинетъ, какъ пить дать! Въ бой съ нами хочетъ. Куда переться дурѣ брюхатой?»
Думалъ о ней со злобой и съ такой огромной, щемящей, щенячьей нѣжностью, какой никогда и ни къ кому не испытывалъ.
Чапаевъ скомандовалъ всѣмъ двигаться въ сторону Троицкаго. Кто торопился, дергалъ и стегалъ лошадей; кто ѣхалъ размѣренно, спокойно озираясь, но всякій, Михаилъ чувствовалъ это сердцемъ и кожей, боялся.
Этотъ страхъ. Онъ не забылъ его еще съ тѣхъ, западныхъ окоповъ.
Страхъ передъ боемъ.
«Да и Пашка не забыла. Какъ забыть?»
Онъ подъѣхалъ къ ней, натянулъ поводья.
Она скакала чуть впереди, на полкорпуса.
Самъ не зналъ, какъ это вырвалось у него.
— Паша… Нельзя тебѣ туда. Не надо! Я… дите наше еще на этомъ свѣтѣ поглядѣть хочу!
Она ѣхала, даже не обернулась.
Но онъ понялъ — она все услышала и поняла.
Показались крыши Троицкаго. Тутъ была сожжена добрая половина избъ. Далеко были слышны густые, частые выстрѣлы. Словно пулялъ въ пустыя небеса давній, позабытый господскій фейерверкъ. Офицеръ, онъ имени его не зналъ еще, пристально и, казалось, гадливо глядѣлъ въ бинокль на далекаго врага.
На ближней телѣгѣ хрипѣлъ подъ рогожей умирающій. Ляминъ соскочилъ съ коня, не хотѣлъ, а подошелъ. Отвернулъ рогожу. Человѣкъ — не красноармеецъ, а крестьянинъ — былъ не просто раненъ: разворочены грудь и животъ, будто кто лемехомъ по нему прошелся, лохмотья рубахи, подстилка и солома пропитались алымъ. Онъ сильно дрожалъ, какъ на трескучемъ морозѣ.
— Милый, — сказалъ Мишка хрипло, — милый…
Изъ-за беременной Пашки ему все жальче становилось на этой войнѣ умирающихъ.
«Жилъ бы да жилъ. А вотъ кончается».
Пашку изъ виду потерялъ. Взобрался на коня. Въ колѣняхъ ломило. Ступни въ сапогахъ мерзли — неряшливо, слишкомъ быстро обмоталъ портянками ноги.
Красныя цѣпи катились и катились, и дымное утро сверкало инеемъ подъ лютымъ, одинокимъ солнцемъ — слѣпымъ глазомъ старухи-степи. Командиръ Чапаевъ ѣхалъ далеко передъ полкомъ — Ляминъ видѣлъ весело мотающійся хвостъ его коня. Слѣва, лѣвѣе сожженнаго села, передъ самой рѣчкой, въ ночи уже схваченной первымъ тонкимъ, паутиннымъ ледкомъ, шелъ еще одинъ полкъ. Справа — еще; и были Лямину отсюда видны островерхія суконныя богатырки на головахъ бойцовъ.
«Гдѣ она, дура моя?»
Сильно, жгуче жалѣлъ, что не поскандалилъ съ ней, въ селѣ, въ избѣ не оставилъ.
Латыша тоже вблизи себя не видѣлъ. Онъ зналъ его ледяное лютое безстрашіе; и зналъ, что въ любомъ бою Латышъ полѣзетъ на рожонъ, и что передъ нимъ, плюгавымъ, могутъ полечь толпы, наподобіе травы подъ косой. Вѣтеръ налеталъ, крѣпчалъ, гнулъ, чуть не сбивалъ бойцовъ съ сѣделъ.
Когда объѣхали Троицкое — тутъ и ударилъ врагъ.
Лупили и пулеметнымъ огнемъ, и артиллерійскимъ. Михаилъ сжался, самъ для себя вдругъ сталъ очень маленькимъ, крошечнымъ — вжался въ сѣдло, обратился въ ярмарочнаго Петрушку: легкое тряпичное тѣло, грубые, суровые швы. И рожа свеклой раскрашена.
Внутри, вокругъ сердца, потроха то зажигались, то гасли, то тлѣли, то холодѣли.
За ними, конными, перебѣжками перемѣщались по полю цѣпи. Орудійный огонь посѣкалъ людей, и цѣпи разрознились; бойцы падали и ползли, цѣпляясь за инистую землю, за палые листья скрюченными, отчаянными пальцами.
Ляминъ слышалъ крики:
— Впере-о-о-одъ… Впере-о-о-о-о-одъ!
Самъ ли онъ кричалъ, рядомъ ли съ нимъ кто — не сознавалъ, не понималъ. Огонь густѣлъ, и внутренности разгорались все жарче; ему казалось — конь подъ нимъ сейчасъ воспламенится.
Свистъ пуль рѣзалъ не уши — душу. Душа свѣжей рыбой лежала на кухонной доскѣ огромнаго пустого поля — и по полю скакали и стрѣляли другъ въ друга люди, что вчера обнимались на свадьбахъ и за одной бутылкою мутной дурманной корчмы пѣли родимыя пѣсни.
«Любо, братцы, любо… любо, братцы, жить…»
Страхъ все больше разжигалъ его, онъ весь уже превратился въ костеръ страха. Никогда ему такъ сильно не хотѣлось жить, какъ теперь, — именно потому, что онъ ждалъ ребенка, что Пашка ждала, да все равно, чортъ дери, чей это ребенокъ, лишь бы — родила! не померла!
Бойцы, лежа на землѣ, поднимая головы къ коннымъ, вопили истошно, таращили глаза:
— А патроновъ! Патроновъ-то хватитъ! Не хватитъ! Чапая спросите! Чапая!
— Стрѣляй! Стрѣляй!
— Пулеметовъ бы еще пару!
Ляминъ глохъ, въ грохотѣ, огнѣ и дыму пересталъ слышать. Да и видѣть почти пересталъ; конь самъ несъ его, Ляминъ стрѣлялъ изъ нагана, помня о томъ, что слѣва у него на боку еще — заряженный маузеръ, — стрѣлялъ и вдыхалъ судорожно и глубоко водочной крѣпости дымъ и гарь, и вдругъ крикнулъ въ этотъ пьяный клубящійся дымъ:
— Пашка! Ты гдѣ!
Изъ дыма донеслось — такъ далеко и тихо, будто бы изъ-за черныхъ облаковъ:
— Мишка! Я тутъ!
Къ нему изъ дымныхъ клубовъ на взмыленномъ, потномъ конѣ вылетѣла Пашка, она сидѣла въ сѣдлѣ странно строго, прямо — впереди нея на спинѣ коня лежалъ ея животъ.
Ляминъ ополоумѣлъ отъ радости.
— Пашка! Дура!
У нея въ рукахъ краснымъ мокро свѣтилась нагая сабля.
И онъ понялъ: она рубила казаковъ саблей, и не охнула, и не пикнула, и — не стошнило ее отъ вида крови и отрубленныхъ рукъ и головъ прямо на холку коня.
— Самъ дуракъ!
— Будь рядомъ! — оралъ онъ бѣшено.
— Не приказывай мнѣ! Ты не командиръ!
— Я твой командиръ! — вопилъ, уже все забывъ, весь міръ забывъ и видя только ее, потную, съ прядями сѣрыхъ волосъ по лицу, съ огромнымъ животомъ, давящимъ книзу коня, съ этой красной влажной саблей, съ которой внизъ, въ заиндевѣлую сухую траву, капало красное, страшное.
— Вотъ еще!
— Намъ надо войти въ Троицкое! — кричалъ Михаилъ, надрывая глотку. — И скоро войдемъ! А ты — схоронись! Схоронись, слышишь?!
Пашка не отвѣтила. Онъ видѣлъ — съ ужасомъ и восторгомъ, — какъ она дала шпоры коню, чуть нагнулась впередъ и быстро поскакала къ Троицкому, хвостъ ея коня развѣвался яростно, крупъ конскій потно и жирно блестѣлъ, страстно стрекотали пулеметы — и съ той, и съ другой стороны, и съ той и съ другой стороны били все точнѣе, все безжалостнѣй, все четче. Смерть стрекотала рядомъ, говорила взахлебъ, молотила, сбивалась, спотыкалась и опять что-то втолковывала неразумнымъ людямъ про себя — про то, что нельзя съ ней такъ обращаться, со смертью, что слишкомъ обнаглѣли люди, забывъ, что она, смерть, приходитъ только разъ, да и то сама. А если ее торопятъ, приближаютъ, да еще сами ее творятъ — она царствуетъ, мститъ жестоко: танцуетъ на костяхъ.
«Головы намъ… своимъ младенцамъ… сапогами давитъ…»
Мимо него проскакалъ командиръ Чапаевъ.
Онъ скакалъ за безумной Пашкой.
…Ляминъ еще слышалъ далекое, дикое: «Ого-о-о-о-нь!» — а уши все сильнѣе закладывало, все сильнѣй онъ глохъ, не различая криковъ и свиста пуль, булыжнаго грома снарядовъ и стоновъ раненыхъ. Это снова была война, снова она одна, и больше ничего и никогда не было въ мірѣ, кромѣ войны: они опять воевали, и никто ихъ не могъ остановить, схватить за руку.
«Смерть! Смерть. Умереть! Такъ просто. За что? За что?!»
Онъ, трясясь на конѣ, вдругъ понялъ: онъ забылъ, за что они воевали. За что онъ сейчасъ, вотъ сейчасъ воюетъ.
«За что… за что мы бьемся… за какое такое счастье… за какую — землю…»
Пулеметы захлебывались, залпы орудій грохали надъ головами, вырывали изъ земли черные клочья. Гибель и жизнь мѣсились чернымъ и снѣжнымъ тѣстомъ, предзимнее сѣрое небо, тяжелое, свинцовое, мрачно и медленно падало сверху, какъ тотъ, съ Пашкиной печи, старый овчинный тулупъ.
«Небо, укрой, въ тебѣ единственномъ можно согрѣться».
Тамъ, далеко, черезъ грохотъ и вой, что ему не преодолѣть, скакали Чапаевъ и Пашка; Пашка вламывалась въ самую гущу боя, и хоть бы царапина, хоть бы ранка малая, — странное свинцовое, дикое небо хранило ее, кутало, укрывало собой, согрѣвало, защищало — ее и того, кто ютился въ ней, росъ и расширялъ ее. Она всходила тѣстомъ на опарѣ, и ребенокъ, побывавшій въ бою еще до своего рожденья, можетъ-быть, запомнитъ этотъ бой; смутно будетъ слышать выстрѣлы и захлебистый стрекотъ пулемета, когда родится и вырастетъ; все это будетъ приходить къ нему въ нелѣпыхъ, страшныхъ снахъ. Конечно, страшныхъ, вѣдь жизнь тогда уже будетъ свѣтлая и чистая. И красивая, какъ…
«Какъ Пашка».
Онъ, среди боя, жутко и весело улыбнулся. Зубы и бѣлки сіяли на выпачканномъ грязью и кровью лицѣ. Изъ задѣтаго пулей уха на шею, за воротъ гимнастерки стекала, застывая, кровь.
Это не рана, баловство одно: и онъ тоже какъ заговоренный, и онъ живой.
Цѣпи поднялись, бойцы кричали «ура-а-а-а!» и бѣжали, по прирѣчнымъ холмамъ и лощинамъ, къ погорѣлому селу. Черныя сгорѣвшія избы виднѣлись уже близко. Михаилъ проскакалъ мимо разбитыхъ позицій врага. Около молчащихъ пулеметовъ валялись изрубленныя въ крошево тѣла казаковъ.
Онъ прищурился и смогъ разглядѣть оставшійся въ живыхъ міръ, дымъ уже медленно истаивалъ, вечерѣло, солнце садилось: въ Троицкое рысью влетали на коняхъ бойцы, офицеры, Чапаевъ и рядомъ съ ними — Пашка.
Пашка держала въ кулакѣ поднятую надъ головой саблю. Сабля розово блестѣла въ догорающемъ солнцѣ. Хвостъ коня вертѣлся помеломъ. Лямину почудилось: онъ слышитъ длинный, торжествующій, будто похмельный, Пашкинъ крикъ и видитъ ея дикій, распяленный ротъ, и какъ дрожитъ языкъ во рту, и какъ горятъ ея бѣшеные, ледяные глаза.
##
…Она ужъ и сама поняла: на сносяхъ. Животъ на носъ лѣзъ. Не до боевъ было. Чапаевъ билъ колчаковцевъ, красные съ муками, съ потерями, но занимали село за селомъ, станицу за станицей. Взяли Аксаково. Пашка ужъ верхомъ на лошадь не садилась: тряслась въ телѣгѣ, въ обозѣ.
Когда вошли въ Аксаково — опредѣлились въ избу первыми послѣ командира. Чапаевъ заботливо глядѣлъ на Пашку, иной разъ гладилъ ее по плечу и приговаривалъ: солдатъ ты нашъ, бабеночка, дитеночка родишь, а какъ назовешь? Можетъ, въ честь меня, Васькой?
Ляминъ курилъ, плевалъ на цигарку, мялъ въ пальцахъ.
«И за что ее, сердитую, злюку, такъ любятъ всѣ?»
Хозяева, старики, мужъ и жена, и съ ними малый внучокъ, бѣлокуренькій и дико худой, худѣе сушеной тарашки, норовили налить Пашкѣ супцу погуще и погорячѣе; изъ ржаной муки бабка пекла тоненькія лепешки, тоже Пашкѣ заботливо подсовывала, а Ляминъ лишь нюхалъ ржаной ароматъ.
Она грызла лепешки, вдругъ во весь ротъ, нагло блестя зубами, улыбалась ему.
— Не трусь. Не я первая, не я послѣдняя.
…Все настало до будничнаго просто. Пашка вышла съ ведрами, пошла къ колодцу, черпнула воды, возвращалась въ избу — и Ляминъ, сидя за столомъ и грѣя ладонь объ остывающую печь, услышалъ серебряный звонъ ведерныхъ дужекъ и низкій женскій вопль.
Ринулся во дворъ, въ чемъ былъ — безъ сапогъ, босой. Стопы крючились, мерзъ, дрожалъ: ночью нападало снѣгу. Пашка валялась посреди двора, ведра укатились къ забору. Вода вылилась на снѣгъ, прожгла въ немъ синія ямы и черные разводы.
Она орала низко, басомъ. Ляминъ, дрожа, наклонился надъ ней. Онъ видѣлъ только ея ротъ — ротъ сталъ огромнымъ, какъ вскипѣвшее и булькающее озеро, ротъ ея кричалъ, какъ въ бою, нѣтъ, страшнѣе. Она раскинула руки по снѣгу, сжимала и разжимала пальцы. Подняла руки, положила на животъ. Животъ то страшно и высоко поднимался, то, дергаясь, уходилъ внизъ, становился плоскимъ; потомъ опять громадно, жутко топорщился.
Пашка оскалилась по-волчьи. Изъ-за тучъ выкатилось солнце, оно таращилось, вылѣзало изъ орбиты неба, росло, пучилось, пульсировало.
— Что… родная?..
— Начало-о-о-о-ось… умру-у-у-у-у!
— Ты терпи, — безтолково бормоталъ Ляминъ, — терпи…
Онъ въ Буянѣ не разъ видалъ, какъ рождаются телята, поросята, козлята. А здѣсь шелъ на свѣтъ головкою впередъ — человѣкъ. И женщина выгибалась, царапала себѣ животъ, мотала головой, и волосы ея вымачивались въ снѣгу, она упиралась въ снѣгъ затылкомъ и приподнималась надъ землей на пяткахъ, а потомъ опять падала на спину и силилась перевернуться на бокъ — зачѣмъ?
— Щасъ я тебя… въ избу унесу…
Онъ просунулъ руку ей подъ колѣни, другою обхватилъ подъ мышкой.
Натужился.
«Чортъ… тяжела больно!.. не подыму…»
Все-таки осилилъ, поднялъ. Качаясь, какъ на палубѣ корабля, пошелъ съ ней на рукахъ въ избу. Пока шелъ, увидѣлъ ея глаза. Они ворочались въ глазницахъ медленно и дико, красные, — это отъ натуги полопались кровеносныя жилки на бѣлкахъ. Онъ несъ ее, а она по-волчьи выла, и все красно-вишневое, вздутое дикой подушкой лицо ея было мокро, влажно-солено блестѣло подъ бѣшенымъ, бѣлымъ зимнимъ солнцемъ.
Мишка взошелъ на крыльцо, ногой толкнулъ дверь и внесъ Пашку въ избу. Она дернулась у него на рукахъ разъ, другой очень сильно, и онъ побоялся ее уронить. Скорѣй положилъ на кровать. Кусалъ губы. Подбѣжала бабка. Черезъ открытую дверь нахально и весело влетали холодъ, вѣтеръ и снѣгъ; слышно было, какъ далеко, въ сараѣ, кашляетъ и хекаетъ дедъ, — онъ кололъ дрова.
— Уйди… уйди…
Бабка замахала на него рукой.
И тутъ Пашка распахнула заплывшіе глаза.
— Баушка… пусть онъ… рядомъ…
Сжала кулаки. Вздернула оба кулака надъ головой.
«Будто… въ атаку идетъ!»
Потрясла въ воздухѣ кулаками. А потомъ вдругъ ими обоими — съ силой — ударила себя по ходящему громадными волнами животу.
— Пашенька… — Онъ всталъ на колѣни передъ кроватью. — Пашенька!
Бабка тащила ветхое полотенце.
— На-ка вотъ… подложи… изъ ея щасъ пузырь вылѣзетъ… да и кровушка…
Онъ осторожно перевернулъ ее на бокъ, подсунулъ дырявое льняное полотенце, потомъ опять положилъ ее на спину и все ловилъ, ловилъ ея руки, бьющія животъ, источникъ боли, котелъ смерти.
— Умру-у-у-у-у-у!
Бабка зашамкала:
— Нохи, нохи ей сохни… такъ ей лехше будетъ…
Ляминъ взялъ за щиколотки обѣ ея ноги и разомъ сталъ ихъ гнуть въ колѣняхъ, а онѣ не гнулись, будто желѣзные прутья.
— Паша… ножки согни… толкать-то легше тебѣ такъ…
Она катала голову по подушкѣ, била руками воздухъ, пузо свое, Лямину въ грудь, по его наклоненному надъ ней лицу. Орала уже не переставая. Бабка сердито ударила ее по рукѣ и задрала ей юбки.
— Охъ ты, охъ… Ужъ холовочка рѣжется… быстро она…
Вмѣсто лица Пашки на кровати моталась красная подушка со щелками глазныхъ швовъ, съ алыми махрами тряпичныхъ губъ, и все раздувалась и раздувалась, и Мишка такъ понялъ — вотъ сейчасъ лопнетъ. И вытечетъ жизнь вмѣстѣ съ кровью, а ребенокъ что? Ребенокъ останется тамъ. Въ ней. И не родится никогда.
Эта мысль разрѣзала его на-двое. И обѣ его половины — подожгла.
И, чтобы не сгорѣть, онъ еще ниже наклонился надъ ней, рѣзче согнулъ ея колѣни, нажалъ на нихъ, разводя въ стороны и прижимая къ матрацу, а она подъ нимъ, подъ его тяжелыми руками дергалась крупно и мощно, била локтями въ матрацъ, лохмы мокраго рта мотались и тряслись, безостановочный крикъ билъ въ грудь, шаталъ бабку и Михаила, и Мишка только шепталъ:
— Сейчасъ… сейчасъ… терпи…
Бабка перекрестилась на икону въ красномъ углу.
— Бохородице, Дѣво, радуйся! Блаходатная Маріе, Хосподь съ Тобою…
Пашка выла и мотала головой.
— Чо-о-о-о-ртъ! Умру-у-у-у-у! Умираю-у-у-у-у!
Изо рта у нея шли слюна и пѣна. Мишка вытеръ ей ротъ концомъ простыни, и Пашкины зубы закусили простыню, грызли ее.
— Грызи, можетъ, такъ сдюжишь…
Бабка, тряся руками, шамкнула Мишкѣ:
— Дверь-то замкни… дуетъ!.. снѣгу въ сѣнцы намететъ…
— Никуда не отойду! Пусть мететъ!
Пашка билась подъ его руками огромной бѣшеной рыбой, колючимъ страшнымъ осетромъ.
«Мечи, мечи свою икру-то ужъ…»
— Ты, дура, — нарочно ругалъ онъ ее сквозь сжатые зубы, — ты, кляча водовозная, ты… коза ты дереза… ты…
И выдыхалъ — будто на смертномъ одрѣ духъ послѣдній испускалъ:
— Ми-ла-я!
— Блахословенна Ты въ жонахъ… и блахословенъ плодъ черева Твоехо… яко Спаса родила…
Мелко, мелко, быстро, суетливо крестилась бабка на хлѣбно-черную, съ золотыми взлизами позолоты, икону.
Мишка вдругъ почувствовалъ, какъ подъ его руками Пашкино тѣло ослабло, обвисло, поникло, — замерло. И крикъ пересталъ. Губы мотались красными тряпками, а крика больше не было. Щелки глазъ сомкнуты. Вздувшееся мокрое лицо медленно, пугающе блѣднѣетъ. Не дышитъ.
«Умерла».
— Нѣтъ! — крикнулъ онъ такъ, что срубъ едва не разсѣлся.
— Погляди… лови-ка… да нѣтъ, давай я…
На кровати, подъ согнутыми голыми ногами Пашки, шевелился красный, мокрый, смуглый, голый звѣрекъ.
Михаилъ съ трудомъ понялъ: это — ребенокъ.
— Бабка… почему онъ… молчитъ?!
Бабка тянула ему кухонный широкій тесакъ.
— Рѣжь!
— Что — рѣжь?
— Тяжъ!
Онъ вытянулъ руки и коснулся скользкаго краснаго тѣльца.
«Ребенокъ… мой ребенокъ…»
Слѣпо взялъ изъ руки бабки ножъ — она тыкала ему въ руку рукоятью. Взмахнулъ лезвіемъ. Полоснулъ наудачу, плохо видя: глаза у него заволокло краснымъ, горячимъ. Ловилъ соль губами.
Онъ плакалъ и не понималъ этого.
Изъ отростка обрѣзанной лиловой пуповины сочилась темная кровь. Бабка, тутъ какъ тутъ, тянула нитки.
— Перевязывай… коли самъ такой ловкій…
Ребенокъ корчился и крючился, Мишка, дрожа руками и всѣмъ тѣломъ, туго обматывалъ вокругъ краснаго отростка суровую сапожную нить.
— Все, все, ишь, замоталъ…
Онъ затрясъ кровавыми руками Пашку за плечи.
— Паша! Паша! Очнись!
Покрывалъ поцѣлуями ея мокрое, соленое лицо.
— Почему онъ не оретъ, бабка?!
И тутъ, будто по его приказу, младенецъ впервые въ жизни вдохнулъ, его легкія съ болью расправились, развернулись въ немъ, внутри, двумя красными листьями, онъ вдохнулъ еще глубже — и отъ первой лютой боли заоралъ, какъ рѣзаный поросенокъ, взвивая рѣзкій красный крикъ до потолка избы, пробивая имъ опалубки и крышу:
— Йа-а-а-а-а…. йа-а-а-а-а-а!
И на этотъ всевластный крикъ дрогнуло и пошло крупными волнами все недвижное, обмякшее тѣло матери, Пашка разлѣпила глаза, они горѣли на измученномъ лицѣ такъ ярко и чисто, что Михаилу захотѣлось упасть передъ ней на колѣни.
Онъ и упалъ — громко бухнулся передъ кроватью, а бабка въ это время, пришептывая что-то невнятное, богородичное, старательно искала, ловила обѣими руками выходящій изъ Пашки послѣдъ и уносила его вонъ изъ избы, зажимая въ окровавленной грязной тряпицѣ, шамкала:
— Пойду… въ охородѣ зарою…
Вернулась. Время не шло — стояло.
Колодезной водой въ тѣхъ, еще не упавшихъ во дворѣ съ коромысла подъ страшный крикъ, свѣтящихся серебромъ ведрахъ.
— Хозяйка… — Онъ обернулъ къ бабкѣ невидящее лицо. — Ты что-нибудь — ну, пеленки — почище притащи…
Бабка прошаркала къ дубовому шкапу, дверца отъѣхала съ тонкимъ протяжнымъ скрипомъ. Мореный дубъ блеснулъ въ полутьмѣ избы, и блеснуло придѣланное къ дверцѣ зеркало. Зеркало отразило страшное, искореженное временемъ бабкино старое лицо, сходное съ изрытой корой стараго дуба, Пашку на кровати, съ все еще согнутыми ногами, испятнанныя кровью простыни, полотенца и одѣяла, орущаго взахлебъ младенчика и Мишку на колѣняхъ передъ кроватью.
Всѣ они стыли, замирали въ зеркалѣ, еще дрожали жизнью, но уже затихали — тамъ, внутри зеркала, время останавливалось навѣкъ — и они вмерзали въ зеркало навѣкъ; кто-то другой, вѣка спустя, придетъ, откроетъ старый шкапъ — зеркало блеснетъ, а тамъ — они.
Но не разбить гладкій ледъ. И не схватить за руки. И не расцѣловать, не прижаться мокрой, въ слезахъ радости, щекой.
Ребенокъ все кричалъ. Пашка протянула слабыя вѣтви-руки. Онѣ качались, какъ на прирѣчномъ вѣтру.
— Дай… дай мнѣ…
Михаилъ вскочилъ, себя не помня. Взялъ на руки младенца. Чуть не уронилъ опять на кровать: такъ неистово скользокъ, увертливъ онъ былъ, весь бился, тоже какъ давеча безумная рыба-мать, только — малая рыбка: судачокъ, подъязокъ.
— Ахъ ты…
Бабка сунулась ему подъ локоть съ чистыми тряпками. Онъ положилъ въ тряпки ребенка. Бабка, заботница, завернула углы. Онъ, дрожа, поднесъ ребенка къ груди Пашки. Мать взяла на руки ребенка и положила себѣ на животъ. Онъ, въ тряпкахъ, кричащій, у нея на дышащемъ животѣ поднимался и опускался, какъ на качеляхъ.
— Ну… подыми меня… сѣсть — хочу…
Онъ подтащилъ ее, ухвативъ подъ мышки, къ никелированной спинкѣ кровати. Подложилъ подъ спину подушку. Она ухватила младенца одной рукой, угнѣздивъ его себѣ на локтѣ, въ сгибѣ руки, а другой быстро, будто вѣкъ это дѣлала и привыкла такъ дѣлать, распахнула себѣ гимнастерку на груди, пуговицы разстегнула — и изъ лифа выпростала набухшую молокомъ, бѣлую, въ голубыхъ тонкихъ жилкахъ, грудь.
Ребенокъ искалъ и наконецъ ухватилъ сосокъ.
Мишка глядѣлъ, какъ ребенокъ жадно сосетъ.
Его крохотныя, какъ цвѣты ромашки, ручонки безпорядочно ползали по груди матери.
Пашка крѣпче прижала ребенка къ груди. Подняла голову.
Михаилъ ослѣпъ отъ свѣта ея лица.
##
Недолго провалялась въ кровати Пашка. На третій день послѣ родовъ уже воду таскала, обѣдъ стряпала. Съ ребенкомъ обращалась такъ ловко, будто цѣлый вѣкъ съ дѣтьми возилась.
Дни шли, и недѣли летѣли. И люди дѣлали свои печальныя и радостныя дѣла. И складывали оружіе, и чистили винтовки, и собирали обозы.
Земля горѣла, и зима горѣла изнутри — мощными слѣпящими звѣздами по ночамъ, факелами, кострами, печами и спиртовками, на которыхъ пищу готовили и чай кипятили. А днемъ пылало надъ людьми вконецъ спятившее солнце — бѣлое и жаркое, какъ лѣтомъ, и въ февралѣ на пригоркахъ уже во-всю сонъ-трава цвѣла.
Красноармейцамъ нельзя было засиживаться во взятыхъ селахъ. Центръ и Чапаевъ сошлись въ одномъ: надо итти на Уфу.
Михаилъ пытался втолковать Пашкѣ: останься тутъ, у стариковъ, съ дитемъ! нельзя тебѣ сейчасъ въ бой! парнишку пожалѣй! вѣдь кормящая мать ты! — на что она лишь отмалчивалась, сцѣпивъ зубы, закусивъ губу.
И онъ опять видѣлъ, какъ стираетъ въ лохани и гладитъ бабкинымъ чугуннымъ утюгомъ, полныхъ чадящихъ углей, она истрепанную, потертую въ плотныхъ швахъ гимнастерку, чиститъ щеткой сапоги, какъ втыкаетъ длинный шомполъ въ стволъ винтовки. Въ углу стояла сабля: саблю ей самъ Чапаевъ за побѣды — подарилъ.
Сабля Пашкина была такъ остро наточена, что не дай Богъ нечаянно сунуть палецъ подъ лезвіе: палецъ оттяпаетъ напрочь.
…Пули свистѣли, и мысли свистѣли подобно пулямъ, быстро и обреченно. Бойцы лежали въ цѣпи, каждый думалъ о пулѣ. И молился: пуля, не тронь меня.
Молился и Ляминъ. Кому? Богу? Онъ даже не называлъ про-себя Его имени. Пулѣ вотъ и молился: пулечка-дурочка, птичка-курочка, милая, хорошая, пролети мимо, не тронь меня.
И такъ каждый молился о себѣ.
А кто — молился о другомъ?
Вывести бы такого передъ строемъ, показать бы всѣмъ: вотъ онъ, онъ о себѣ — не думалъ, о другихъ молился.
Смерть — краткій мигъ. Если такъ, то она блаженна.
Смерть — долгая, неистовая мука. Такой ему не надобно.
«Пусть будетъ мгновенная смерть».
Лежалъ, потомъ вскочилъ и перебѣжалъ, и залегъ за крохотный холмикъ, а въ груди екнуло: смерть, и все, и больше никогда онъ не увидитъ — сына?
Своего или чужого, объ этомъ онъ думать пересталъ. Властно, жестко сказалъ себѣ: Мишка, прекрати объ этомъ страдать! Латыша, хоть онъ мотался рядомъ, онъ и видѣлъ и не видѣлъ. Смотрѣлъ на него, а получалось, что сквозь него.
Они оставили младенчика въ Аксаково, у тѣхъ древнихъ, молчаливыхъ бабки и дѣда. Бѣлобрысый внучокъ стоялъ у печки и ковырялъ ногтемъ известь, когда Пашка мялась передъ бабкой, переступала съ ноги на ногу, не знала, какъ начать. Потомъ сунула ей — изъ кулака въ кулакъ — мятыя, теплыя бумажныя деньги. Нате, возьмите. Сына моего сберегите. Я потомъ — за нимъ вернусь. Аксаково сельцо-то?
Бабка развернула большую, какъ простыня, цвѣтную бумажку, поднесла къ столу, поближе къ тускло горящей керосиновой лампѣ, гладила ладонью — расправляла. Дѣдъ сидѣлъ на лавкѣ, уронивъ бѣлобородую голову на тщедушную журавлиную грудь: онъ съ утра выпилъ и засыпалъ на ходу. «Гдѣ одинъ внучокъ, тамъ и двое, Хосподи помози намъ», — прошамкала бабка и громко задышала, и беззубо зажевала впалыми губами, и тихо заплакала.
А младенецъ, крѣпко запеленутый, лежалъ на взрослой кровати и нѣжно, мирно спалъ — у него еще не было колыбельки, а пьяница-дѣдъ плелъ щедрымъ языкомъ, обѣщался сладить.
Они тогда вышли изъ избы, и Пашка быстро пошла, почти побѣжала — къ коню, привязанному къ пряслу. Добѣжала. Взлетѣла въ сѣдло. Пока онъ отвязывалъ своего коня — она уже скакала въ степь, а тамъ, вдали, виднѣлся обозъ, его послѣднія телѣги, а впереди обоза черной, сизой, болотной человѣчьей лавой катилось войско, и онъ скакалъ за Пашкой, крѣпко сжавъ зубы, и вѣтеръ стиралъ, смахивалъ у него со щекъ стыдную слезную влагу.
##
…Сухой, противный, быстрый свистъ — будто ножомъ провели по чугунной сковородѣ. Онъ опять вскочилъ и, пригибаясь, перебѣжалъ — отъ куста къ кусту. Все впередъ и впередъ. Все ближе и ближе. Къ кому? Къ чему?
Къ атакѣ.
«Сколько ужъ разъ я въ атаку ходилъ… и людей подымалъ…»
Зачѣмъ считать. Теперь не до счета.
Пашка — на конѣ. Подъ нимъ коня убили. Красиваго, умнаго коня. Онъ только ногами задергалъ, заржалъ коротко, тоскливо — и вытянулся весь, и глазъ одинъ закрылъ, а другой такъ и остался глядѣть — мертво, холодно, темно. Пашка верхомъ, а онъ вотъ перебѣжками.
— Впере-о-о-о-одъ!
«Господи… сколько же разъ этотъ крикъ…»
Цѣпь поднялась и тяжело побѣжала впередъ. Сапоги внезапно стали громадными, чугунными.
«Какъ тотъ утюгъ… которымъ Пашка… гимнастерку гладила…»
Бѣжали. Потомъ крикъ:
— Ложи-и-и-ись!
Лечь, это же счастье. Это — роздыхъ! А можетъ, и жизнь.
Да, да, конечно, это она и есть, жизнь. Ты — живой, и ты — лежишь. Къ землѣ прижался. Земля тебя не обманетъ.
— Впере-о-о-о-о-одъ!
Поднялись. Бѣгутъ, винтовки наперевѣсъ.
И мимо — сбоку — по краю цѣпи — скачутъ: это красная конница, и сабли наголо, и тамъ, тамъ — Пашка!
Онъ еще видѣлъ ее, ея гладкаго гнѣдого коня, ея скачку, бѣшеную, какъ ея дыханіе, какъ ея прозрачные глаза, — бѣшеный галопъ, и вся прижалась къ конской выгнутой шеѣ, — еще скакали всѣ вокругъ нея, опережая ее, стремясь настичь и разгромить, и уничтожить, и овладѣть, — онъ еще видѣлъ ее впереди, хоть она, на конѣ, становилась все дальше, — какъ вдругъ что-то въ воздухѣ произошло нелѣпое, подломился самъ воздухъ, его прозрачные, сѣрые зимніе слои смѣстились, хрустнули и стали осыпаться и валиться, и вся земля покрылась твердыми, слюдяными осколками воздуха, — а это Пашка падала съ коня, и онъ, близоруко щурясь, видѣлъ это, падала такъ медленно, что нельзя было повѣрить въ то, что она падаетъ, — можетъ, это вѣтеръ ее сорвалъ, а сейчасъ опять подниметъ за руки, за плечи и крѣпко усадитъ обратно въ сѣдло, и она сама посмѣется надъ собой, надъ сильнымъ и дерзкимъ вѣтромъ.
— Пашка-а-а-а-а-а!
Онъ такъ оглушительно закричалъ, что цѣпь подумала — онъ поднимаетъ бойцовъ въ атаку, и всѣ повскакали, и рванулись впередъ, а пулеметъ бѣляковъ будто обрадовался, зачастилъ, затрещалъ густо и жадно, и огонь сметалъ людей наземь, и они валялись и корчились на землѣ, обнимая и царапая землю, ударяя ее безсильными, полными боли кулаками, грызли полными боли зубами, — и ротъ Мишки, полный боли, выплюнулъ въ черный огненный міръ еще и еще разъ:
— Пашка-а-а-а-а! Пашка-а-а-а-а!
Конь еще волокъ ее за ногу, застрявшую въ стремени. Всталъ. Косился, раздувалъ ребрастые бока.
Цѣпь бѣжала въ атаку, и клекоталъ пулеметъ, а потомъ вдругъ умолкъ, и неслась конница, сверкали сабли, и пахло кровью, и продолжался ужасъ, не было ему конца.
Михаилъ, тяжело топая въ намокшей талымъ снѣгомъ шинели, подбѣжалъ къ Пашкѣ.
Не было силъ глядѣть. Но глаза сами глядѣли.
Отъ глазъ не укроешься. Не скроешься отъ жизни, пока ты живъ.
Вотъ, гляди: смерть.
Онъ всталъ на колѣни въ грязь и намѣшанный конскими копытами, измолоченный сапогами снѣгъ. Хотѣлъ вытащить Пашкинъ сапогъ изъ стремени. Не смогъ. Выдернулъ изъ сапога ногу.
Она, какъ всѣ солдаты, обматывала ноги портянками.
Такъ лежала: одна нога въ сапогѣ, другая въ портянкѣ.
Скулы твердѣли. Глаза ледяно, жестко глядѣли въ широкое, полное солнца небо.
Рядомъ валялась нагая сабля. Она не успѣла взмахнуть ею, повоевать.
Вокругъ нихъ, обтекая ихъ, бойцы моремъ подъ вѣтромъ катились по полю въ торжествующую атаку, и уже осиливали колчаковцевъ, и побѣждали. Сырой, влажный и винный запахъ побѣды, запахъ крови, висѣлъ и плылъ въ холодномъ воздухѣ. Снѣгъ, ледъ, вѣтеръ, страхъ, счастье мѣшались и жгли, накатывали, отступали. Близкая весна плыла и горѣла совсѣмъ рядомъ.
И тутъ налетѣлъ сырой и сѣрый вѣтеръ, опять все вмигъ заледенѣло, зима взяла верхъ, Мишка дрожалъ всѣмъ тѣломъ подъ шинелью, подъ куцей гимнастеркой, подъ штопаннымъ Пашкой исподнимъ бѣльемъ.
— Пашка-а-а-а-а…
Бойцы убѣжали далеко впередъ, ускакала конница. Мишка съ Пашкой остались одни въ зимнемъ полѣ. Вѣтеръ клонилъ и гнулъ Мишку къ землѣ, моталъ, какъ колоколъ на сгорѣвшей колокольнѣ.
Онъ весь вдругъ сгорѣлъ; выгорѣлъ изнутри.
Страшно было прижать къ себѣ свою руку: войдетъ въ пустое нутро, а тамъ — горячій сѣрый пепелъ.
— Пашенька… дролечка моя…
Медленно легъ грудью на ея грудь. Прислушивался: а вдругъ ея сердце бьется. Изъ-подъ его шинели вытекала на мерзлую землю, на взрыхленный снѣгъ ея кровь.
И вдругъ какъ началъ ее цѣловать, крѣпко, быстро, ея лобъ, щеки, ротъ, шею, грудь, жесткое сукно шинели царапало и обжигало ему губы, а онъ обхватывалъ ее все крѣпче, и трясъ, и сжималъ, и вжималъ себѣ въ ребра, въ грудь и животъ, будто хотѣлъ втиснуть, влить ее въ себя, слиться съ нею, склеиться, срастись, — а она молчала, и голова ея мертво, тяжело клонилась на тонкой, уже безвольной шеѣ и моталась сѣрымъ, сивымъ латуннымъ маятникомъ.
Она была убита мѣткимъ выстрѣломъ.
Пуля вошла въ сердце и сразу остановила его.
Она не мучилась.
— Ты… не попрощалась со мной…
Заревѣлъ быкомъ. Оторвалъ ее отъ себя и силой бросилъ на землю.
Потомъ испугался, нѣжно обнялъ, какъ живую, сѣлъ, положилъ ея мертвую голову себѣ на грудь и все гладилъ, гладилъ перепачканную кровью ея шинель, и пальцы дрожали, какъ зимнія птицы, на вѣтру. Снѣгъ вокругъ нихъ становился краснымъ, паръ вился надъ прострѣленной шинелью, надъ раной, надъ ихъ голыми головами. Вѣтеръ вертѣлъ ихъ волосы, игралъ съ ними, смѣялся надъ ними.
##
Латышъ бросилъ копать мерзлую твердую землю, воткнулъ лопату въ снѣгъ и отеръ запястьемъ потъ съ блѣднаго лба.
Они оба, Мишка и Латышъ, стояли надъ тѣломъ Пашки.
Пашка лежала передъ ними на землѣ смирно, покорно. Смерть не исказила ея лица. Оно глядѣло съ земли вверхъ — и съ закрытыми глазами: глядѣло тѣмъ свѣтомъ, какой Мишка увидалъ горящимъ у нея на лицѣ, когда она впервые кормила ребенка.
Глядѣло этимъ насильно отнятымъ у нея свѣтомъ, всей неистраченной молодостью, блѣдностью погибели, ясностью судьбы. Все оборвалось, остались только: смиренный свѣтъ — у нея, и темная боль — у нихъ, живыхъ.
Рядомъ съ Пашкой лежали ея сабля и ея винтовка.
— Съ ними — похоронить?
Вопросъ Латыша прозвучалъ холодно и ясно. Онъ что-то еще сказалъ, да вѣтеръ взвился, свистнулъ и заглушилъ, скомкалъ голосъ.
— Нѣтъ. Отдадимъ винтовку бойцамъ. Саблю — я самъ возьму.
— Хорошо. Тогда я возьму винтовку.
Скрестили глаза. Михаилъ отвернулся.
Страшно, до дрожи кадыка, хотѣлось курить.
А табака — не было ни крошки.
Оба смотрѣли въ яму, ее выкопалъ Латышъ. Глубокую и узкую.
— Гроба нѣтъ, — тускло выговорилъ Ляминъ.
— Будемъ такъ.
— И простыни нѣтъ?
— Какъ татарку, хочешь? Въ мѣшокъ?
Михаилъ шагнулъ назадъ. Прислонилъ ладонь ко лбу.
Отошелъ, разгребая снѣгъ носками сапогъ, къ коню; покопался въ вещевомъ мѣшкѣ; вытащилъ рогожу, развернулъ ее, это оказался мѣшокъ изъ-подъ картошки. Зачѣмъ съ собой захватилъ? И самъ не зналъ.
«Вотъ для этого и взялъ. Чтобы — ее погрести».
Латышъ усмѣхнулся.
Ляминъ убилъ бы его за эту ухмылку.
Вспомнилъ, какъ калякали о немъ охранники: Плюгавый во всѣхъ тюрьмахъ, гдѣ служилъ, и во всѣхъ войскахъ, гдѣ сражался, отличался невиданной жестокостью. Ненасытно убивалъ, жегъ, рѣзалъ, истязалъ. И самъ объ этомъ разсказывалъ. И, разсказывая, — хохоталъ.
«Неужели она съ нимъ ложилась? Или онъ ее — принудилъ? Убить пригрозилъ?»
— Да вѣдь мѣшокъ твой ма-лень-кій, — раздѣлилъ слоги. — Она туда не влѣ-зетъ.
— Я… на голову его надѣну ей, — тяжело выдавилъ Ляминъ. — Чтобы она… не… задохнулась. И земли не видѣла. Черной.
Латышъ снова ухмыльнулся.
Ляминъ отвернулся. Сжималъ и разжималъ кулакъ въ карманѣ штановъ.
Взялъ картофельный мѣшокъ, расправилъ его, присѣлъ рядомъ съ Пашкинымъ тѣломъ; медленно, какъ во снѣ, натягивалъ мѣшокъ ей на голову.
Край мѣшка доходилъ ей до живота.
Теперь уже плоскаго, отрожавшаго, — мертваго живота.
Въ слѣпомъ мѣшкѣ, напяленномъ на голову и грудь, она походила на висѣльницу.
«Мертвая жизнь, это смерть. А можетъ, смерть это тоже жизнь? Какая? Чушь не пори самъ себѣ».
Латышъ взялъ Пашку за ноги: одну ногу въ одну руку, другую ногу — въ другую руку. Ляминъ подхватилъ ее, безликую, подъ мышки. Такъ ему было легче опускать ее въ яму — онъ не видѣлъ ея лица.
Они стояли надъ ямой, по обѣ ея стороны, и держали Пашку. Надо было ее опустить; для этого надо было залѣзть въ яму или подцѣпить Пашку на ремни; но яма была слишкомъ узка и слишкомъ глубока, и ремней у нихъ не было.
— Бросай, — мертво сказалъ Мишка.
Латышъ разжалъ руки.
Михаилъ постарался разжать руки одновременно съ нимъ.
Пашка свалилась въ яму все равно неудачно: немного на-бокъ, мѣшокъ зацѣпился за корень, торчащій изъ земли, и поползъ наверхъ, и Мишка обмеръ — а вдругъ лицо обнажится, — но шея открылась, а лицо — нѣтъ.
«Ты не должна это видѣть, какъ я буду засыпать тебя землей».
Лопата была одна на двоихъ. Ее взялъ Латышъ. Ляминъ шагнулъ впередъ и грубо выдралъ лопату изъ рукъ Латыша.
— Я самъ.
— Работай. Устанешь — скажешь.
Мишка махалъ лопатой. Въ яму ссыпались, летѣли черные комья. Пахло землей, корнями, гнилью, весной. Весна скрывалась рядомъ, за тѣмъ сыртомъ, за дальнимъ курганомъ.
Махалъ лопатой, махалъ — и вдругъ отбросилъ лопату отъ себя, сѣлъ на корточки, согнулъ спину, закрылъ глаза локтемъ. Трясся.
Латышъ наклонился, взялъ лопату и сталъ аккуратно засыпать землею яму.
Когда до края ямы уже оставалось немного насыпать земли, Латышъ протянулъ лопату Мишкѣ:
— На. Засыпь.
Мишка кидалъ и кидалъ землю, и скоро, быстро вырасталъ на мѣстѣ ямы холмъ, а лопата все металась и металась, все летала, Мишка вонзилъ ее въ черный холодъ земли и вскинулъ на Латыша глаза, и Латышъ глядѣлъ на него, и они читали въ глазахъ другъ у друга: «Я тебѣ сострадаю. Я — тебя — понимаю. Я — тебя — ненавижу. Терпи».
«Терпи… терпи… я такъ говорилъ ей… когда она рожала…»
Лопата сама вывалилась изъ рукъ. Черенокъ уткнулся въ снѣгъ. Лотокъ, облѣпленный глиной, лежалъ на землѣ.
— Все?
Латышъ опять усмѣхался.
— Все. Есть закурить?
— Нѣтъ.
— И у меня — нѣтъ.
— Что будемъ дѣлать?
— Ничего.
Латышъ наклонился и поднялъ съ земли лопату. Носкомъ сапога счистилъ землю и грязь съ лотка.
Ляминъ сталъ мелко дрожать.
Онъ — въ той недавней ямѣ, необъятной, страшной, заваленной бревнами и хвойными лапами — голую Марію вспомнилъ.
«Обѣ въ землѣ. Марія — въ землѣ, и Пашка — въ землѣ. Земля всѣхъ пожретъ. Всѣхъ съѣстъ. Всѣхъ насъ. Никто не уклонится. Не удеретъ. А мы?! За что бьемся! Гдѣ же — земля? Наша, наша земля? Гдѣ земля?! Гдѣ — свобода?! Есть ли конецъ бойнѣ?! Да кому, кому она нужна, эта бойня?! Намъ?! Или — имъ?! А кто такіе они?! И кто такіе мы?! Нѣтъ границы! Нѣтъ! Они и мы — одна земля! Одна плоть! И кровь тоже — одна! Все — одно! Все — едино! А мы… все убиваемъ и убиваемъ… убиваемъ и убиваемъ… другъ друга… другъ — друга…»
Тучи ошалѣло неслись надъ ихъ головами. Вѣтеръ дулъ холодный, страшный, а земля была теплая.
Теплая и нѣжная. И — дышащая.
Дышала, раскидывалась подъ ними, — женщина, ласковая, могучая.
«Сколько мертвыхъ брошено въ нее… въ жадину… и все равно зачнетъ… и — родитъ… новыхъ людей родитъ…»
— Латышъ!
Латышъ стоялъ къ нему спиной. Обернулся нехотя.
— Что кричишь?
— Ты спалъ съ ней?
Латышъ усмѣхнулся. Щелкнулъ ногтемъ по мѣдной пуговицѣ гимнастерки. На пуговицѣ въ дремномъ зимнемъ полумракѣ сверкнула подъ вѣтромъ пятиконечная звѣзда.
— А тебѣ не все равно?
— Значитъ, не скажешь.
Небо надъ ними вздувалось кусками сѣрой шкуры, вѣтеръ, плохой скорнякъ, грубыми острыми ножницами все рѣзалъ и рѣзалъ эту мощную, лохматую баранью шкуру на новые, узкіе и широкіе лоскуты, кромсалъ, терзалъ. И снова шилъ, сшивалъ острой, насквозь, навылетъ, стальной и ледяной иглой.
Жесткія, желѣзныя лица людей алѣли отъ вѣтра, ненависти, горя, холода.
— Пашка, нашъ сынокъ, найду его, — сказалъ холодному черному холму на прощанье.
Махнулъ рукой Латышу: пойдемъ!
Но все стояли. Не въ силахъ уйти.
Не въ силахъ расцѣпиться, разорваться съ этимъ небомъ, съ этимъ вѣтромъ, съ этимъ снѣгомъ, съ этой могилой, — съ этой землей.
##
Въ іюнѣ красные отбили у бѣлыхъ Уфу.
Въ сентябрѣ, подо Лбищенскомъ, погибъ въ бою Чапаевъ.
Комдивомъ Двадцать пятой стрѣлковой дивизіи сталъ Иванъ Кутяковъ.
Кутяковъ жестко сказалъ имъ всѣмъ: воюемъ до послѣдняго!
И рубанулъ воздухъ короткопалой рукой.
Они, бойцы, слушали, глядѣли и вѣрили.
Время то бѣжало, задыхаясь, то ползло мѣдной улиткой.
Время, насквозь прошитое смертной мѣдью пуль. Щедро посыпанное сѣрымъ, тусклымъ перцемъ пороха. Ѣшь не хочу.
А можетъ, его ужъ и не было, времени-то; были только они, люди, время изувѣчившіе, укравшіе его сами у себя.
…Ляминъ отпросился у Кутякова въ Самару.
Изъ Самары выбили бѣлочеховъ, заплативъ богатой кровью, да съ юга на губернію двигались уральскіе бѣлоказаки.
Ляминъ рѣшилъ такъ: пока передышка, съѣздить въ Новый-Буянъ.
«Если сожгли село — хоть на пепелище посмотрѣть».
Онъ до сихъ поръ не зналъ, что съ его домомъ, что съ отцомъ, что съ сестрой.
«Дай-то Боже, чтобы живы хоть остались».
Шла, наползала изъ-за горбатыхъ усталыхъ уваловъ, снѣгами скалилась зима.
Трясся въ вагонѣ. Сгорбился у деревянной стѣнки. Дремалъ, нахлобучивъ на брови папаху, да ушки на макушкѣ. Винтовку и во снѣ сторожилъ.
Не ѣлъ, не пилъ: нечего было. Напротивъ крестьянинъ узелокъ на колѣняхъ развязалъ, творогъ изъ узелка — руками ѣлъ: Михаилъ чуть руку не протянулъ — попросить кусочекъ.
Крестьянинъ шамкалъ, медленно, съ трудомъ прожевывалъ творогъ, все ѣлъ и ѣлъ, нескончаемо, нудно и соблазнительно. Ляминъ закрылъ глаза, но чувствовалъ опасный, свѣжій и дѣтскій запахъ творога.
Соленая горячая уха затекала въ ротъ. Онъ жадно глоталъ ее.
…понялъ — это его слезы.
##
Громадныя звѣрьи спины Жигулей горбились, вздымались, опадали, морщилась и ходила огромными застылыми волнами земля, лишь прикидывалась незыблемой и вѣчной, — ледяная Волга мчалась, застывала первымъ непрочнымъ льдомъ, могуче, сверкающе заворачивая на югъ, прорѣзая собой допотопную, мертвую древность. Здѣсь въ мѣловыхъ осыпяхъ свѣтятся гигантскіе скелеты мертвыхъ спиральныхъ раковинъ; на обрывахъ изъ осыпей торчатъ, какъ патроны, длинные страшные белемниты; Мишка съ парнями не разъ находилъ ихъ на берегу, въ сыромъ пескѣ, у кромки прибоя. Огольцы вопили: «Чортовъ палецъ! И еще одинъ!» Размахивались, швыряли ихъ въ рѣку, кто дальше кинетъ.
Земля ходила ходуномъ и вздымалась подъ ногами лѣснымъ, мохнатымъ чернымъ тѣстомъ, осыпалась каменной соленой крошкой, скользила подъ ногой нѣжной наледью, лѣпилась къ подошвамъ то бѣлой, то синей, то рыжей глиной.
«Рыжій… рыжій… я — безстыжій…»
Шелъ въ шинелькѣ своей, съ латанымъ вещевымъ мѣшкомъ за плечами, штыкъ горѣлъ на закатномъ солнцѣ, по знакомой съ дѣтства дорогѣ, — уже къ Буяну подходилъ.
Ледокъ лужъ хрустѣлъ подъ сапогами.
Люди на пути попадались. И большіе, и малые. Ему все равно было — дѣти, бабы, мужики, старики. Онъ не различалъ лицъ, не видѣлъ глазъ и рукъ. Роста не видѣлъ. Возраста.
Съ нимъ заговаривали. Онъ молчалъ. Такъ и шелъ молча.
«Они думаютъ — я глухой. Да я, можетъ, уже и глухой».
Шелъ все быстрѣе, увидавъ первыя избы. Все быстрѣе и быстрѣе. Все шире, бѣшенѣе шагъ.
Уже — бѣжалъ.
Бѣжалъ и глоталъ слюну, внезапно ставшую густой, сладкой. Слюна забивала горло.
Подходилъ — къ пустотѣ.
…вѣтеръ шевелилъ сухую траву на пепелищѣ. Ляминъ глядѣлъ и не видѣлъ. Онъ не видѣлъ пустоты вмѣсто дома, а потомъ увидѣлъ домъ — домъ стоялъ такъ крѣпко и мощно, вырасталъ изъ земли, неколебимый и веселый, какъ никогда; и вродѣ бы крашеный, и вродѣ обихоженный. Дверь стукнула, вѣтеръ ее самъ открылъ; и на крыльцо вышелъ заспанный Еѳимъ, теръ лобъ и переносье соннымъ кулакомъ.
— Отецъ! — сказалъ Михаилъ мертво.
…не было никакого отца.
Онъ сталъ видѣть. Медленно поводилъ глазами. Щупалъ ими землю.
Присѣлъ на корточки, взялъ въ пальцы пепелъ, растиралъ въ пальцахъ его. Холодный, черный и сизый, присыпанный снѣжной крупкой, какъ крупной солью.
Пепелъ незамѣтно становился пальцами.
Онъ самъ медленно становился белемнитомъ.
Кто-то, кто былъ сильнѣе, мощнѣе его, хотѣлъ вколоть его, белемнитъ, острымъ концомъ въ землю; засыпать землею и пепломъ.
Всталъ. Отеръ черную руку о шинель.
Пошелъ по улицѣ, глядя на еще живые, зрячіе дома.
Въ иныхъ горѣлъ свѣтъ.
Онъ самъ не зналъ, куда шелъ — ноги, какъ умнаго коня, сами привели его къ дому Ереминыхъ.
Долго стоялъ, не рѣшаясь войти, вцѣпившись въ калитку. Толкнулъ калитку, прошлепалъ на крыльцо. Не крикнулъ, а просто сказалъ, скучно и негромко:
— Эй, есть кто живой?
Было понятно: есть. Въ хлѣву мычала корова. Крыльцо подметено было, снѣгъ налеталъ на чистыя доски, и голикъ, связанный изъ ивовыхъ прутьевъ, скромно стоялъ, приткнутый къ рѣзному деревянному столбу.
Долго слушалъ. Мерзъ на низовомъ вѣтру. Сѣрыя, синія тучи быстро летѣли съ сѣвера, отъ Волги, накрывали холоднымъ платомъ село, распадки, горбы лѣсистыхъ черныхъ горъ. Сѣрая, затянутая хрупкимъ тощимъ льдомъ, извѣтренная земля вся продрогла побирушкой-сиротой, ея дырявая небесная шаль рвалась подъ вѣтромъ на ветхіе куски конопляной мѣшковины, опять склеивалась, дрожа, въ скорбную холщовую плащаницу, а снѣгъ утѣшалъ сироту, укрывалъ до горла, заметалъ толстымъ, густымъ одѣяломъ.
Хотѣлъ ужъ итти. Внутри избы по половицамъ застучали босыя, будто дѣтскія пятки.
На крыльцо выбѣжала рябая дѣвчонка. Вытирала мокрыя руки о фартукъ.
— Душка!
Дѣвчонка подняла руки, какъ бы защищаясь. И глазами мелко моргала, до смерти испугалась; и ротъ открыла, уже для крика.
Ляминъ взбѣгалъ на крыльцо, уже обнималъ ее, притискивалъ къ себѣ. Цѣловалъ въ пахнущій овсомъ русый затылокъ.
— Душка, Душенька…
Душка отодвинула отъ груди Михаила рябое лицо. Щупала его, какъ дорогую вещь, какъ еслибы онъ былъ — часы, обнова.
— Минька… здравствуй… на множество лѣтъ… а-а-а-а…
И — въ слезы.
Слезы бабьи, мелкія да частыя, частый дождикъ, такъ близко непогода — лишь зазѣвайся, и посыплютъ.
Михаилъ трясъ ее за плечи:
— Что?! Что…
— Ты видалъ свой до-о-о-о-омъ?!
— Да видалъ. Видалъ!
— Спалили его-о-о-о-о!
— Какъ отецъ? Мать?
— Мама — дома-а-а-а… Отецъ — какъ ушелъ бить германцевъ, такъ и пропа-а-а-алъ…
— Да чего ревешь-то, коровища?!
Опять обнималъ, по головѣ гладилъ: ну все, все, все…
Душка шмыгала носомъ. Оспенныя рябины тусклой рыбьей чешуей прилипли навѣкъ къ зарозовѣвшему на морозцѣ, корявому, будто изъ комковъ тѣста слѣпленному лицу.
— Ничего-о-о-о. Я все-о-о-о…
— Все, все. Какъ Наталья?
Душка утерла сопли и слезы ладонью, потомъ фартукомъ. Высморкалась въ фартукъ и перекрестилась.
— Господи прости… Наталья? Хорошо. Лучше насъ всѣхъ!
Онъ это понялъ по-своему.
— Умерла?! Что крестишься! А?!
Душка затрясла русой головой, и тощая коска у нея на затылкѣ вмигъ развилась, жидкіе волосенки разсыпались по плечамъ.
— Да нѣтъ! Нѣтъ! Съ чего ты взялъ? Жива! Она — замужемъ! За Степкой Липатовымъ! У нихъ въ дому живетъ! Хлѣбъ жуетъ!
— Вотъ какъ. Ясно.
Онъ выпустилъ ея плечи. Опалъ весь, осунулся. Ноги не держали. Можетъ, оголодалъ, и просто ѣсть хотѣлъ сильно.
Сѣлъ на крыльцо, на приступокъ.
Душка глядѣла на его спину подъ сукномъ старой шинели. На грязную папаху.
На погоны Красной Арміи. На согнутую шею, и на шеѣ — мѣдная цѣпка, крупныя звенья; а тамъ, подъ гимнастеркой, крестъ. Не звѣзда красная, а все равно Божій крестъ.
Плечи шинели встопорщились. Поднялись. Онъ шинелью, какъ земляной горой, хотѣлъ защититься отъ новаго горя. А не было защиты; гулялъ вѣтеръ, выдувалъ со двора соръ, моталъ бѣлье на веревкѣ, сбивалъ съ крыши проржавѣлыя печныя трубы.
Душка положила крѣпкую, уже сызмальства натруженную руку на болотное военное, грязное, въ засохшей крови, сукно.
— Минька… Ну все, все…
Какъ онъ мигъ назадъ, такъ она теперь утѣшала его.
Хотѣлъ къ избѣ Липатовыхъ явиться. Наталью увидать.
Уже сами ноги туда понесли.
Остановился, сжалъ кулаки и самъ себѣ тускло, жестко сказалъ:
— Нечего и видаться. Все прошло. Живи, счастья наживай.
Пошелъ по улицѣ, начиналась метель, снѣгъ сѣкъ ему лицо, а лицо горѣло, онъ снялъ папаху и лицо ею вытеръ, и такъ шелъ, съ голой башкой, папаха въ рукѣ, тяжело вдавливая въ ледъ и грязь кожаныя гири сапогъ, — шелъ прочь изъ села, прочь отъ родины, а подъ ногами, подъ сапогами все равно плыла грязью, пружинила стылой землей родина, и подъ горой зальдѣлой рѣкой блестѣла — она, родина, и изъ тучъ сыпала она, родина, мелкимъ злобнымъ, больно кусающимъ снѣгомъ, — онъ уходилъ съ родины, а родина цѣплялась за сапоги его, за подошвы, ложилась подъ него мощнымъ выгибомъ напитанной кровью и льдомъ и костями земли, крутилась подъ нимъ, дышала подъ нимъ, умирала и рождалась — подъ нимъ однимъ.
И онъ ярче всего, именно сейчасъ, зналъ, понималъ: онъ — одинъ, и родина — одна.
##
Размахивался вширь и вверхъ промозглый и холодный, какъ всѣ въ эту осень и эту зиму дни, сѣрый, какъ шкура барсука, невзрачный день, когда Ляминъ, въ кузовѣ попутнаго грузовика, прибылъ въ село Аксаково.
Здѣсь, передъ боемъ, они съ Пашкой оставили въ избѣ у невѣдомыхъ стариковъ новорожденнаго младенца.
Онъ забылъ улицы села, забылъ дома; они всѣ для него были и тогда, и теперь на одно лицо. Красный, мѣдный свѣтъ керосиновыхъ лампъ, а можетъ, свѣчей, а можетъ, нищихъ лучинъ манко, зазывно, тревожно мерцалъ то въ одномъ окнѣ, то въ другомъ. Онъ шелъ на свѣтъ, а потомъ шагалъ прочь отъ свѣта.
Иногда онъ останавливался, оглядывался и глядѣлъ на свои слѣды, оставленные въ свѣжемъ, за ночь нападавшемъ крупитчатомъ снѣгѣ.
Потомъ опять шелъ впередъ.
Ремень винтовки давилъ, не давалъ дышать. Онъ разстегнулъ воротъ шинели. Отогнулъ сукно отъ шеи. Вѣтеръ ему былъ вмѣсто платка.
Подходилъ къ окнамъ, вглядывался, топтался, опять отходилъ и шелъ, шелъ.
Голову кружило.
«Бабка… бабка… Какъ ее зовутъ… забылъ…»
Да онъ и не зналъ.
Шелъ и слушалъ странную, невоенную тишину.
Будто не было на землѣ ни войнъ, ни революцій, ни грохота танковъ, ни огня орудій, ни торопливаго тарахтенья пулеметовъ и тачанокъ, — ничего.
А хоронились за зимними стѣнами крестьяне; и поѣдали, въ долгіе зимніе вечера, запасы, что успѣли сдѣлать палящимъ лѣтомъ и рыжей, красной осенью.
«Жадные… куркули… ѣдятъ… жить хотятъ…»
Остановился, весь краской залился: онъ забылъ, что онъ — тоже крестьянинъ.
И такъ же, на зиму, съ отцомъ заготавливалъ всякую снѣдь.
…У косыхъ воротъ стояла старуха. На головѣ — для тепла — ажъ три платка; сморщенное лисье личико выглядываетъ изъ-подъ навѣсовъ шерсти, острый носъ щепкой торчитъ.
Его толкнуло къ ней: узналъ.
Подбѣжалъ. Вещевой мѣшокъ подпрыгивалъ на спинѣ.
— Бабка… Бабка!
Наклонился и почему-то по-городскому, чинно поцѣловалъ ей обѣ пахнущія горохомъ и ладаномъ сморщенныя руки — сперва одну, затѣмъ другую.
И зачѣмъ-то, тепло и слезно, съ комомъ въ глоткѣ, выдавилъ:
— Мамка…
— Сыно-о-о-окъ, — протянула бабка, и вязаные вытертые платки медленно сползли съ ея древней головы, обнаживъ старое серебро рѣдкихъ, гладко зачесанныхъ волосъ.
Костяной маленькій гребень упалъ въ грязь. Михаилъ поднялъ его, самъ въ жиденькіе сѣдые волосенки воткнулъ.
— Узнала…
— Узнала.
— Живъ мой сыночекъ?!
— Да живъ, живъ… што ты такъ орешь-то… ухи закладыватъ…
Вмѣстѣ прошли въ домъ. Михаилъ толкся близъ притолоки.
— Мамушка, дальше не пойду… грязный я. Наслѣжу.
— И наслѣди! Хосподь съ тобой!
— Гдѣ онъ?
Озирался. Сердце колошматило сильно и зло, вылетало вонъ изъ реберъ.
— Да ты походь… Походь… Сядь вотъ, отдышися…
— А дѣдъ твой какъ?
— Дѣда — на площади повѣсили, — буднично и даже скучно прошуршала бабка истертымъ, какъ ея платки, теплымъ голосомъ.
— А… внучокъ?
— А Митеньку стрѣльнули. Недавно. Сороковины ужъ прошли.
Сидѣлъ на табуретѣ ровно. Бабка ушла въ горенку. Ждалъ.
Что онъ думалъ въ это время? О чемъ? Какъ?
Ни о чемъ. Это было впервые у него въ жизни, что — ни о чемъ не помышлялъ; мысли взлетѣли и всѣ, разомъ, улетѣли прочь, внутри все было пусто — съѣдено, выпито до капли, выжжено до-тла.
Не человѣкъ, а пустое, сшитое изъ тряпокъ и сложенное изъ битыхъ горшковъ, страшное и смѣшное чучело сидѣло на шаткомъ табуретѣ. Глядѣло въ окно, и глаза застывали; вотъ они уже и стеклянныя пуговицы, какъ тому и положено быть у чучела.
Хоть сейчасъ на огородъ ставь, и птицы въ страхѣ разлетятся.
Бабка вышаркала изъ горницы, несла на рукахъ ребенка.
Ребенокъ былъ спеленутъ туго, вѣрно, чтобы ни ручонкой, ни ножонкой не шевельнуть, — лежалъ у старухи на рукахъ и посапывалъ.
— Спитъ, Хосподи прости, спитъ, — сказала бабка и нѣжно улыбнулась беззубымъ ртомъ, въ янтарномъ свѣтѣ керосиновой лампы сверкнули голыя розовыя десны. — Уснулъ! А то оретъ… такъ блажитъ, хоть всѣхъ святыхъ выноси…
Ляминъ хотѣлъ встать — и не могъ.
Но все-таки всталъ.
И принялъ у бабки изъ рукъ младенца.
Онъ держалъ его на рукахъ, а бабка все улыбалась, казала беззубыя веселыя десны.
— Спитъ! И отца даже и не чуетъ… шельмецъ! А ужъ какой славненькій, кохда… купаю ево въ лохани… а онъ — холякомъ… такъ и вертится, такъ и крутится, ужомъ…
— Чѣмъ кормишь? — остатками голоса спросилъ Ляминъ.
— Да чѣмъ, чѣмъ! Всѣмъ, что подъ руку подвернется… Хосподь помохаетъ… то хлѣбцемъ, то молочкомъ… то кашкой на водицѣ, себѣ варю, и онъ похлотаетъ…
Ляминъ стоялъ съ ребенкомъ на рукахъ и смотрѣлъ ему въ спящее, спокойное лицо.
Маленькій ротикъ. Маленькія брови и вѣки. Маленькія щеки. Все маленькое. А будетъ большенькое. Когда? Можетъ, и его самого тогда ужъ на бѣломъ свѣтѣ не будетъ. А вотъ онъ — будетъ.
А можетъ, и онъ, младенецъ, умретъ — отъ болѣзни, пули, взрыва, пожара.
Смерть — рядомъ. Смерть, она тоже жизнь, только мы не знаемъ, зачѣмъ она отнимаетъ у насъ наши тѣла.
…это уже шли, катились, перекатывались тяжелыми булыжниками мысли.
Онѣ пришли, разрывали мозгъ, онѣ опять владѣли имъ, и онъ опять не зналъ, куда отъ нихъ дѣваться. Онъ былъ человѣкъ и мыслилъ, и это суждено ему было до конца дней.
«Конецъ дней! Гдѣ онъ? Гдѣ я буду? Гдѣ — мы — будемъ?»
Едва слышно шепталъ, чтобы бабка не слышала:
— Это мой ребенокъ, мой, мой, мой, мой…
Опять стоялъ и молчалъ. Гирьки ходиковъ ползли внизъ, дотягивались до половицы.
Медленно, молча, не слушая бабкинаго бормотанья, Ляминъ вышелъ, осторожно прижимая къ себѣ спящаго ребенка, на низкое, вросшее въ землю крыльцо; спустился внизъ, ощутилъ подъ сапогами устланную жесткимъ снѣгомъ землю.
— Сколько же тебѣ? Годикъ вѣдь скоро? А какъ тебя крестили? И крестили ли? Крестика-то вѣдь нѣтъ на тебѣ? А можетъ, есть? — горько шепталъ онъ, радостно, счастливо нагибая тяжелую голову надъ младенцемъ, и огнемъ горѣли надо лбомъ его красные волосы, и онъ мотнулъ головой и скинулъ папаху, папаха упала наземь, онъ стоялъ посреди зимы съ голой горячей головой, держалъ на рукахъ своего сына, и влажныя капли вдругъ поползли по крохотному спящему личику — это Ляминъ сронилъ слезы на лицо мальчика.
Вѣтеръ мощнѣлъ.
— Какъ же тебя назвали-то?.. И то, вотъ я дуракъ, отецъ твой, и не спросилъ… И — самъ не назвалъ… бабкѣ не сказалъ… Да вѣдь какъ-то тебя звать-то надо… Миленокъ ты какой… бѣльчонокъ… Колокольчикъ мой… Коля, Коля, колокольчикъ… Николаша… Николашка… рваная рубашка…
Вѣтеръ рвалъ съ крыши солому.
Михаила прошибъ потъ: имя-то — царя.
«Царское имя будешь носить… а вѣдь я — царя — убилъ…»
Вѣтеръ нанесъ снѣгъ, онъ ударилъ изъ тучи жестко, щедро и страшно, почти какъ градъ, — яростно летѣла въ лицо Михаилу, била его по щекамъ и губамъ жесткая, острая бѣлая крупа, вонзались въ кожу ледяныя иглы. Онъ всею спиной передернулся подъ шинелью.
«Царь — убитъ… а ты — родился…»
И баба, лишь баба земная одна несетъ, чуть покачивая на широкихъ, мощныхъ плечахъ, на могуче выгнутомъ коромыслѣ, эти ведра снѣговъ, эту чистую воду рѣкъ и озеръ, эту грязь, этотъ хлѣбъ, эти зарницы, дальніе огни, всѣ эти жизни и смерти.
Онъ на мигъ увидалъ — съ коромысломъ и ведрами — веселую, смуглую Наталью, потомъ — съ саблей наголо, на скачущемъ наметомъ конѣ — Пашку.
И вдругъ увидалъ Марію — она шла къ нему медленно, радостно, сперва по снѣгу, по мерзлой землѣ, потомъ ноги ея стали отрываться отъ земли, отъ грязи проселочной дороги, и она уже шла по царскимъ, золоченымъ, въ лѣпнинѣ, заламъ, потомъ по госпитальнымъ коридорамъ, потомъ по утоптанной народомъ снѣговой, столбовой дорогѣ къ могучему храму, потомъ по хвойному этому, страшному лѣсу, по бревнамъ и еловымъ лапамъ, наваленнымъ на яму, гдѣ — нагія, изувѣченныя тѣла, потомъ выше сосенъ и елей, по облакамъ, по сѣрымъ волглымъ тучамъ, и онъ ясно, хорошо видѣлъ ея крѣпкія круглыя, яблочныя плечи, ея сильныя, налитыя здоровьемъ и радостью руки, ея ясные, густо-синіе, веселые глаза, и онъ шепталъ, заплетая пьянымъ отъ горя и счастья языкомъ: Волга… Волженька… Волга моя… — и всѣ исчезли, онъ стоялъ одинъ на израненной, укрытой снѣжнымъ саваномъ землѣ, и снѣгъ летѣлъ ему на голую встрепанную голову, путался въ красныхъ его волосахъ, росъ двумя горками на плечахъ, падалъ на личико младенца, младенчикъ сморщилъ носъ и чихнулъ, и открылъ глаза.
Глаза ребенка глядѣли не безсмысленно. Они глядѣли подводно, подземно, ясно и небесно. Въ нихъ переливался, сіялъ тотъ забытый людьми великій смыслъ, что и даетъ человѣку на землѣ силы жить.
Будто бы онъ, малый младенчикъ, что-то такое зналъ, доподлинно и вѣрно, всѣмъ маленькимъ существомъ своимъ, всей непрожитой жизнью, — истину.
И никто эту истину не смогъ, не сумѣлъ еще ни втоптать въ грязь, ни разстрѣлять, ни вздернуть на висѣлицу, ни разсѣчь саблею въ кровавые куски.
— Николаша… Николка…
Онъ стоялъ съ ребенкомъ на рукахъ, снѣгъ щедро и обреченно заметалъ ихъ обоихъ, и Ляминъ распахнулъ шинель и упряталъ сына подъ шинель, закрылъ его отъ снѣга и вѣтра горячей грудью. Такъ стояли. Ребенокъ заплакалъ, тихо и нѣжно, разѣвая ротъ, во рту дрожалъ его маленькій красный языкъ, Ляминъ тихонько качалъ его и неловко напѣвалъ ему колыбельную, а онъ-то и колыбельныхъ не зналъ, бормоталъ, гудѣлъ, что на умъ придетъ, — чувствовалъ грудью, сердцемъ это родное, теплое тѣльце, и вотъ это и было одно, неубитое, не сожженное и не разстрѣлянное, единственное, что у него оставалось отъ всей его жизни, отъ всѣхъ искромсанныхъ, разстрѣлянныхъ жизней и отъ всѣхъ смертей: этотъ живой комокъ, неразумный, теплый, горячій даже сквозь пеленки, пахнущій нѣжной мочой, жеванымъ хлѣбомъ и коровьимъ молокомъ, — его сынъ, Пашкинъ сынъ, Николай, — посреди безконечной войны и обильно политыхъ кровью полей, — его малый ребенокъ на его рукахъ, подъ вѣтромъ и снѣгомъ, посреди его родной, черной, горячей, горящей земли.
КОНЕЦЪ ПОВѢСТИ О СОЛДАТѢ И ЦАРѢ.
ПОСТЛЮДІЯ. МОЛИТВА
Я подхожу къ окну. За окномъ — ночь.
Ночи на землѣ всегда больше, чѣмъ дня, несмотря на то, что солнце можетъ выкатываться на небо надолго, и горѣть тамъ, и веселиться, а можетъ, не падая за горизонтъ, кругами ходить вокругъ земного окоема — такъ на Сѣверѣ.
За окномъ ночь, и у насъ не Сѣверъ. Не Заполярье. У насъ — Волга. Вотъ она, подо льдомъ, за холмами. Сугробы высятся и играютъ радугой въ скупомъ фонарномъ свѣтѣ. Люди днемъ мѣсили сапогами грязь — таяло, — а къ ночи опять все сковало лютымъ чернымъ льдомъ.
Въ ночи встрѣчаются завтра и вчера. Ночь — наиболѣе полное сегодня и наиболѣе полноправная вѣчность. Звѣздъ нѣтъ, я ихъ не вижу: сумракъ, сутемь и странный свирѣпый гулъ — издалека, изъ-за трубъ и крышъ.
Недавно, еще вчера, у меня дома былъ въ гостяхъ одинъ человѣкъ, и я кормила его супомъ, макаронами и нарѣзала ему хлѣбъ, и заваривала чай. А онъ, жуя хлѣбъ и хлебая супъ, прихлебывая обжигающій чай, говорилъ мнѣ такія рѣчи: «Мы когда возьмемъ власть — церемониться не будемъ. Отберемъ все у богатыхъ и подѣлимъ! И утопимъ страну въ морѣ крови. Мало никому не покажется! И понастроимъ лагерей. Я самъ ихъ построю. Я самъ, самолично, упеку въ лагеря тѣхъ, кто меня, насъ всѣхъ — погубилъ. И еще мы построимъ заводы и фабрики, и погонимъ туда всѣхъ богатеевъ, и они на насъ — будутъ работать! Да! И еще какъ! Да, мы откатимся назадъ, не спорю. Но лѣтъ черезъ пятьдесятъ мы наберемъ силу. И вотъ тогда, тогда у насъ появятся всѣ чудеса міровой техники! Передъ которыми мы сейчасъ раболѣпствуемъ! Но до этихъ счастливыхъ поръ — валяйте, богатеи, трудитесь, вкалывайте! Чтобъ вы узнали, что такое трудъ! Да, кровь! Да, смерть! Онѣ къ вамъ явятся, онѣ придутъ! А вы, вы всѣ, тошнотворные миролюбы! Вы всѣ — мѣщане, обыватели! Гнусь! Васъ первыхъ — будутъ рѣзать и стрѣлять! Мы все равно сдѣлаемъ смуту, мы порушимъ всю вашу сладкую богатую гадость, мы разсадимъ всѣхъ губителей народа, кровососовъ, жирягъ, по нашимъ новымъ тюрьмамъ… и такъ пройдетъ много лѣтъ, и мы все равно поднимемся, и вырвемся впередъ — да, скажете, какой цѣной! а кто сказалъ, что ни за что не надо платить? за первенство вѣдь надо платить! и мы заплатимъ! Заплатимъ! Мы — не поскупимся! Какъ вы, вы — скупитесь!»
Человѣкъ задорно, запальчиво говорилъ это все и при этомъ ѣлъ мой супъ, солилъ моей солью макароны, размѣшивалъ ложкой сахаръ въ чашкѣ чая, и я слушала эти рѣчи, слишкомъ хорошо узнавая ихъ; слушала и не перебивала, ни единаго словца поперекъ не вставила.
Мнѣ просто нечего было ему сказать.
Мнѣ, мѣщанкѣ; обывательшѣ; миролюбкѣ; пошлой пацифисткѣ; просто — женщинѣ, что варитъ супъ съ куриной ляжкой и жаритъ на медленномъ огнѣ макароны съ мелко накрошеннымъ рѣпчатымъ лукомъ.
Мнѣ совсѣмъ нечего было ему сказать.
И я вышла въ кухню, задернула шторы, перекрестилась и помолилась о томъ, чтобы Богъ изгналъ изъ этого человѣка бѣсовъ. Одного, но самаго страшнаго бѣса — главнаго, краснорожаго, рогатаго и зубастаго, жаждущаго крови и мести, крови и воздаянія, крови и революціи.
И я вспомнила о томъ, какъ одинъ человѣкъ, за сто лѣтъ до моего рожденья, говорилъ: «Революція — это всегда посягновеніе на Небеса».
Да, именно такъ: Небеса — съ прописной буквы.
Цари. Небеса. Богъ. Церковь. Родина. Все съ царственной, съ прописной буквы.
А поскольку всѣ мы, люди, созданные по образу и подобію Божію, дѣти Небесъ, значитъ, революція — убійство не только Небесъ, но и земли и самихъ людей на ней.
Революція — не движеніе впередъ. Не двигатель человѣчества. Въ огнѣ революцій гибнутъ страны и народы, позорно умираютъ, а не воскресаютъ, и ихъ бинтуютъ и перевязываютъ и трудно, нарочно воскрешаютъ, привинчиваютъ къ нимъ мертвыя руки и окровавленныя ноги, насаживаютъ на плечи разбитыя головы, и они начинаютъ свою жизнь сначала, но это уже не та страна, что была раньше, и не тѣ люди, что въ ней жили. Это все уже — другое.
Эй, свѣтлое будущее! Гдѣ ты? Отзовись!
Я, крестьянка, изъ семьи жигулевскихъ крестьянъ, знаю, что такое холодъ и голодъ, когда убиваютъ и ѣдятъ кошекъ и собакъ и дѣтей; что такое кровавая продразверстка и черные кожаные жуки-люди съ наганами за поясомъ: «Хлѣбъ давай, иначе всѣхъ перестрѣляемъ!» Я знаю, что такое раскулачиваніе, а проще — раскрестьяниваніе, когда изъ избы выбрасывали — вперемѣшку — на голубой, синій снѣгъ — тяпки, корыта, самовары, тряпки, платки, дѣтей, пеленки, зыбки, тулупы, сундуки, немощныхъ, уже не ходячихъ стариковъ, сдернутыхъ и поднятыхъ со смертнаго одра, вынутыхъ изъ успенія, и грузили, все такъ же вперемѣшку, словно бы бревна или дрова, на подводы, — а хозяинъ, распатланный, съ бѣлымъ бѣшенымъ взглядомъ, стоялъ въ сугробѣ, ему вязали руки за спиной, а онъ оралъ надсадно и страшно: «Прощайте, милые!» Я знаю, что такое приговоры тройки крестьянамъ Самарской губерніи въ годы, когда смерть размалеванной шлюхою гуляла по странѣ и танцовала, сама съ собою, передъ толпами изгнивающихъ во рвахъ скелетовъ, адскій свой танецъ. Я знаю, что такое новая съ нѣмцемъ война, когда мои крестьяне уходили на фронтъ — солдатами, ополченцами, партизанами. Я знаю, какъ варили лебеду и жевали жмыхъ въ послѣвоенныхъ селахъ и деревняхъ, а малые дѣти радовались, когда на селѣ похороны, и покойника мимо избы въ гробу на телѣгѣ везли: значитъ, поминки будутъ, и можно будетъ поѣсть! Я знаю, какъ забирали въ колхозы всю животину — коней, коровъ, свиней, гусей, индюшекъ, — и какъ разстрѣливали крестьянъ за найденный на колхозномъ полѣ колосокъ. Я знаю, какъ впервые выдавали крестьянамъ паспорта, — ровно черезъ полвѣка послѣ Великой, Октябрьской, Соціалистической. Я знаю и вижу, какъ гибнутъ и зарастаютъ бурьяномъ колхозныя поля; какъ вороны переступаютъ крестами красныхъ лапъ на крестьянскихъ пепелищахъ; какъ умираетъ деревня, нищая, сгубленная, замученная, — та деревня, трудами которой мы питались и питаемся, жизнью которой всегда жила русская земля, — поверхъ всѣхъ революцій и попередъ всѣхъ войнъ.
Ну, гдѣ же ты, свѣтлое будущее, за которое бились красные? За которое умирали въ бою, погибали въ застѣнкахъ, во славу котораго трудились и не изнемогали, а потомъ все-таки — изнемогали, хрипѣли, стонали и падали прямо къ ногамъ Великаго Призрака? Гдѣ ты?
…Молчитъ. Не даетъ отвѣта.
…что жъ, тогда и я не дамъ ему отвѣта.
И не дамъ отвѣта этому человѣку, что ѣстъ мой обѣдъ и говоритъ мнѣ въ лицо о томъ, какъ меня первую будутъ — въ революцію — убивать.
Меня уже убивали. И не разъ. И распинали. И клали подъ колеса танка. И привязывали къ пароходному колесу. И жгли на кострѣ.
И стрѣляли въ меня, да, стрѣляли.
Это въ меня стрѣляли тогда, въ подвалѣ дома инженера Ипатьева. А я — воскресла. Воскресла, юродивая, и брожу по странѣ въ кружевныхъ, испачканныхъ кровью лохмотьяхъ великихъ княжонъ. И пою свои пѣсни. Воскресни, Царь мой, воскресни! И пою во славу тѣхъ, кто принялъ въ сердце пулю и легъ подъ штыки — не только во славу Царей, но во славу всѣхъ убіенныхъ. Да, всѣхъ, вы не ослышались. Всѣхъ. Ибо кто споетъ славу всѣмъ безъ остатка, если не я?
Царица-Смерть! Ты сторожи насъ. Ты нашъ палачъ.
Со свѣтлымъ ликомъ и въ горѣ дикомъ,
ты въ насъ, ты съ нами,
твой тонкій плачъ.
…нѣтъ, это все не то. Не то! Опять нытье. Опять сантименты. Художники пламенны, равно же какъ и революціонеры. Они не плачутъ.
Но какъ быть, если и они въ свой смертный часъ лепечутъ кривыми устами молитву, если и они боятся, пронзаются великой послѣдней болью, и любятъ, быть-можетъ, впервые въ жизни, и просятъ прощенья, тоже впервые? Дай-то Богъ, если попросятъ! Дай-то Богъ!
Но широкій этотъ, ахъ, слишкомъ, необъятно широкій человѣкъ, гуляй-поле, метель на полміра, — и вѣдь его пытались безпощадно сузить и затолкать въ ранжиры, въ реестры, въ расписанія, въ инструкціи, — онъ-то свою ширь великую, слезы свои, что безбрежнѣе иной рѣки разливаются, и ненависть свою, что запросто — дай волю — міръ можетъ съ ногъ на голову перевернуть, — этотъ человѣкъ не можетъ, не умѣетъ каяться; покаянія онъ не хочетъ, боится, считаетъ его никчемнымъ и безтолковымъ; да просто смѣется надъ нимъ. И ему кажется: онъ покается — и свою ширь, и свою свободу — потеряетъ!
…а была ли она, свобода?
А была ли дѣвочка?
А былъ ли мальчикъ?
А былъ ли тотъ, разстрѣлянный въ подвалѣ, мальчикъ? И тѣ дѣвочки, съ пулями межъ реберъ, съ колотыми ранами въ груди?
И всѣ мальчики и дѣвочки великой страны, что — на лѣсоповалахъ — въ каталажкахъ — на табуретахъ подъ петлей — въ урановыхъ рудникахъ — за мотками колючей проволоки — въ залитыхъ кровью, слезами, блевотиной и мочою трюмахъ — близъ глубокихъ, въ потекахъ глины и дождей, сырыхъ рвовъ подъ прицѣлами старыхъ винтовокъ — стояли, лежали, сидѣли, жили, умирали?
Можетъ, они намъ, нынѣшнимъ, приснились?
Міръ не зналъ такихъ потерь. Міръ не зналъ такого великаго обмана.
Мы полетѣли къ звѣздамъ, но мы такъ и не расплатились за всѣхъ нашихъ убитыхъ мальчиковъ и дѣвочекъ.
И — ничѣмъ не расплатимся.
Это уже мѣрнымъ, медленнымъ послѣднимъ приговоромъ вписано въ небесную Библію съ желтыми, какъ человѣчья кожа, исходящими кровью страницами, огненными навѣчными письменами.
Вы можете эти письмена не читать. Вы можете смѣяться надъ молитвой.
Но, когда вы будете умирать, я, юродивая, убитая и воскресшая, очень васъ прошу: когда сердитые, мрачные ангелы съ громко шелестящими крыльями будутъ падать и падать съ золотого высокаго неба, чтобы подхватить васъ на крѣпкія, мощныя руки и забрать васъ, куда — это уже не ваше дѣло, вамъ этого не дано знать и даже догадаться объ этомъ не дано, вотъ тогда вы помолитесь, пока еще ваши губы шевелятся и еще шевелится въ васъ ваше сердце. Помолитесь за душу свою. За всѣхъ, кто умеръ своею и не своею смертью. За всѣхъ, кто ушелъ и уходитъ и уйдетъ.
За всѣхъ, кто придетъ.
СУДЬБЫ
Михаилъ Ляминъ воевалъ на Южномъ Уралѣ, сражался съ войсками Колчака, потомъ въ Восточной Сибири. Дослужился въ Р.-К. К. А. до званія генерала. Пріѣзжалъ къ моей бабушкѣ, Натальѣ Павловнѣ Ереминой, уже въ чинѣ генерала, съ подарками, въ Самару, въ 1938 году. Прошелъ Великую Отечественную войну. Дошелъ до Берлина. Въ 1948 году былъ посаженъ какъ врагъ народа по статьѣ 58-1а (измѣна Родинѣ) въ лагерь «Днѣпровскій рудникъ» на Колымѣ. Умеръ въ лагерѣ отъ дистрофіи въ 1950 году.
Павелъ Ереминъ послѣ боевъ гражданской войны вернулся въ Новый-Буянъ, занимался хозяйствомъ: держалъ лошадей, коровъ, маслобойку и небольшую мельницу. Въ 1929 году его раскулачили, имущество отняли, а самого отправили на поселеніе сначала въ Омскъ, потомъ въ Минусинскъ. По обвиненію въ контрреволюціонной дѣятельности былъ опредѣленъ въ лагерь подъ Уссурійскомъ; позже былъ отправленъ на Соловки. Въ Соловецкомъ лагерѣ особаго назначенія пробылъ полгода. Потомъ былъ погруженъ въ трюмъ и на грузовой баржѣ съ другими заключенными переправленъ въ лагерь особаго назначенія на Новую-Землю. На Новой-Землѣ отбылъ срокъ въ 15 лѣтъ. Былъ убитъ при попыткѣ къ бѣгству въ 1947 году.
Александръ Люкинъ погибъ смертью храбрыхъ при взятіи красными Уфы въ іюнѣ 1919 года.
Василій Яковлевъ (Мячинъ) послѣ разстрѣла Царской Семьи въ 1918 году назначается командующимъ Урало-Оренбургскимъ фронтомъ. Дезертировалъ изъ Красной Арміи. Съ приходомъ къ власти Колчака былъ арестованъ. Бѣжалъ въ Харбинъ, потомъ перебрался въ Шанхай, гдѣ работалъ секретаремъ въ совѣтскомъ консульствѣ. Вернулся въ С. С. С. Р. въ 1927 году. Былъ арестованъ и осужденъ Коллегіей О. Г. П. У. С. С. С. Р. на 10 лѣтъ лагерей за измѣну Родинѣ. Отбывалъ наказаніе въ УСЛОНѣ и въ Бѣломоро-Балтійскомъ ИТЛ. За ударную работу на строительствѣ Бѣломоро-Балтійскаго канала былъ освобожденъ досрочно. Въ 1933–1937 годахъ — сотрудникъ ГУЛАГа. Арестованъ въ 1938 году. Военной коллегіей Верховнаго суда С. С. С. Р. приговоренъ къ разстрѣлу.
Яковъ Юровскій переѣхалъ изъ Екатеринбурга въ Москву въ 1918 году. Сталъ членомъ коллегіи Московской ЧК и начальникомъ раіонной ЧК. Послѣ возстановленія совѣтской власти въ Екатеринбургѣ работалъ предсѣдателемъ Уральской ГубЧК. Съ 1921 года завѣдовалъ золотымъ отдѣломъ въ Гохранѣ. Занималъ постъ предсѣдателя торговаго отдѣла валютнаго управленія Наркомата Иностранныхъ дѣлъ. Съ 1928 года работалъ директоромъ Политехническаго музея въ Москвѣ. Умеръ въ 1938 году отъ прободѣнія язвы двѣнадцатиперстной кишки.
Петръ Ермаковъ сражался на фронтахъ гражданской войны. Послѣ ея окончанія сотрудничалъ въ органахъ правопорядка въ Омскѣ, Екатеринбургѣ и Челябинскѣ. Съ 1927 года служилъ инспекторомъ мѣстъ заключенія Уральской области. Разсказывалъ совѣтскимъ дѣтямъ въ школахъ и піонерскихъ лагеряхъ объ убійствѣ имъ царя Николая Второго и его семьи. Умеръ въ 1952 году въ Свердловскѣ.
Александръ Авдеевъ сражался въ красныхъ войскахъ какъ командиръ отряда, позже сталъ комиссаромъ бригады, а затѣмъ и 10-й стрѣлковой дивизіи, дѣйствовавшей на Южномъ Уралѣ. Съ 1920 года работалъ въ Казахстанѣ, смѣнивъ много постовъ: военный комиссаръ, членъ бюро республики, наркомъ РКИ, членъ Президіума ЦИК. Былъ делегатомъ ѴІІ и ХІІІ съѣздовъ РКП (б). На послѣднемъ былъ избранъ членомъ ЦКК РКП (б). Дожилъ до персональной пенсіи. Награжденъ орденомъ Краснаго Знамени. Умеръ въ 1947 году.
Шая Голощекинъ съ 1922 по 1925 годъ былъ предсѣдателемъ Самарскаго губернскаго Совѣта рабочихъ, крестьянскихъ и красноармейскихъ депутатовъ. Съ 1925 по 1932 годъ занималъ должность перваго секретаря ЦК Компартіи Казахстана. Возглавлялъ конфискацію скота и кочевыхъ хозяйствъ въ Казахстанѣ. Въ результатѣ геноцида милліоны казаховъ бѣжали въ Китай. Въ Казахстанѣ наступилъ чудовищный голодъ. Казахи вымирали сотнями тысячъ. Историкъ революціи В. Л. Бурцевъ говорилъ о Голощекинѣ: «Это типичный ленинецъ. Это человѣкъ, котораго кровь не остановитъ. Палачъ, жестокій, съ нѣкоторыми элементами дегенераціи». Въ 1933–1939 годахъ — Главный государственный арбитръ С. С. С. Р. Въ 1939 году былъ арестованъ и два года провелъ въ слѣдственномъ изоляторѣ. Его обвиняли въ сочувствіи троцкизму. Разстрѣлянъ въ октябрѣ 1941 года въ селѣ Барбашина-Поляна подъ Куйбышевомъ. На мѣстѣ его казни стоитъ камень съ надписью: «Жертвамъ сталинскихъ репрессій».
Наталья Павловна Еремина переѣхала вмѣстѣ съ мужемъ, Степаномъ Семеновичемъ Липатовымъ, изъ села Новый-Буянъ въ городъ Куйбышевъ (нынѣ Самару). Окончила двухгодичные курсы домоводства. Родила и воспитала трехъ дочерей. Во время Великой Отечественной войны работала комендантомъ общежитія. Была знакома съ Михаиломъ Александровичемъ Шолоховымъ. Умерла въ 1991 году въ возрастѣ 94 лѣтъ.
Душка (Евдокія Павловна) Еремина вышла замужъ за Петра Мигачева. У нихъ родился единственный сынъ Михаилъ. Михаилъ прошелъ Великую Отечественную войну, служилъ на флотѣ на Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ. Послѣ войны былъ убитъ въ пьяной дракѣ на танцовальной вечеринкѣ въ Струковскомъ саду въ Куйбышевѣ (нынѣ Самарѣ). Евдокія Павловна Мигачева, послѣ смерти сына и мужа, проживала въ одномъ домѣ съ сестрой Натальей Павловной Липатовой въ Самарѣ. Умерла въ 1996 году въ возрастѣ 98 лѣтъ.
ВИДѢНІЕ ЮРОДИВОЮ КСЕНІЕЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Вижу… вижу… Силки крѣпа… кости крыжа…
Витые шнуры… золотые ежи
на плечахъ… китель рѣжутъ ножи…
Пули бьютъ въ ордена и кресты…
Это Царь въ кителѣ. Это ты.
Это Царица — шея лебяжья.
Это ихъ дочки
въ рогожкѣ бродяжьей…
Ахъ, шубка, шубка-горностайка на избитыхъ плечахъ…
А что Царевичъ, отъ чахотки — не зачахъ?!.
Вижу — жемчугъ на шеѣ Али…
розовый… черный… бѣлый…
Вижу — Ника, Ваше Величество, лунь посѣдѣлый…
Вижу: Тата… Руся… Леля… Стася… Леша…
Вы всѣ умѣститесь, дѣтки,
на одномъ снѣжномъ ложѣ…
Кровью коверъ Царскій, бухарскій, вышитъ…
Они горятъ звѣздами, на черное небо вышедъ…
Царь Лешѣ изъ ольхи срѣзалъ дудку…
А война началась — въ огнѣ сгорѣла Стасина утка…
Изжарилась, такая красивая, вся золотая птица…
Стася все плачетъ… а мнѣ рыжая утка все снится…
Ахъ, Аля, кружева платья метель метутъ…
А тамъ, на небесахъ, вамъ манной каши
лакеи не дадутъ…
Вамъ подсолнухи не кинутъ крестьяне
въ румяныя лица…
Ты жила — Царицей… и умерла — Царицей…
А я живу — нищей… и помру — опять нищей…
Вѣтеръ въ подолахъ шубъ вашихъ воетъ и свищетъ…
Вы хотите пироговъ?!. —
пальчики, въ красномъ вареньѣ, оближешь…
Съ пылу-жару, со взрывовъ и костровъ…
грудь на-вылетъ… не дышишь…
Кулебяки съ пулями… тѣсто съ желѣзной начинкой…
А Тата такъ любила возиться съ морскою свинкой…
Ужъ она звѣрька замучила… играла-играла…
Такъ, играя, за пазухой съ ней умирала…
А Руся любила дѣлать кораблики изъ орѣховъ…
У нея на животѣ нашли, въ крови, подъ юбкой…
прятала для смѣху…
Что жъ ты, Аля-Царица, за ними не доглядѣла?..
Красивое, какъ сложенный вѣеръ,
было нѣжное Русино тѣло…
Заглядывались юнцы-кадеты…
бруснику въ кепкахъ дарили…
Что жъ вы, сволочи, жмоты,
по ней молебенъ не сотворили?!.
Что жъ не заказали вы, гады, по Русѣ панихиду —
А была вся золотая, жемчужная съ виду…
А Леля всѣ языки знала.
Сто языковъ Вавилонскихъ, Іерусалимскихъ…
Волчьихъ, лисьихъ, окуневскихъ…
ершовскихъ… налимскихъ…
На ста языкахъ балакала, смѣясь, съ Никой и Алей…
Что жъ не вы ей, басурманы,
сапфиръ-глаза закрывали?!.
Тамъ, въ лѣсу, подъ слоемъ грязи…
подъ березкой въ чахоткѣ…
Лежатъ они, гнилыя, костяныя, распиленныя лодки…
Смоленыя долбленки… уродцы и уродки…
Нѣмецкія, ангальтъ-цербстскія,
норвежскія селедки…
Красавицы, красавцы!.. какихъ уже не будетъ въ мірѣ…
Снѣжнымъ виномъ плещутся въ занебесномъ потирѣ…
А я ихъ такъ люблю!.. лишь о нихъ гулко охну.
Лишь по нихъ слѣпну. Лишь отъ нихъ глохну.
Лишь ихъ бормотанье
за кофіемъ-сливками по утрамъ — повторяю.
Лишь для нихъ живу. Лишь по нихъ умираю.
И если ихъ, въ метельной купели крестимыхъ, завижу —
Кричу имъ хриплымъ шопотомъ:
ближе, ближе, ближе, ближе,
Еще шагъ ко мнѣ, ну, еще шагъ, ну, еще полшажочка —
У васъ вѣдь была еще я, забытая, брошенная дочка…
Ее разстрѣляли съ вами… а она воскресла и бродитъ…
Васъ поминаетъ на всѣхъ площадяхъ…
при всемъ честномъ народѣ…
И крестится вашимъ крестомъ…
и носитъ вашъ жемчугъ…
и поетъ ваши пѣсни…
И шепчетъ сухими губами во тьму:
воскресни… воскресни… воскресни…
ВОСКРЕСНИ…
Заканчивается глава.
Обрывается Время.
...нет, конечно, оно продолжается, тянется, длится. И мы - никто - не знаем, что оно такое.
Но если мы помним, если память жжёт нас, если пережитые сто лет назад боль и радость становятся твоим настоящим, - значит, ты не утерял лучшее в себе.