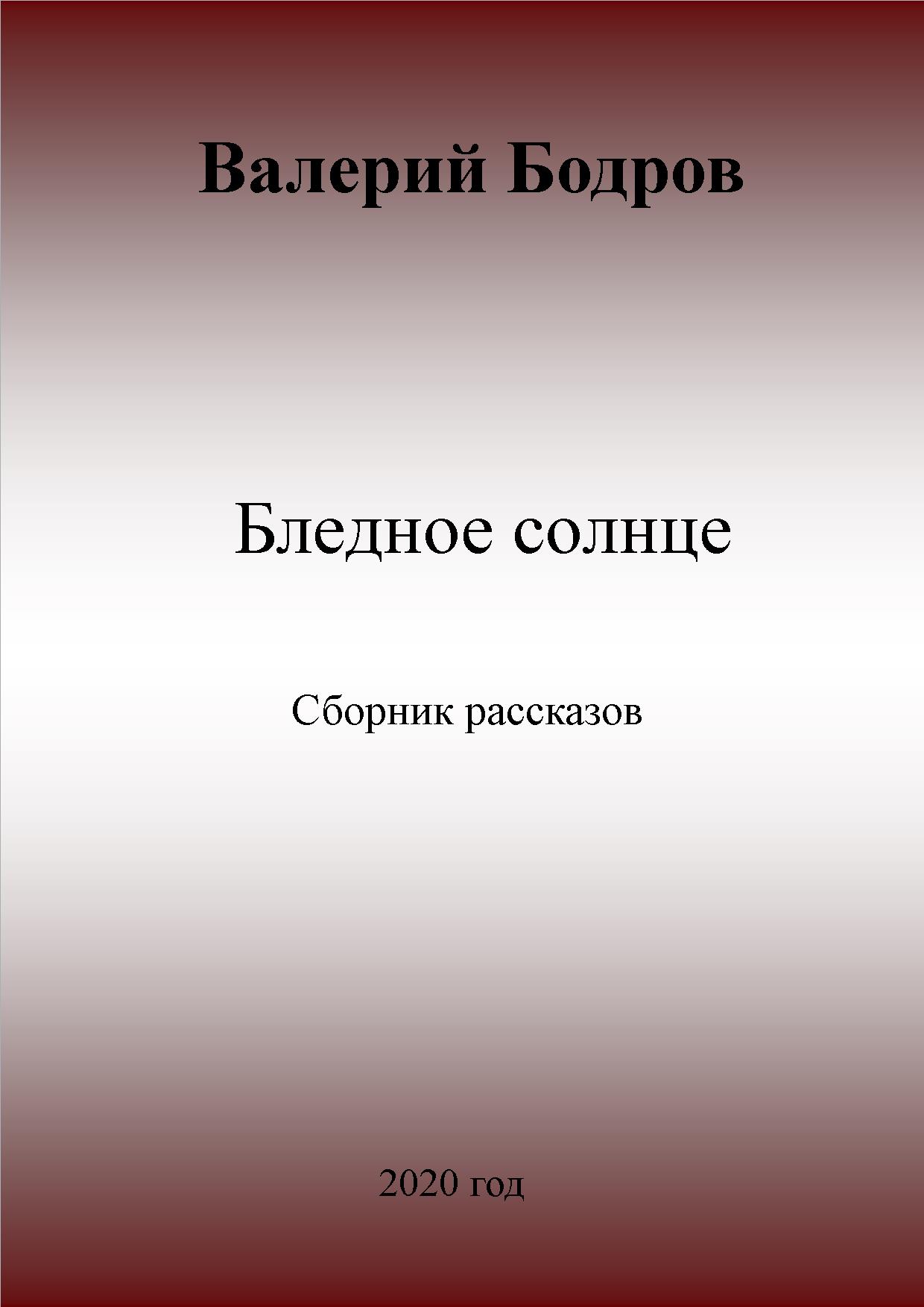Добавлено в закладки: 0
У моря
Час на самолёте до Симферополя пролетел незаметно. Даже любимая книжка — вечная спутница, распахнув свои корки для очередной встречи, с вынутым кляпом закладки, не сказала, ни слова. Я уже предвкушал сахарный вкус «Кокура» и туманно-зелёную Ялту, куда и добрался по прилёту, через несколько часов. Не желала душа наблюдать дома агонию красок осени под однообразным утренним снежком: серо-розовое изношенное осадками небо, с летящими из остывающего воздуха, слипшимися белыми хлопьями; мыльную кашицу из ледышек под ногами, не предвещавший ничего хорошего, парок изо рта.
Решился я на поездку сразу, как только, сквозь сон позавчерашней одинокой, полной воспоминаний и дремотных провалов, ночи, услышал размеренный призывный набат ещё тёплых волн о знакомую набережную. Солёные брызги, протёкшие на губы разбудили меня. И вот я приехал навстречу к ним: к влажным пальмам, шороху гальки, к мнимому горизонту, обозначающему свои границы в зависимости от воздушно-капельного настроения. Приехал на несколько дней без всякой особой надобности и сразу лёгким шагом направился вдоль знакомой каменистой речки к морю.
Сон мой, подсвеченный внезапно вышедшим солнышком, обернулся явью, натурой. Звуками улицы. Продавщицей мороженого с голубым пингвином на морозильном ящике, встречными улыбчивыми лицами, дворнягой, лежащей на лужайке подстриженного газона.
Ялта ещё дышала теплом. И, чтобы почувствовать это дыхание, и унять волнительную дрожь от незапланированной встречи с ней, я присел на скамейку. Сквозь уже почти расступившуюся листву, в просвете площадного пространства, за ажурным заборчиком, с неё было видно всё в блёстках, ещё беззвучное полотно воды.
О чем думают в таких случаях? О чём говорят в таких случаях? Наверное, это и есть то безмолвное состояние души, когда ей не нужно прятаться и выдавать в эфир словесные обманки. Не нужно таиться в укромных углах и чуланах собственного «Я». Всё открыто: даже мифический третий глаз, исследуя пространство, имеет возможность заглянуть за ту сакральную черту между величиной неба и толщей воды, где, как мне кажется, и живёт сказка.
После солёного рукопожатия (полы пальто тоже приняли участие) и внезапного омовения ног (волна дуплетом, обогнав сама себя, проникла в ботинок) приветствие было закончено. Я отправился за завтраком в ближайшее кафе.
Массивная деревянная дверь с разноцветными витражами, впустила меня, а затем и подтолкнула в полутьму с красными пятнами абажуров на столиках. Здесь нашлось и моё любимое вино, и неизменное пюре с почти хлебной котлеткой, и говорливый собеседник — картофельный нос, с украинским смаком потреблявший бутерброды с салом и водкой.
Этот, не по сезону отдыхающий с набитым ртом, уверял меня, что ещё вчера он плавал, и вода — блаженство. Допил свой графинчик, шумно встал и, махнув для приличия мне рабочей пятернёй, пошёл расплачиваться к бару.
А что я ещё хотел увидеть в курортном городе? Но ведь что-то же хотел! Припомнился мне один знакомый знакомого в местечке под названием Гаспра. Мы с женой невообразимое количество лет назад отдыхали у них, снимали комнату. Вроде он был…санитарным врачом. Собирал коньячную дань с местных санаториев и подписывал разрешения на работу. Конечно, приглашал, конечно! Но я, не был уверен, что он теперь вспомнит нашу влюблённую пару. Однако, после часовой прогулки по знакомым парапетам, наглотавшись вместе с ветром воздуха воспоминаний, наполнив лёгкие растворёнными в здешней атмосфере йодом и солью, я взял такси в прошлое.
Дом моего врача найти было легко. Он стоял на развилке дорог. Под единственным балконом с каменными пузатыми балясинами этого эпохального особняка рос благородный лавр, а в самой излучине, почти у асфальта, остроконечный пирамидальный кипарис правильной формы. Всё оказалось на месте и даже приумножило массу и объём. Стены здания, некогда приютившие нас, постарели. Давно некрашеная штукатурка приобрела багровый южный загар, а в балконном окне вместо стёкол были вставлены крашеные белым катарактические фанерки.
Странно было проделывать тот же путь много лет спустя. Сердце лениво ежилось от уколов памяти: в день приезда мы с Соней тем тёплым вечером с экзотической жадностью пытались надрать впрок лавровых листьев. И всё нюхали их, нюхали, словно весь смак земли заключался в этой пряности.
В полутёмном единственном подъезде царил запах старого дерева и моя осторожная нога всё проваливалась к полу, никак не могла наступить на первую, ведущую к верху опору. Когда же это случилось, ступени пропели мне скрипучую песню в два пролёта с куплетом площадки, заваленной бывшими вещами.
«Опоз-з-здал с-с-сударь, опоз-з-здал…з-забыли м-мы, з-забыли».
Кнопка звонка отсутствовала. Я тихонько постучал. «В любом случае, — думал я, — ночлег тут можно найти, даже если…». Но через невнятную паузу дверь приоткрылась, и зависла нерешительно на середине пути, стыдливо показывая цинковое ведро и швабру, прислонённую к стене.
«Заходите, прошу Вас, — еле расслышал я, посаженый с прорывавшейся хрипотцой голос, — дверь прикройте плотнее – сквозняки».
Вопреки моим предположениям, он вспомнил нас, и даже был видимо рад, что именно я появился на пороге его квартиры. Долго вглядывался в моё лицо, поглаживая пальцами ощетинившийся подбородок: «Время, время…Вы не сильно изменились. А Ваша жена?» «Осталась дома», — ответил я, хотя даже сам почувствовал в своих словах фальшь.
Всё равно, всегда приятно знать, что где-то за тысячи километров чужая память хранит гипсовый отпечаток твоего благородного следа. И даже если случится вернуться, то история, оставленная здесь, будет светиться вокруг тебя ореолом подлинности, как у денежной купюры с большим достоинством, подставленной к инфракрасным лучам.
«Вроде не сезон? — Санитарный врач вопросительно посмотрел на меня, и, видя, как я достаю из портфеля бутылку марочного вина, поморщился и добавил, — Зря, зря вы это, лучше бы водки принесли, не переношу этот жжёный сахар». «Дак я …», — повернулся было к двери. «Стойте! Не нужно никуда ходить. У меня всё есть».
Мы просидели с ним до полуночи. Он рассказал мне историю расставания со своей супругой, я же умолчал свою. Потом он выдал мне простыни, одеяло, и устроил меня в гостиной на пузатом диванчике с откидывающимися воланами и полукруглой спинкой с овальным зеркальным глазом в деревянной её части, потерявшим от старости амальгаму. В то лето мы с Соней тоже тут спали. Худые были, как-то убирались оба в сие прокрустово ложе. И душа странно грезила, понимая, чем бы ни наполнено было это пространство круга, но сегодня он сомкнулся в этой же диванной точке, откуда и начался.
Я лежал один при свете тусклой потолочной лампочки в пропахшей самшитовыми опилками комнате, (хозяин занимался резьбой по дереву). Разного роста фигурки толпились перед книгами во всех шкафах за стеклом и на всех открытых полках. Взгляд мой остановился на картине, которая свисала над диваном под неприлично опасным углом. Изображённый на ней отец врача стоял на балконе этого же ещё юного дома в белом парусиновом костюме, столь модным в пятидесятые, и смотрел в сторону моря. Нещадно палило солнце. Всё сияло новизной: и открытая, стеклянная ещё тогда балконная дверь, заплутавшая в тюлевых занавесях, и сам балкон, и небо с загибающейся на него дорогой.
Вдруг, неожиданно для самого себя, я обжёгся о воспоминание. Сквозь туман времени увидел, как Соня, встав на этот диван и едва дотянувшись до картины, положила за неё записку. «Если приедешь без меня сюда, хоть раз, достанешь и прочитаешь. Но ведь такого не случится? Правда?» — Я порывался сразу же ликвидировать эту возможность, но она смеялась и не пускала меня, а утром всё забылось.
Теперь с мокрыми от волнения руками, я проделывал тоже самое. Коленки дрожат, пружины под ногами на диванчике проваливаются и недовольно скрипят, а вот, дотянулся! В груди ухнуло и провалилось. Потемнело в глазах. Рука нащупала клочок бумаги.
«Кроличья нора есть, а кролика в ней нет», весело шутили буквы её почерком. Я стряхнул хлопья пыли с листка, перечитал ещё несколько раз. Зачем-то начал всматриваться в почти выцветшие чернила, надеясь, наверное, найти ещё что-то. Нашел. Отпечаток её пальца, те же чернила. Спрятал в бумажник, вышел на балкон, закурил. Не докурил, выбросил. Снова достал из бумажника листок. И только теперь глаза мои поплыли влажным туманом.
Заснуть уже не получалось, опустив парус рассудка, я доверился волнам памяти.
Вот они, те дни необыкновенные: наполненные новыми запахами, вкусами, видами и голодной усталостью. Никогда ещё я столько не ходил по столь крутым горным тропинкам, виляющим дорожкам и причудливо загибающимся мостовым. По краям все эти соединительные артерии и капилляры, любого из приморских городков, были уставленными памятными стелами и восстановленными якобы из руин доисторическими строениями. Соне было всё нипочём, она с нескончаемым интересом лазала по всем этим подкрашенным достопримечательностям, и после скудного обеда состоящего из варёной кукурузы, чурчхеллы и минеральной воды, бесстрашно плескалась в море с люстроподобными медузами.
В один из окончательных солнечно-ленивых дней я просто отказался куда-либо идти, утомляло однообразие подъемов и спусков, экскурсов и экскурсоводов. Тогда хозяйка комнаты, по совместительству жена врача, увидев наши скучающие лица, посоветовала после завтрака сесть в автобус и посетить гору Ай-Петри. «Уси туды ездиют…, — говорила она, разливая заварочный одной рукой, в другой, на ладони, зависло в противовесе печенье в перламутровом блюде, — када уже делать нечё…».
Так мы и сделали, поехали сами по себе. От местных легенд и мифов уже набилась оскомина, потому что все они были наверняка скопированы из самого плохого путеводителя по Крыму. Обязательно кто-то из-за несчастной любви падал в ущелье или тонул в горной реке, и потом, это место злопамятные потомки называли в его честь. Не осталось ни одного камня, водопада, расщелины, просто ровного места, не принявшего участия в бурной местной жизни.
За время, пока автобус с каким-то особым рычанием преодолевал всё больше и больше дорожных петель, медленно и уверенно вползая наверх, мы сами придумали историю про название горы.
«Маленькая, глупенькая девочка по имени Петри ослушалась маму и ушла одна гулять в лес. Там она увидела большого красивого жука и решила его поймать. Так она шла за ним, не разбирая дороги, пока не оказалась на самой верхушке горы (тогда ещё без названия). Жук сложил крылья и сел на камень, висевший над глубоким ущельем, и когда девочка вступила на него, то сорвалась вместе с ним вниз. Крыльев у девочки не было, и пока она падала на дно ущелья, повторяла: Ай, ай! Ай, ай! С тех пор эту гору и называют Ай-Петри».
Эта ахинея так развеселила нас, что достопочтенные пассажиры рейсового автобуса стали на нас оглядываться — пришлось присмиреть. Но стоило произнести шёпотом: Ай, Петри, Ай! — И сдавленные смешки перерастали в содрогающиеся от беззвучного хохота плечи.
Люлька фуникулёра оказалась довольно просторной и чем дальше она с угрожающим протяжным металлическим стоном поднималась по канатной дороге, тем величественнее становилась панорама. Мельчали внизу сосны. Виноградники на склонах превратились в правильно причёсанные квадраты и ромбы. Только море, укрытое сонной пеленой дымки, не понимало, что день давно начался, и не открыло ещё своих бирюзовых глаз. Потом мы въехали в облако и уже на нем, ослепшие и немного продрогшие, добрались до, казалось, висящей в тумане, приёмной станции.
Наверху всё выглядело достаточно уныло. Если не считать небольшого базарчика с местным вином. Всё непременно нужно было попробовать на каждом прилавке.
Когда ушла пронзённая солнечными лучами белёсая пелена, уже повеселевшему взору отдыхающих открылась ярко-зеленая равнина с редкими горстками оттенёнными мхом камней. Даже было странно: откуда здесь вообще люди, да ещё с таким угощеньем. Это почти малахитовое поле (если идти в сторону сказки) резко обрывалось невообразимой глубиной. И в уже прозрачном, отполированным солнцем воздухе, безразмерное море вдохнуло полной грудью, выгнув слегка линию горизонта, и замерло на выдохе штилем.
Я держал Соню за руку и так мы стояли на краю мира, сражённые и удивлённые его невероятной простотой и силой.
Назад ехали молча.
Уже вечером, всё ещё не решившиеся нарушить молчание, сидели на погружённой в полусвет веранде ночного кафе, а где-то внизу в подсоленной темноте неуклюже шевелились волны. Я ковырял вилкой салат и разглядывал здоровенного синего с отливом жука, замершего на перилах возле столика. Мне казалось, что он следит за нами. Посланный этим прекрасным Нечто, чтобы выведать наши впечатления и узнать наши планы.
«Уже пришла в себя?» — Почти шёпотом спросил я, словно опасаясь чего-то вокруг. «Не знаю…», — так же тихо ответила Соня и для уверенности пожала одним плечом.
Что-то изменилось вокруг: мысли ли стали яснее, понятнее ли поступки, только эта голубая даль, смешанная с горизонтом на горе Ай-Петри унесла все досадные мелочи и явила передо мной и Соней некую сущность чрезвычайно опасную, но справедливую и прекрасную в своём нескончаемом движении. Мы оба это понимали, поэтому сидели и молча, разглядывали свои лица, словно заново выбирали друг друга из всех, из всех на Земле, словно говорили себе: Смогу ли я с этим человеком? Потому что, вот оно, оказывается, всё как устроено, вот оно, оказывается как.
«Тебе страшно?» — прошептал я с трагичными нотками в голосе.
«Хватит меня пугать…, — вдруг весело и громко отозвалась Соня, — пойдём туда, где музыка».
Мы загромыхали стульями, и потревоженный синий жук быстро юркнул в темноту.
Ночь выдалась душистой, душной и пьяной. Столики в придорожных ресторанчиках выползли на тротуары, потому что внутри уже галдел полный аншлаг. Перекрывая друг друга, на свой лад ухали колонки у каждой незакрытой двери. В одну блестящую молнию сливались неоновые вывески, смех и гомон витал над улицей. Кое-где бесцеремонные пары выходили на проезжий асфальт танцевать, и редкие авто, в этот поздний час, удивленно шествовали мимо с выпученными из окошек пассажирами.
Я нетрезво разглагольствовал под свисавшей веткой акации с накачанным и добродушным нефтяником из Сибири. Соня с его женой хохотала о чём-то на другой стороне столика. Между нами на зелёном пластике теснились: пустые бутылки из под «Мадеры», откупоренные опорожнённые пивные банки, потрошёные пакеты с чипсами, обглоданные вяленые бычки.
Нефтяник хвастался хорошей жизнью где-то там за Уральским хребтом, рассказывал про своих собак и собачьи упряжки, периодически отхлёбывая пиво. Всё это, несомненно, было интересно, но…я поднял утяжелённые вином веки и уверенный в совершенной своей правоте сказал: «Сейчас щёлкну пальцами, и там появится…». Вяло собранный застольный звук секунду спустя явил несколько удивлённому нефтянику из-за крутого горного поворота лихой кабриолет, блеснувший фарами из наползающей темноты. Машина медленно и почти бесшумно проплыла мимо.
«Да не может быть. Не верю… ю… ю», — промычал он, пьяно подражая Станиславскому. «Щёлкни сам», — парировал я.
Нефтяник поднатужился, покраснел, часто и алкогольно дыша, звук его щелчка оказался гораздо сильнее и мощнее. После него из-за поворота выбежала огромная псина. Её блестевшие красным глаза разбавил праздничный неон. Мне на мгновение показалось, что он услышал грозный предупреждающий рык. «Видал! — Нефтяник снова отхлебнул пива из банки, — Фигня это всё, тут этих собак нерезаных толпы шныряют. Отдыхающих тока пугают».
Я ошеломлённо промолчал.
«Смотря, кто пальцами щёлкает», — буркнул я едва слышно, всё больше впадая в невероятносную стадию опьянения.
Застолье переросло в братания, уходить не хотелось, но кому-то было нужно идти. Обещания приехать в гости без адреса и места назначения, были пропеты. Через небольшой провал в памяти, хлопающий меня по спине нефтяник в суровом объятии и его, ускользающая из моих ладоней, жена, исчезли. Последнее, что я помнил, это Сонины руки, шершавую кору дерева, которая больно впивалась в щёку, кабриолет выпустивший девочку, с огромным синим жуком в кармане. Она поклонилась и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Петри». Я пытался предостеречь её от хождения на гору, но всё вдруг закружилось, завертелось: кабриолет, запряжённый в собачьи упряжки и кипарис, и лавровое дерево, и даже море голубым смерчем пронеслось мимо. Вдруг наступила тишина.
Меня заставил вздрогнуть и очнуться громкий голос врача.
«Спите беспокойно. Совесть не чиста?» — Он протягивал мне подстаканник с выдавленным на нём Гагариным и похожей на авиационную бомбу ракетой со звёздным шлейфом, застывшим у сопла. Подстаканник был заправленный полным стаканом густобордового напитка.
Чай оказался горячим и не сладким.
«Пойдём, прогуляемся. Я тебе кое-что покажу», — врач встал и пошёл в прихожую.
На улице было промозгло, но тепло. Мы прошли в молчании мимо не успевших ещё открыться кафешек, с полосатыми сине-белыми зонтиками над пустующими пластиковыми столами. Мимо магазина, где мы с Соней покупали виноград, полезли вверх по дороге, что на картине упирается в небо, дошли до предела и перевалили границу.
В самой верхней точке я успел взглянуть на море. Оно блестело внизу фольгой от шоколадки в местах, где лучи проснувшегося только что солнца пробивались сквозь облака.
Хозяин квартиры, куда, нужно сказать прямо, мы просто вломились в несусветную рань, уже не спал или ещё не ложился. Нарукавники, дермантиновый передник, сосредоточенное хмурое лицо.
«Я за фотографиями, помнишь те…», — с каким-то даже интересом в голосе произнёс мой врач. «Что приехал?» — выдавило из себя вопрос хмурое лицо. «В коробке на шкафу», — нарукавник указал в сторону доисторического шифоньера.
Я ещё не понимал о чём идёт речь, но нехорошее смутное предчувствие вползло мурашками по спине и уселось на моём левом плече.
Снимки рассыпались на столе под фотопрожектором, и у меня потихоньку начало темнеть в глазах от того, что я мельком увидел. Там в черно-белом изображении того времени была и Соня, и я, и какие-то люди вместе с нами. Карточек было много. Я даже не смог сразу все рассмотреть. «Их можно взять?» — спросил я неуверенно.
«Двести баков гони», — ответило невозмутимое хмурое лицо.
На улице я вопросительно уставился на своего знакомого врача. Наверняка у меня было подходящее выражение лица, для того, чтобы он начал оправдываться.
«Ты же сам заказал у него эту услугу». — «Какую услугу?» — недоумевал я. «Тайная фотография, называется. Я же тебя к нему и приводил, а ты их не забрал».
Признаться честно, я ничего такого не помнил. Да и какая мне теперь была разница. Целую коробку с отпечатками былого счастья я бережно прижимал локтем к своему боку и мне нетерпелось как следует разглядеть со стороны наши безумные дни, свою единственную Соню.
С первых же попавших мне в руки снимков я понял, что многое моя память не просто упустила, каким-то непостижимым для меня образом подменила, переделала, подсунула мне готовый благочестивый, с совестью выполненный эрзац. Оказалось, что я, непоправимо, беспечно, без всякого на то права — оживлял себя, в потерянных на долгие годы, днях.
Вот фотография, где я отнюдь не с Соней, а с совершенно мне незнакомой девушкой. Наши лица рядом, словно после поцелуя и взгляд у меня не дружеский, а какой-то одурманенный, мутный. Фотограф на обратной стороне снимков поставил карандашом дату, что весьма смущало меня космическим числом дней, разделивших мою жизнь на счастливое «помню» и трагическое «не помню», но восстанавливать очерёдность событий так было всё-таки легче. Когда хронология в картинках была разложена на полу комнаты, мы с врачом начали их словесное описание.
Сначала шли наши с Соней благословенные деньки: мы на прогулке в пальмовой аллее, моё милое создание с открытым зонтиком в руках, поцелуи на волнорезе (пусть черно-белый, но видно, что закат), вот и пляжные лежаки с нашими разморёнными телами…прекрасно, воспоминания заявили о своих правах и я с ними согласился. Но дальше происходит что-то странное, после двух десятков снимков в сторону нарастания дней, на фотографиях появляются люди, которых я перестаю узнавать. Что за молодой атлет держит Соню за руку? Он больше меня раза в четыре. Кто эта девушка, что обнимает меня?
«А девушка это?» — Спрашиваю я врача, не отрываясь от картинок. «Петра, дочь моего приятеля грека, Вы же с ней на фото…это, ну, целуетесь» «Я с ней?? Вы что-то путаете уважаемый!» — Я копался в памяти и не мог найти даже намёка на указанное событие. Хотя фото этого факта я держал сейчас в руках.
«Есть возможность с ней увидеться?»
Врач, как то странно примолк и, допив остатки водки в рюмке, занюхал замусоленным рукавом: «Она погибла, упала с обрыва на машине, вон тут их сколько, на каждом повороте». «Уж не из-за меня ли?» — Вставил я ехидную фразочку. «Из-за вас, скорее всего», — ещё морщась от выпитого, сказал с придыханием врач. «Бре-е-ед!!» — Этот диалог совсем завёл меня в тупик. Но фотографии говорили об обратном. Вот я, Соня и Петра загораем все на одном покрывале.
«После того, как вы уехали, — продолжил врач, — через неделю и того». «А, вот я узнал!» — На очередном снимке сохранённый в недрах нейронов профиль нефтяника, когда мы сидели в кафе. Он почему-то с Соней, а я, наоборот, с его женой! Снимок именно эту последовательность и показывал. И тут я с ужасом начал понимать, что девушка на фото рядом с нефтяником и Соней — не жена уральского собаковода. Это и была Петра!
«Как же я мог забыть такое?» — Сказал я вслух.
Врач пожал, молча плечами, и налил себе ещё водки:
«Иногда люди, не желая помнить зло, причинённое другими, избавляются от своих воспоминаний, вернее мозг не в силах вынести такое тяжёлое бремя просто выключает страшное и ненужное, чтобы не погиб их владелец. На практике такие случаи были», — врач продолжал говорить, а в моей голове тугой, упругий, сжатый до предела, зашифрованный файл воспоминаний, посвященный Петре, неожиданно стал разворачиваться в обратном направлении.
Из наступившей тишины вынырнула голубая воронка моря и принесла с собой лавровое дерево и кипарис, поставила всё на место. Собачьи упряжки отделились от кабриолета и разбежались бродячими псами в разные стороны. Машина с открытым верхом остановилась, из неё вышла Петра, лицо обрамлено рыжими спиральками кудряшек, и протянула мне стеклянную банку:
«Смотри, смотри, какого я тебе жука принесла! Синий, с отливом!»
Она подошла ко мне и попыталась поцеловать, но я отвернулся. И глядя на ровное убаюканное штилем море с прозрачными оливковыми проплешинами подводной растительности, встал,
прислонившись щекой к дереву. Глаза мои были полны слёз. Потому что Соня, чьи руки ещё вчера ласкали меня, только что, моя любимая и родная Соня, оставила мне в комнате на пузатом диванчике маленький клочок бумаги с цитатой из нашей любимой книжки «Кроличья нора есть, а кролика в ней нет». Что означало, … что означало….
Ноябрь, 2011 г.
Открытие
Роман Карлович, видный мужчина пятидесяти лет, провинциальный, но заслуженный художник, недавно похоронивший мать, досадно бездействовал в своей «берлоге». Не прошло ещё и сорока дней, а он уже чувствовал её острую нехватку. Мать готовила завтраки, делала выставки его полотен и молилась на него. Но, совсем неожиданно, её разбил паралич: беспомощность, несвязная речь (про какие-то забытые кем-то ключи) и скоропостижная смерть. «Надо же! Перед самой выставкой…! Перед юбилеем!» — Нервно покручивал он свой художественный ус. Конечно, он любил свою волнительную мать, даже купил ей инвалидное кресло-каталку, но оно не понадобилось. Всё произошло слишком быстро.
И сейчас, сидя в нём же нога на ногу, посреди нагромождений своих работ, заботливо прикрытых холстиной ещё маминой рукой, Роман Карлович решал, что делать.
Всю жизнь он был ужасно холост, мать не подпускала к нему ни одну женщину, оберегая его творческий покой. Никогда и никого не любивший, был занят только красками, холстами и пленэрами, даже подбор рамок, названий, подписей и картона для них, был вне его компетенции. Местный союз художников, состоящий из таких же, как он заслуженных бородачей и усачей, ещё в начале года поставил его выставку в план на начало сентября. А теперь уже был август, дождливый и не очень тёплый, и холодок от провала такого важного события в его жизни, вместе с промозглостью опустевшей мастерской, мурашками блуждал по спине.
«Две недели… осталось две недели! А я!?» — Истерил внутри себя Роман Карлович, когда его заставил вздрогнуть резкий телефонный звонок.
Голова немного закружилась от испуга, но он встал, качнулся, чертыхнулся и дотянулся до чёрной лаковой трубки.
Звонил директор союза художников Станислав Рерихович и весьма кстати. Лоб Романа Карловича, только что похожий на стиральную доску, по мере повторения им в телефонную трубку: «Да…, да…, м-м…да, — и в конце, — я понял, Станислав, благодарю», — выровнялся и приобрёл снова свой величественный вид. Паника также стекла с лица и завилась в воздухе сизоватой струйкой табачного дыма.
Роману Карловичу назначили помощницу.
Через час в дверь позвонили, и из полутьмы коридора в разладившуюся жизнь заслуженного художника вошла девушка по имени Катя.
«Я куратор вашей выставки, — сказала она, немного смутившись, — меня Станислав…». «Знаю, знаю, — с молодецким задором произнёс Роман Карлович, слегка обескураженный её молодостью, — проходите, проходите, сейчас почаёвничаем!»
Намывая заплесневелый заварочный чайник в раковине, он случайно увидел своё лицо в обломок зеркала, приклеенного тут же. «Нужно было побриться! Ай, как нехорошо! А рубашка? Ох, стыд один!» И пока настаивался чай, Катя сидела, примерно выпрямив спину, на краешке дубового стула и молчала. Карлович на антресолях, куда вела узкая деревянная лестница, торопился, искал, во что бы переодеться, не нашёл, и, вытерев, выступивший от радостной неожиданности пот первой попавшейся ветошью, спустился вниз.
Так и пришлось Кате вытирать лицо Романа Карловича своим платком, потому что оно всё было вымазано невесть откуда взявшейся зелёной краской, и заново делать чай, потому что впопыхах он насыпал в заварочный чайник угольной пыли. Заодно был прибран стол, со времён молодости своей не показывавший лицо белому свету, отчего поверхность его выглядела ново, что нельзя было сказать о выгоревших ногах.
«Как я рад, как я рад, — всё повторял Роман Карлович, — я бы без вас ни за что, никогда…». «Да что Вы! — Улыбалась в ответ Катя, — Я так увлечена, для меня это радость, заодно и вам помогу».
Для выставки были отобраны несколько пейзажей: с зелёными в васильки просторами, лихо утопленными в небо; речками — стремящимися за поворот, и русскими наивными берёзами. Натюрморты: с полевыми цветами и витиеватой старинной посудой, особенно хороша была сирень утром на деревенском, не очень симметричном окошке. Отдельным отрядом шли портреты с благородно стареющими лицами: четко вычерченными морщинами и следами раздумий на челе. Коллекцию дополняли: колхозницы, идущие с поля, трактора на закате, местные городские дворики в зимней и летней расцветке, несколько покосившихся церквушек и многое другое, накопленное и законсервированное до поры.
С этого дня Катя почти каждый день навещала своего подопечного. Замеряла полотна для новых рамок, писала каллиграфом на квадратиках картона названия, фотографировала работы для юбилейного буклета.
Роман Карлович стал счастлив, как и прежде.
И счастлив, он стал, не оттого, что долгожданный юбилей начал вырисовываться на белом полотне недалёкого будущего — предвкушал он другое. Странные мысли, обращённые к внимательной, ласковой, доброй Кате всё больше не давали ему покоя. Карлович стал тщательно бриться, и наряжаться к её появлению, и всё чаще поглядывал на часы, когда она вроде бы задерживалась. В один из её оглушительных приходов он загляделся на притягательную линию её шеи с очаровательным завитком волос около ушка. Катя в это время что-то чертила, склонившись над пришпиленным к столу ватманом, и внезапно обернувшись, заметила его взгляд.
Эх, Роман, Роман! Каким жаром тебя обдало! Как разметал и унизил тебя этот короткий, но понятный взгляд. Как страдал ты потом, неизбывным одиноким вечером и курил, курил, курил.
А в другие разы, наученный постыдным опытом, лишь исподтишка, косым взглядом, пробегался по оголённому плечу или по слишком утянутому на талии платью, и назад — в нору.
Что касается Кати — она привыкла к оценивающим взглядам художников. И хоть не была завсегдатаем клуба «Весёлых картинок», так между собой называла союз бородок и усов молодёжь, но там работала. Предложения нарисовать её портрет поступали уже и от Рериховича, и от Эдмундовича, Саввовича, Генриховича, Степановича и даже от братьев Дерипасовских. Катя не обратила внимания на этот пристальный взгляд.
Да, но Роман Карлович об этом не знал.
Он и сам не заметил, когда это с ним произошло, но что-то внутри сосало, ныло и канючило, когда он не имел возможности видеть её часто. Он не знал, как к ней подступиться. Предложил ей сделать её портрет. Она отказалась — нехватка времени. Хотел пригласить её в ресторан, где бы уж он точно мог показать себя (развалясь в креслах и, рассуждая об искусстве), но это показалось ему несвоевременным и даже диким. Катя всегда говорила с ним на одном языке, понятном ему художественном языке, но иногда…. Иногда, он вдруг начинал седьмым чувством ощущать, что она просто снисходит до его речи и образности, и как первоклассный переводчик, просто подбирает слова, чтобы объяснить ему что-то.
Попытка пригласить её прогуляться по сумеречному городу так и осталась попыткой. Она торопилась на очередную встречу, определённо и убедительно обещала в следующий раз. Роман Карлович ждал этого следующего раза, но, сами понимаете, не дождался.
Просто взять и сказать, что он её…. А что он её? И в самом деле, что? А разница в возрасте? Будет ли согласна её мать? Почему только мать? Наверняка у неё есть и отец? И тут он представил, что с её отцом они должны быть одинаковых лет. Эта глубокая мысль настолько поразила Романа Карловича, что он совсем запутался и перестал что-либо предпринимать. Хотя, одну идею он всё-таки припрятал.
Состояла она в следующей хитрости: сделать признание прямо на юбилее, при всех. Шаг конечно рискованный, но, зная мягкий характер Кати, он почему-то был твёрдо уверен,…и как всегда, решил не думать о последствиях.
Теперь он с тайным наслаждением ждал открытия своей юбилейной выставки, и даже как-то прогуливаясь после кружечки пятничного пивка, заглянул в ювелирный. Так же быстро покинул его, ошеломлённый ценами и сверкающим разнообразием.
В назначенный день Роман Карлович очнулся от ночного забытья с особым волнением. Долго и вдохновенно чистил свои потрёпанные годами крылья и потом также тщательно спрятал их под чёрный новенький костюм. Выкурил две незапланированные сигареты, стоя в полной боевой готовности на балконе своей мастерской. Перед его взором простирался знакомый до простоты центральный проспект с пыльными липами, спешащими невесть куда авто и медленными прохожими, сильно напоминающими больших муравьёв. Потом за ним заехала Катя, на специально выделенной для сего дня машине, и они отправились за продуктами к юбилейному столу.
Разговоры в туалетах, вялые поздравления случайно забредших на огонёк знакомых; суета, когда выяснилось, что что-то забыли; нервное одинокое курение перед событием. Ненужные вопросы и рассеянные ответы; переживания по поводу, что придёт мало людей, потом наоборот, что придёт больше, чем рассчитывали – всё это Роман Карлович стойко вынес в процессе подготовки выставки и накрывания стола. И главное, внутри себя, он готовился сегодня совершить подвиг – открыться Кате.
Великое множество раз представил себе, как он это будет делать.
После речи или перед речью директора? За столом или в выставочном зале? С чувствами, и с какими? Что должна была ответить ему Катя? Как он наконец-то поцелует её и прижмёт к своей истосковавшейся груди. Финал был ясен и рассчитан. Сегодня его жизнь изменится.
Первый посетитель пришёл рано и одиноко бродил промеж развешанных картин. Его гулкие шаги в пустынной зале эхом отдавались в изнывающем сердце Романа Карловича. Но уже через полчаса напряжённого ожидания, и опять таки курения, холл дома союза художников стал наполняться гостями.
Появилась и Катя, отлучавшаяся по неведомым для Романа Карловича делам. Пришла она весёлая, румяная, сразу начала встречать входящих, провожать в залу, и всё у неё так ловко и ладно получалось, что Карлович разомлел и сам отправился поглядеть, как среди его картин смотрятся люди.
Вот уже всё потекло само собой. Гости ходили, обсуждали, на барной стойке, устроенной у дверей, появилось шампанское и все там сгрудились. Разговоры стали громче, смех продолжительнее. Когда уже было пора начинать церемонию, Роман Карлович решил, что время пришло.
Мужик он или не мужик, нужно же когда-то решиться.
Катя стояла недалеко от бара и разговаривала со Станиславом Рериховичем. Цель была намечена и поймана в прицел. Он ещё помедлил несколько секунд, и сам для себя, неожиданно понял, что уже идёт, весь цветущий изнутри. В висках празднично стучало, пальцы свела лёгкая сладкая судорога. И по мере приближения руки его поднимались для объятий. И все уже стали расступаться перед ним, давая дорогу, казалось, что он хотел сказать что-то важное. Но вдруг, среди людей, собравшихся в дверях, появился молодой человек. Он призывно махал рукой и вставал на носки, выглядывая поверх голов. Катя заметила его, и, извинившись перед Станиславом Рериховичем, изящно обогнув Иосифа Эдмундовича, порхнула между празднично лоснящихся братьев Дерипасовских, которые синхронно повернули головы ей вслед. Лёгким ветерком прошелестела мимо Агата Степановича, разразившегося встречной улыбкой, отчего лицо его стало похоже на варёную свёклу. Оставила позади себя застывших в благородном кивке козлиные бородки Апполинария Саввовича и Эдуарда Генриховича. Дальше уже Роману Карловичу было не видно. Народ прибывал и прибывал, но в случившемся неожиданно просвете между дверным косяком и чьей-то спиной в чёрном костюме, он увидел то, что его заставило остановиться на полпути посреди залы. Руки его, не успевшие подняться, опустились, сердце, кажется, резко встало, голова мутно пошла кругом. Роман Карлович пошатнулся — в сознание хлынула тьма.
Веками он дёрнул от резкого запаха, пробиравшегося в нос.
«Ну вот! Мы и очнулись! Ничего, ничего,…переволновались,… это бывает, всё-таки юбилей, сейчас крепкого чайку, и как новенький», — голос удалился вместе с противным запахом.
В мутно-водянистой пелене стали проявляться лица.
Раньше Роман Карлович чувствовал за собой силу своих работ, и в разговоре, или на заседании союза, мог достойно ответить на выпады какого-нибудь молодого холстомарателя. В словесной перепалке, однажды, он посоветовал такому вот молодцу, отрезать себе ухо и нарисовать свой портрет. «Экось ты его приложил!» — говорили потом одобрительно в коридорах на перекуре.
Он уверенно улыбался, когда его изображения в позолоченном багете, очередной заезжий критик презрительно называл: «Ваша яичница с колбасой». Его классический стиль считался незыблемым, непоколебимым, вечным, как само искусство живописи. То теперь, в один короткий миг, эта сила улетучилась. Он лежал такой беспомощный и слабый на дырявом диванчике в администраторской, куда раньше старался даже не заходить, потому что там собиралось по вечерам, что называется — новое поколение. Лежал среди художественного мусора: на бруствере дивана расселись тряпичные куклы с идиотскими угольными улыбками. Одна из кукол явно смахивала на самого Романа Карловича, и он в некотором недоумении всё время на неё косился. Со стен, из узких разноцветных рамок весело смотрели раздражающие псевдоперсонажи псевдофантазий, а над головой его, на длинной верёвке, висел огромный арт-комар, сделанный из красной пластиковой бутылки и проволоки.
«Он целовал её, — вспомнил Роман Карлович, — а как же я? Всё шло к тому, чтобы…». Вопрос повис в голове, потому что в комнату вошёл врач в голубой форменной одежде, а с ним ещё двое в таком же. В руках у одного из них висел толстый округлый чемодан с пугающим красным крестом в белом кружочке.
Станислав Рерихович отозвал врача в сторонку и о чём-то продолжительно с ним шептался, пока двое других, раскрыв свою устрашающую ношу, слушали у Карловича сердце и замеряли давление. Потом Роман Карлович заметил, как Станислав сунул что-то в карман доктору. «Шоколадку, наверное», — так определил для себя он. Врач с серьёзным лицом подошёл к развернутому и расстегнутому (из под чёрного белое) Карловичу и сказал: «Так — с…, — послушал ещё раз пульс, — сейчас сделаем укольчик, и всё будет хорошо».
Пришлось подниматься, разоблачаться, потихоньку теряя статус «больного». Снимать с себя скорлупу пиджака, бесстыдно закатывать рукав. Когда ломали ампулу и набирали шприц,…на всякий случай Роман Карлович отвернулся.
Его такого заново почищенного старой одёжной щёткой, что нашлась в администраторской, нехотя сделавшего глоток горячего чая, привели снова в залу. Директором была сказана короткая речь. Все хлопали и улыбались. А Роман Карлович всё соображал: заметил ли кто его любовный посыл: «Ах, как стыдно, если заметили!» Краснел и озирался по сторонам. «Где же Катя, где?» — А его всё брали за руки и трясли, произносили слова благодарности прямо в лицо, и это приходилось терпеть, и натянуто улыбаться. Хотелось убежать и спрятаться, как в детстве, за большим бабушкиным сундуком, от этих мясистых, накрашенных, тонких с белёсой пенкой в уголках губ, потому что внутри у него всё рвалось и металось, казалось, вот-вот он разрыдается, и было нестерпимо…и вдруг, стало легко, и отпустило.
Ещё ему вручили символический ключ от дверей в искусство. Но было уже не до него.
Роману Карловичу стало чрезвычайно весело. Хотелось бегать, прыгать, тормошить всех за плечо. И вина он не захотел пить, а лишь всё повторял: «Как же хорошо! Как хорошо!» Станислав Рерихович пошутил вслед: «Вона как, юбиляр наш разбегался! Подействовал укольчик». Все вокруг, в одну минуту, стали добрыми и прелестными. Да, да, именно прелестными, захотелось танцевать и закружиться в вальсе. Ещё тур…, ещё тур, и аристократическое, с вывертом ножкой — па де де…
Роман Карлович порхал по зале отогревшимся воробушком и щебетал, щебетал с каждым и со всеми. Задавал умный вопрос или произносил значительную фразу, не дожидаясь ответа, пропускал мимо ушей сказанное, уже ему вслед — убегающему. Вскоре его начали сторониться, вежливо ретировались, незаметно отворачивались. «Лишнего выпил, — сказала Степанида Капитоновна, главная жрица местного бомонда, — ну, ему сегодня можно – юбиляр!»
Даже неожиданно, встретив в холле Катю, которая возвращалась с улицы, складывая мокрый зонт, Роман Карлович галантно привстал на одно колено, и нежно взяв её руку, чмокнул в запястье. Катя засмеялась и закружилась вокруг него фигурой сумасшедшего необыкновенного танца.
«Ай, молодец! Ай, Катенька, хороша!»
Но он пропустил и Катю, и выбежал в двери, туда — на воздух.
А там!
Там хлестал обычный осенний ливень.
Да нет, необычный, а самый что ни наесть замечательный разноцветный ливень! Уже темнело, и уличные фонари яркими гранёными лучами пронзали тротуар, блестящие радужными разводами лакированные машины, с включенными факельными огнями, шествовали мимо, ловили узоры света своими глянцевыми боками, и они, отражаясь в мокром, словно живом асфальте, повторяли вместе с Романом Карловичем, доселе никому неизвестные и прекрасные движения. Листва на деревьях налилась волшебным изумрудным светом вдоль всей, вдруг ставшей праздничной улицы. Причудливые прохожие растворялись в радуге дождя и также внезапно появлялись, вновь распространяя вокруг себя пульсирующие разноцветные волны. Магазинная вывеска, напротив, сыпала голубыми искрами и каждая блестящая капля, падая на мокрое, замечательно шипела, превращаясь в фиолетовый дым.
Он застыл под козырьком парадной, оглушенный и ошеломленный своим небывалым, неслыханным открытием.
«Что мои картины? Пустота…», — пробормотал он сам себе вслух и тут же решил, что напишет другие, много других картин, насыщенных, наполненных такими же волшебными огнями, такими же лёгкими и глубокими музыкальными чувствами, которые теперь переливались в нём. Он вдруг понял и то, и это, и почему так быстро умерла мать, а Катя так жадно целовалась среди толпы, и почему он так нелепо влюбился, и теперь не стало — почему, словно кто-то по доброте душевной распахнул ему двери в совершенно другое новое измерение. Он понял всё.
Прохожий с повадками черепахи под аметистовым зонтом, вдруг превратился на глазах Романа Карловича в обыкновенную промокшую старушку. Деревья, блестевшие изумрудной зеленью, пошли тёмными пятнами и погасли. Под неоновой вывеской магазина перестало шипеть и дымиться. И сама вывеска, словно сговорившись с уличными фонарями, потеряла некую художественную зыбкость — остановилась на унылом белом свете. Радуга из ливня исчезла. Роман Карлович успел только заметить её блестящий хвост, юркнувший за соседний дом. Сверкающие машины свернули за угол, утянув за собой праздничный свет. Вообще, он не понимал, что происходит. Музыка внутри выключилась. Вместо неё стали подкрадываться стыд и грусть. Под конец, наступающая ночь, зачиркала серым грифелем блаженную улыбку Романа Карловича, затем и саму его фигуру.
А дождь всё лил и лил, растекаясь тёмными струями по обычному чёрному асфальту.
2010 г.
Бледное солнце
Было это с нами в такие стародавние времена, что теперь излагаемое кажется вымыслом. Время тогда ещё тянулось медленно, и диполи вечности обозначали все предметы на нашем пути, как неизменный знак качества на моих наручных часах, столь модный в ту эпоху. Этот позолоченный хронометр с белым окошечком для чисел на правом боку циферблата был утерян, забыт на берегу моря в одну из наших обаятельных прогулок. Его было жаль, потому что мне их дал на время путешествия отец, а ему их на юбилей подарил любвеобильный коллектив основанной им же кафедры, что подтверждалось гравировкой на обратной металлической стороне: кандидату, доценту, профессору, и прочее, и прочее…противоударные, водонепроницаемые.
Особенно хорош, в то время для нас оказался глинобитный домик в рыбацком посёлке без названия на берегу Чёрного моря, куда мы безрассудно ткнули пальцем на карте, выбирая точку прибытия. Место это, огороженное короткошёрстными порыжевшими холмами, от остального мира, соединялось с ним единственной пыльной дорогой, наклеенной на один из них. Благословенная дыра. Редкий посетитель у продуктовой лавки раскуривает Беломор. Неуёмное солнце уничтожило все тени, кроме одной под камышовым навесом для приезжих торговцев, коих отродясь тут и не бывало. Там стоишь ты, придерживая широкополую шляпку из соломки от порывов ветра, длинная юбка обтянула худенькие ноги и за тобой изображает трепещущий флаг. Ты смотришь на синий в блёстках, чуть выпуклый горизонт. Я теперь часто припоминаю это безлюдное место, где нам ненадолго удалось скрестить наши жизни. И чем выше эта волна памяти становится, тем ярче мои сны и явственнее твоё присутствие.
Обычно, после жаркой ночи, мы, как ни в чём не бывало, прогуливались по единственной улице этого селения, изображающей набережную. Пара давнишних скелетов водных млекопитающих на линии прибоя и растянутые на шестах сети с засохшими вкраплениями водорослей в однообразных нейлоновых ромбах. Ещё тошнотворный запах гниющей рыбы. Но привыкаешь и к нему, как к солнцу, беспрестанному стуку волн о булыжники, отороченные песком. Отполированная солью и солнцем коряга мается в желтоватой пене, сегодня её развернуло другим боком.
На берегу небольшого заливчика рядом с крайней хижиной дюжина грациозных дощатых лодок устроила пляж. Облезлые спины готовы к смоляному загару, одна умерла – у неё пробито днище. Мы выбираем жестяную посудину с небрежно нарисованным номером на ржавом боку, по крайней мере, только её можно было сдвинуть с места. Под ней нашлись и вёсла. Спросить было не у кого, поэтому сами себе дали честное слово вернуть её обратно.
Я вспоминаю тот день с бесконечной нежностью и благодарностью, по крайней мере, первую его половину. Иногда моё воспоминание начинается именно с этого момента, я вижу нас будто со стороны. Вот мы вместе тащим номер тринадцатый, вот уже плывём, неуверенно, шатко. Ты сидишь на носу, и рука твоя гладит воду. Что-то надвигается тёмное, зеленоватое из полупрозрачной глубины; мы над ним проплываем, захватывает дух – это подводная скала. Одновременно с разных мест смотрю на нашу одинокую лодку: из-под воды на остроносое днище, с точки зрения рыбы – любопытство с толикой страха; с высоты полёта чайки – небольшая стая ждёт по привычке угощение, принимая нас за рыбаков, и снова я в реальном размере, в центре собственного сценария. Берег уже далеко, волны стихли, гладкая бирюзовая лень наполнила море. За остроконечным мысом открывается мелководье из ракушечника, высаживаемся; вокруг нас прозрачная глубина с декоративными пучками водорослей на белом просвеченном дне и разноцветными люстрами медуз в толще воды. Если бы я знал тогда, что такие дни бывают только однажды, я бы тебя уговорил, я хотя бы попытался, отвлечь твоё внимание.
Пока мы осматривали нечаянные морские владения, оказалось, что лодка наша дала течь и уже присосалась дном к островку. Чета вёсел, тайно покинула затонувший борт, и дрейфовала неподалёку над пугающей фиолетовой глубиной. Пришлось вязать узелок из одежды и добираться на ближайший берег вплавь. Приключение это только добавило нам задора. Уже на суше, мы раскинулись на песке, и, кажется, я задремал.
Иногда Мнемозина делает бесценные подарки, возвращая меня в ту беспечную дремоту. Являя те же ощущения, словно тонкая ткань того дня сквозь аберрации ресниц, разделявшая нас тогда, присутствует и сегодня. Мелькают яркие красноватые блики под ещё прикрытыми веками. Сейчас я впущу в себя солнце, а вместе с ним и ты вся в жёлто-синих кругах будешь бродить по линии воды в ярко оранжевом купальнике и накинутой на плечи моей рубашке. Но, теперь всегда открывая глаза после обманчивого обещания, вижу лишь чёрно-белый пейзаж городского парка или мелькание посадок в окне вагона скорого поезда, или подкопченный потолок дешевой гостиницы. А глазные блики это всего лишь след, воспроизведённый цепкой памятью.
Тогда ты собирала камешки, красно-бурые с золотинками, я разглядел в них по наитию полудрагоценный кошачий глаз. Стал тебе помогать, и мы набили полные карманы сокровищами, которые благородный Посейдон рассыпал для нас в знак своего расположения. Ты так радовалась, изображала танец папуасов на песке. Мои же мысли были заняты утонувшей лодкой, — как теперь её вызволять?
Сейчас бы я несколько по-другому расчертил все движения и наше местоположение в пространстве. Допустим, я бы добавил лодочника, который бы следил за нами с берега и незамедлительно осуществил наше спасение на быстроходном катере. Была бы возвращена погибшая лодка, и я бы навсегда лишился болезненной дремоты, в которой ты так нечестно ускользаешь из моего сознания. Ещё, мы бы быстрее оказались в своей глиняной хижине и занялись более приятным делом: приготовлением обеда из наловленных вручную мидий, может быть, меня бы прельстили твои загорелые ноги, и ход истории наполнился бы другими восклицаниями и междометиями. Но мы на полукруглом пляжике окаймлённым белыми глыбами ракушечника собирали камешки, несколько у меня сохранилось. Впоследствии выяснилось, что это солнечный Авантюрин – хорошее название для второй части воспоминания. Его очень часто подделывают мошенники из обычного стекла и бронзовой стружки.
Потом долгое купание заменило нам ужин и, возвращаясь босиком домой по извилистой тропинке вьющейся на боку, привалившегося к закруглённому берегу холма, мы обнаружили пустую бутылку из под мадеры, прикатившуюся по его склону прямо к нам под ноги. Нужно было пройти мимо: закричать, поссорится, увести тебя насильно за руку, но тебе захотелось непременно узнать, почему в таком нелюдимом месте появляется пустая алкогольная тара, видимо, за неимением других важных дел мы, нацепив изогнутые солнцем просоленные сандалии, полезли вверх.
За плешивой макушкой перевала нас ожидали сливовые деревья, ровными колхозными рядами выстроившиеся до следующего загиба холма. Мы и не подозревали о таком изобилии, тут же начали уничтожать сочную сиренево-рыжую мякоть крупных плодов. Наелись, присели у недавно горевшего костра – влажные угли, едва спасшийся дымок. Пахло жареной рыбой, горелым луком, тут же рассыпанным, и мочой. Мне, конечно, было всё равно, кто здесь пировал, но ты снова решила установить истину, подобрав забытый кем-то ножичек с наборной полосатой ручкой. И с этой минуты превратившись в чуткую лису, пошла по следу. Мне был хорошо знаком твой хитрый прищур и плохо замаскированные наводящие вопросы: «Может быть, детки? Куда они испарились?»
Нужно было уговорить тебя уехать в этот же вечер, как бы ни был прекрасен здесь покой наших любящих душ. Я же поддался твоей искренней пытливости, совсем не замечая, как другой самец уже пометил своим запахом все углы действительности, осталось только расшифровать дорожку.
На следующий день мне довелось плестись у тебя в хвосте, забираясь по очереди на все доступные взору холмы, а поскольку они были не малых метров, то удалось одолеть только два. На одном мы обнаружили ржавый обелиск – память войны, сваренный из артиллерийских гильз и кусков рельсы, на втором ничего не нашлось, кроме старого кострища, таких же омытых дождями бутылок зелёного стекла уже без наклеек и разбитого стакана.
Конечно, мне не очень хочется вдаваться в подробности, третьего немного ветреного и пасмурного дня, если считать от нашего лазурного штиля; мы таки набрели на лагерь археологов, где скучный повар с половником в руке нам поведал расписание жизни его жителей. Не хотелось бы мне рассказывать, и о пыльном военном газоне с орущими песнями подрулившим ближе к вечеру. Он рассыпал по периметру палаток говорливых людей, а начальник экспедиции предложил нам работу: «…и кроме того, за каждую найденную монету – банка сгущёнки!»
Меня, конечно, устраивало наше уединённое состояние, но я видел с какой похотливой завистью, горели твои глаза, когда вечером под гитару кто-то бацал заводную — походную, пришлось согласиться. С этого самого момента и по сей день, холодная изморось твоего отсутствия поселилась у меня в районе затылка. Просыпаясь ночью в нашем новом брезентовом доме, я ощущал этим местом пустоту рядом с собой на соломенном матрасе. Пытался и сам принимать участие в этих ночных акциях, но при моём появлении либо все замолкали, либо натянутый разговор не мог разогнаться. Я брал тебя за руку, чтобы увести, но ты меня молча отстраняла, обдав холодом взгляда. Так после ужасной работы кайлом на раскопе под палящим солнцем я научился засыпать один. Ты же весь день ходила с кисточкой, обмахивая найденные черепки. Мурашки, толпами блуждавшие вечерами по моей спине, сообщали мне известия о запойных вечеринках у костра и в соседних более просторных тряпичных домах. До меня сквозь сон доносился смех, цоканье гитарных струн и залихватские пиратские песни. Однажды ты вернулась под утро и я соскучившийся, изнывающий от желания, попытался добраться до твоего ускользающего тела, но ты запротестовала: мол, услышат, мол, нехорошо… .
Откуда этот мускусный запах на твоей шее?
В конце концов, пропетое в очередной раз, заунывное на весь лагерь: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца….», — заставило меня немедленно начал собирать наши пожитки. Ты как всегда отсутствовала. Я искал тебя в этой душной темноте довольно долго, все пожимали плечами, отворачивались, делали вид, что не понимают, о чём я говорю, и только когда уже отчаялся, ты вдруг сама появилась возле меня немного удивлённая и растрёпанная. Темнота у тебя за спиной хрипло дышала, от твоей некогда душистой кожи пахло вином и дешевым куревом.
Я успокоительно обнял твои плечи, словно больную взял за руку и повёл прочь от этого места. Так мы шли некоторое время непонятно в какую сторону. Потом стал слышен шум прибоя. Потом ты вырвала руку из моей тихой ладони, ночь твоим голосом крикнула: «Нет!…Нет!» — и только шорох ветра остался в моих ушах.
Описывать одинокое возвращение домой не имеет смысла. Вокзалы, поезда, размеренная качка дымного тамбура, бутылка водки из горла. Знаешь, я пережил такие мучения, что если я их вывалю на бумагу, то ты будешь реветь от жалости. Не стану я этого делать, не это чувство связывает меня с тобой, а совсем другое, похожее на наш яркий солнечный день, на ту морскую гладь, на время ещё тикавшее для нас. Кстати, я вновь побывал в тех местах, и мне удалось уломать одного говорливого шофёра отвезти меня туда. Он согласился проехать с одним условием, что я помогу ему насобирать слив. Но либо место так сильно изменилось, либо я изменился сам, потому что из всех предложенных селений на побережье мне не подошло ни одно. Мой извозчик и спутник, проникшийся моими поисками таксист, с одним лишь загорелым лицом и такими же бронзовыми руками до закатанных по локоть рукавов рубашки, решил искупаться на одной из наших остановок, и, глядя на его белую спину, брасом рассекающую волну, я понял, что уже никогда не найду это место. Запустив руку в песок, и машинально, насыпая золотистую горку, наткнулся на предмет очень и очень показавшийся мне знакомым. Часы с остатками истлевшего ремешка оказались теми самыми, что и подтвердила слегка заросшая ржавчиной надпись на обратной стороне. Вот Отец удивится! Выцвели циферки в окошечке, где должно было быть число. Я покрутил заводное колёсико, оно поддалось, и часы пошли. Представляешь – столько лет пролежали в песке, и работают! Однако местность мне так и не удалось признать. Сливовый сад также мы не обнаружили. В любом случае, это теперь всё что может предложить мне память, и я очень надеюсь, что это когда-то было настоящим, и она — моя Мнемозина, не изменяет мне с вульгарной выдумкой.
Апрель, 2013 г.
Непривычные настройки откровенности
Это началось в Польше, в Щецине. Там жила моя тётка, учительница русского языка. Она умудрилась выскочить замуж за шляхтича ещё в далёком СССР и теперь, иногда возвращалась на родину с сумками набитыми всяким диковинным товаром. Так вот её муж, пан Тадеуш, всегда просил его величать по имени и фамилии, даже в моменты интимной близости (из подслушанного в детстве взрослого разговора — притаился незамеченный за тихой игрой в солдатики). Так и представляю: «Тадеуш Вуйцик, кажется, я кончила!» (Смех в зале).
Чуть позже, когда я подрос, к нам в гости стала приезжать и её дочь Ирена, длинноногая красотка-подросток, которую я по детской наивности считал своей будущей женой. Она бродила в коротеньком пеньюаре с кружевными рюшами по нашей шестисоточной даче и приседая за очередной клубничиной на грядке, что-то быстро пшикала по-польски милым ротиком. А словоохотливый сосед все эти дни поливал свой огород из струйного шланга только с нашей границы участка.
Однажды и сам пан Тадеуш посетил нас, наградив всех членов семьи ласковыми потешными шипящими. «Чишто ешть, по-рушки «кошёл» (козёл), — с трудом пытался поляк-Тадеуш запоминать подобранные на улице слова. Когда же выяснилось, что это слово было принесено из пивной, где он пробовал единственный сорт нашего пива разведённого стиральным порошком для пущей пены. «Кошёл» — нашёл себе заграничный синоним в его лице. Мы ревели от смеха. Все, — хором, иногда переводя дыхание от душивших нас приступов хохота, его просили нигде, ни при каких обстоятельствах не повторять этот бульварный анимализм, во избежание несчастного случая. Он наивно пожимал плечами и шипел удивлённо: «Шлофо диля рушково матта? Я шмотрел шлофарь — это шифотное».
Так вот, это началось в Щецине. Я приехал туда по приглашению пана Тадеуша и моей располневшей к тому времени тети. Мне выслали его официальным заказным письмом. В ответ на прозрачные намёки моей матери в поздравительных открытках, что после армии я отбился от рук и мне тут совершенно нечего делать. Синие гербовые печати на раскоряченном нещипаном цыплёнке табака с видом коронованного одноголового орла, и разрешающие подписи клерков на воднознаковой бумаге, — присутствовали.
Ирена, которую я мечтал увидеть, вышла замуж и давно жила в Берлине, поэтому в день приезда, перекусив малосольной балтийской килькой, на крошечной кухоньке тёткиной квартиры, я отправился на берег Одры выгулять несбывшиеся надежды и непонятную самому себе юношескую тоску.
Тогда не было ни сотовых телефонов, ни интернета, вряд ли даже мысль об этом существовала в головах сумасшедших изобретателей. Небольшой ломо-компакт, самый маленький механический фотоаппарат, купленный специально для путешествия, натирал жёстким капроновым шнурком запястье. Заняться мне было особо не чем, и я просто бродил по набережной украшенной разноцветными фасадами. Помесь викторианского стиля с барокко, плавно перетекающими в современные постройки: жилые пятиэтажные дома с зашторенными наглухо балконами с одной стороны и сияющими иллюминацией дебаркадерами ресторанов и кафе с другой.
Вечером я умирал от тоски у чужого шепелявого телевизора и на следующий день, пересмотрел все чёрно-белые отпечатки обыденности в семейных фотоальбомах, подсунутых Тадеушем, где отметилась и наша русская семья. Вот этот снимок сделал я!
Приходилось только как можно быстрее пролистывать фотографии Ирены в купальниках, делая вид, что это-то уж совсем скучно. Видя мой скачущий поверхностный взгляд на прошлое, было решено отправить меня следом за молодожёнами.
Два часа в автобусе и пересечённая граница проплыли мимо меня сонной рутиной. Тогда поездка в Европу воспринималась, как примерно сейчас съездить в Анапу с детьми, к морю. Я ужасно устал. Всё вокруг было уныло и однообразно. Названия на немецком (дорожные знаки на белом фоне с чёрным кантом, магазинные вывески — подчёркнуто лаконичные, ни одной маркой больше) виденные мной только в фильмах про фашистов, перестали меня веселить.
После полудня я прибыл на вокзал в Берлине и, развернув бумажку с адресом, стал пытаться бродить по стрелочкам на моём рисованном тёткиной рукой плане указывающим мне путь к нужной остановке автобуса. Но то ли, это был другой вокзал, то ли, я не там вышел, обманувшись своим нетерпением и усталостью, не совпала ни одна штрассе и ни один (dehung) поворот. Пришлось пойти по не самому экономному варианту — взять такси. И выданные тёткой десять марок, на всякий непредвиденный случай, были потрачены.
Домофон и дверь квартиры открыла сама Ирен. Долго вглядывалась мне в лицо. Даже показалось, что она не хотела меня впускать, но потом по её глазам восхитительной ресничной вспышкой промелькнула некая догадка. «Прошу, иди», — сказала она с ударением на первый слог в обоих словах и отступила в темноту коридора.
Сердце моё колотилось, даже в полутьме немецкой бережливости было видно её правильное и знакомое лицо, будоражившее мою мальчишескую память долгими бессонными ночами. Она была завёрнута в короткий махровый халат, держала его запахнутым у шеи одной рукой. И этот взгляд с поволокой, впитал я до конца только когда провалился напротив её в низкие кресла гостиной.
На столе царствовала бутыль вина, и пузатенький фужер ей прислуживал. Второй, для меня, она вынула из потайного ящика в стене и понесла, повесив на забытой руке, как розу за бутон, пропустив стебель между пальцами. Неслышно ступала босыми ногами по матовому коричневому полу, а я не мог оторвать взгляда от её правильных тонких коленок. Когда еле заметное дуновение воздуха, принесённое ею с собой, достигла моих чутких к её присутствию ноздрей, я начал впадать в обречённую панику желания.
Она медленно налила вина мне, потом, потянувшись подальше — себе, поставила бутыль на стол, обошла его и села напротив: «Сколико тибе годов, — лиет?» — Поправилась она с улыбкой, щуря глаза. «Двадцать пять», — ответил я быстро и приврал два года. Не знаю зачем, наверное, чтобы иметь хоть какие-то шансы. Но какие и на что понятия не имел. «Ви-иырос такои-и красыви-ий, молодои-и муж!» И тут я понял по интонации медленно растянутых русских гласных, Ирена пьяна. И не просто пьяна, а вот-вот и катастрофа будет неизбежна. И пока я вставал с кресла, чтобы забрать у неё бокал из руки, она уже начала клонится в сторону, закрывать глаза, сказала что-то по-польски, тихо уколов меня сладкими «ш». Еле успел подхватить и спасти хрупкую посуду, только что оставшуюся без содержимого. Она просто отключилась, уронив голову на мягкую спинку.
Конечно, я запаниковал: один в чужой квартире, в чужом городе, чужой стране, седьмая вода на киселе, молодой русский влюблённый. В кого? В двоюродную сестру! Сначала я бродил по комнате, выхаживая своё волнение, обследуя периферийным зрением, доступное сейчас случайное счастье. Остановился, замер. Не мог решить что делать. Но мысли мои ещё были пугливы и правильны. Волны желания ещё не имели высоты цунами, и когда я понял, что она уже не проснётся, стал разглядывать её лицо. Не нужно прятать взгляд и урывками составлять представление о желанных чертах.
Ровные чистые веки без тени косметики прикрывали глаза, над ними покоились безмятежные тонкие брови и поскольку я ещё не знал, что за ними так ухаживают, то принял это за естественную красоту природных линий. Милый лоб с ниспадающей прямой чёлкой, маленькое прижатое ухо, прикрытое русой соломкой волос, тонкий прямой нос с почти прозрачными крылышками миниатюрных ноздрей, и губы; восхитительные губы приятной нужной полноты с манящими уголками ангельскими припухлостями у преддверия щёк, округлый почти детский подбородок. Лицо моё уже решительно тянулись к шее источающей неизведанный тонкий аромат женской кожи, как Ирен шевельнулась и устроилась поудобнее в широком кресле.
Тогда, я стащил в другой комнате покрывало с одной из расставленных по разным углам кроватей и прежде чем укрыть её, засмотрелся на гладкую белую часть ноги чуть выше колена, освободившуюся от полы халата. Откровенность рисунка её бедра, линия утолщения, уходящая в пушистую махровую неизвестность, отрезвили меня. Я попросту испугался её бессмысленной доступности сейчас и неминуемой расплаты за минуту слабости.
Прилёг на соседний диван и, наверное, тоже уснул счастливый, потому что мечта увидеть свою любимую сестру ещё раз, — сбылась.
Когда меня разбудила её разгневанная рука, был какой-то невменяемый час утра. Она не помнила ничего! Если бы не звонок из Щецина, пришлось бы вызывать полицию. Но тётушка решила убедиться, добрался ли её любимый племянник в целости и сохранности до места назначения.
Ещё целый час её молчаливой, почти игнорирующей ходьбы по комнатам, под шум воды в ванной и громыхание посудой на кухне, я сидел забытый всё на том же диване, перебирая в голове удобные варианты отступления. Даже пробрался в туалет, где не смог справится с множеством жёстких и непонятных ручек. Но Ирен, вдруг принесла кофе на дзинькающих фарфоровых блюдечках, снова села напротив, уже одетая в широкие, модные тогда джинсы и просторный горчичный пуловер, ноги в белых носочках сложила зетом, оставив под креслом прикольные тапки с мордочкой кролика.
«Что мине с тобои диелать?» — спросила она с нескрываемым раздражением и сделала глоток кофе.
И тут мне стало понятно: либо расскажу, зачем я сюда явился, либо буду просто выгнан, как предмет, бесплатно пожирающий её время.
Я начал тут же начал хвататься за припасённые образы, задыхаясь от предстоящих слов, как будучи ещё мальчиком, был очарован её присутствием сначала наяву, а потом в моих снах. Как мечтал о встрече с ней, с этим воздушным непонятным миром грёз, так мило шуршащем на иностранном языке, где каждое драгоценное «ш» только добавляло юного сладострастия в копилку будущего мужества. Я так разошёлся в своём красноречии, что совсем забыл о её муже, перестал волноваться о том, что посыл мой никуда не приведёт, кроме как к громогласному фиаско. Я был убедителен, как мне казалось, и в конце красочной пылкой речи, к которой я, кстати, давно готовился, подразумевая фантастический исход событий, встал перед Ирен на одно колено, насколько позволяла близко придвинутая к креслу лава (низкий слол); протянул к ней руку ладонью вверх и замер, обнаружив себя в этой нелепой позе, но вставать было поздно.
«Вау!» — Она поставила чашечку на блюдце, — «Да ти мастиэ-эр!» Потом вдруг стянула с себя через верх свитер, съехала с дивана ко мне на пол и, опустив бретельки лифчика, достала из его жёстких чашечек две белые равнодушные сдобы с чуть смятыми вишенками на вершинах. Я обалдел. Честно. Другого слова не подберёшь. Я сидел и смотрел на них, не отрываясь, пока она, придерживая их двумя руками, поиграла каждой по отдельности перед моим носом. «Помини, помини, даваи быстреи, рукой мни, мни быстреи!»
Я послушно начал их трогать. «Сильниее, есчо сильниее!»
Когда уже и мои обе ладони устали, и я не совсем понимал, зачем я это делаю вообще, она отстранилась и сказала: «Типерь моужешшь визяти губами сос..», но видимо не знала, как это будет по-русски полностью и показала игрушечным мизинчиком на миниатюрный сосок. У меня похолодело в затылке, что-то крутанулось в голове и чуть-чуть потемнело в глазах, но я послушно, словно заговорённый прикоснулся губами, к чему даже и не мечтал. «Мни, мни губами, мни… такше, такше… .Добжэ!» То же самое было проделано и с другим соском. Я почувствовал, как у меня во рту всё больше распространяется терпкое и не совсем приятное молозиво, но упорно делал то, что просила Ирен.
Потом она встала, как ни в чём не бывало. Натянула обратно свитер. Села в кресло взяла чашку с кофе и сказала: «Твалет смывать верхиняя клавишиа на сибя», — показав в пространстве рукой как нужно дёргать.
После проделанных манипуляций или процедур, было бы логично их так назвать, мне уже ничего не хотелось. Любовный азарт угас, и я ещё долго тёр языком зубы, смывая терпкий неприятный вкус молочной Ирен. Конечно, понимание того что происходит до меня ещё не доходило, но мечта, хоть и кривая начинала проявляться.
Так я был принят в эту странную семью.
Всё-таки я решился спросить: «А что мы тут собственно делали, разминая эти прекрасные части тела?» — «Как скаизать? Когда щиекотно?» — «Что грудь чешется?» — «Да, да правиильно, груди чиешется!» — «Так мы тебе чесали грудь?» — «Да чиесали груди, мине всегда так Георг диелает». — «То есть ты хочешь сказать, что ты чешешь грудь с помощью мужчины?» — «А что ви этом плохо? Мужиская рука криепкая!» — «А где сейчас Георг?» — «Он Амстиердам, работа». — «А дети у вас есть?» «Что, диети?» — «Это здиесь дорого, очинь. Георг любить мальчиков и не хотеть диетей. А ия иногда лиюблю диевочек и тоже не хотиеть дитей» Я впал в дилемический ступор и подумал, раз они хотят разных детей, и не могут сойтись кого родить, это не причина их не заводить: «Зачем же вы живёте вместе?» — «Такше проще вдвоиём помохаить друг другу».- «Ни хрена себе! — Сказал я сам себе и поднялся с пола, — Значит, ты чешешь грудь, как Карабас Барабас?» Посмотрел на Ирен и увидел, что она загибается от хохота: «Как, как Кара…Кшто?» — «Старый грузин Карабас Барабас так чешет свою волосатую грудь».- «Ия ситарий гирузин…», — Ирен так смеялась, что не могла даже перевести вовремя дыхание. Из глаз от смеха потекли слёзы, и ещё минут через пять ей пришлось идти умываться. «Ти очен виесёлий!» — сказала она, возвращаясь из ванной. Подошла ко мне обняла и чмокнула в лоб: «Буду тиебя любиить! Добжэ!» — и спросила заботливо, — «Куушать хотеть?»
В большом двухстворчатом старом американском холодильнике оказалась канистра прокисшего молока, десять литровых бутылок марочного сухого вина и ветчинные консервы. «Это всё?» — спросил я разочаровано. «Миеня никогда ниет дома. Я кушать в это, по-рушки — столовои. Идём я тиебе купилю кушать» — «Ирена, у меня есть предложение, давай сходим, поменяем мои деньги на марки, зайдём на рынок. У вас же есть рынок?» — Ирен кивнула, — «Ну вот, купим продукты, и дома тебе сам всё приготовлю. Согласна?» — «Добжэ, ти мастэр!»
Берлин девяностых произвёл на меня впечатление заштатного городка с полупустыми улицами. Берлинская стена пала прошлой осенью. Если бы не высотные здания, начинающие провоцировать будущее, я бы подумал, что из своего города я и не выезжал. Ещё я расшил из своих трусов армейскую заначку в двести долларов, провезённую через все границы, и всё это было поменяно Иреной в обменном пункте без всяких бумаг и паспорта на целый ворох немецких марок. «Ти богатко Буриатинко! — Сказала с улыбкой Ирен и добавила с басистыми нотками, прыснув от смеха, — А ия волосатий гирузин Карабас!»
На рынке она запретила мне говорить по-русски. В мою задачу входило только показать пальцем, что нужно купить и обозначить количество штук тоже пальцами. Думаю, это было сделано в целях безопасности. Русских уже тогда здесь не очень приветствовали.
Вокруг безмолвствовал тёплый август. На прилавках всего было навалом. Ценники на картонках торчали на палочках из куч овощей, только всё было чистое мытое и какое-то правильно подобранное, по размеру что-ли. Так мы отыскали подходящий кочан бледно-зелёной капусты, который она не смогла прихватить, чуть не уронила, и мне пришлось помогать. Она собирала свёклу в бумажный пакетик брезгливо, как мышей держа отстранённо их за хвостики. Морковку, Ирен вообще брала двумя пальчиками, и как-то смущённо краснела. «Чито из всиго этого можино диелать?»
Завершили мы покупки овощей огромным пучком зелени, похожим на букет с вкраплениями фиолетового базилика. Сразу же отправились в магазин за «сметаной». Здесь она уже чувствовала себя привычней и набрала кучу всяких коробочек, что-то для жарки, что-то для варки, невыносимо манящий духом гигантский пакет кофе. Я же собирал мясо, в том числе мускулистую индюшку, привлекшую меня своими толстыми пупырчатыми ляжками.
Пришлось снова брать такси. Оказалось, что такси стоит совсем не дорого и что меня обманули, взяв 10 марок, когда я ехал с автобусного вокзала. «А чем ты занимаешься?» — Спросил я у Ирен пока мы сидели на заднем сидении скрипучего Трабанта, — «Ну, где ты работаешь?» — «Такше, плохо: офишиянткой были, такше няниькой были, секритарь на заводи были, турист водили на смотриеть Берлин…» . Тут мы приехали. Я, наконец, понял, как себя вести в этом завоёванном городе!
Уже дома, на кухне я веселился ещё пуще. Ирен не умела ничего: ни чистить, ни резать, ни солить, ни перчить, что называется. Я просил её просто постоять рядом, со своим умыслом конечно. Она не переставала мне нравиться и в один из моментов, когда руки у неё были заняты, попытался поцеловать желанное лицо. Она сначала даже не поняла, что я делаю. Потом сказала, отстранившись: «Ниет, ни штоит старатися, лицо у миня ни чиешется».
Но, не смотря на этот мой конфуз, украинский борщ удался, картошка с мясом и салатом вообще вызвала у неё какое-то подобие экстаза. Она ела и просила ещё. Снова ела и просила ещё. Потом когда уже не могла, сказала лёжа на диване, расстегнув тесные джинсы: «Типери ия пониимаю, толистых руусских женищин!» «Ти мастэр, я тибя любилю».
Я был горд собой. А кто бы тут не был горд? В этом возрасте меня терзал только один вопрос: «Почему её нельзя поцеловать? Ну, Почему? Почему?» И я ей его задал. Она не ответила, ушла сразу в другую комнату и долго не выходила. Я уже проглядел все пейзажи за окном. Книг в доме не было никаких, ни на каком языке. Вообще не было, даже старых газет с картинками. Потом она вернулась, подошла ко мне, даже приобняла слегка: «Идёшь со мнои, я показывать тиебе моя зазноба». «Что-о-о? Какая такая зазноба?» Вот слово «зазноба» она произнесла без акцента, зацепило видать сильно. «Идёшь со мнойи я показивать тиебе».
И мы пошли.
Перед выходом Ирен кому-то звонила, долго договаривалась. В её исполнении немецкий язык выглядел, как мягкое мороженое, столь распространённое сегодня. Вроде мороженое, а вроде и нет. И я всё больше влюблялся в неё. Она была словно создана для меня. Она меня очаровывала и своими движениями рук, случайным наклоном головы, попавшими вдруг на нос длинными волосами, которые он периодически сдувала с лица, делая губы трубочкой. Она манила меня своим лучистым дыханием. Идеальным сочетанием разреза глаз и бровей, небольшими засохшими кожинками на подсохших губах, полуулыбкой предназначавшейся моей шутке, удивлённым взглядом и чистым интересом зрачков, когда я смотрел прямо на неё. Я не мог оторвать глаз от её лица. И не мог просто её поцеловать. Даже по-братски не мог. Мне хотелось, чтобы она ответила мне, как отвечает женщина чувство мужчины, полной и глубокой отдачей насыщенным чувством, чтобы дальше уже не возможно было что-то найти, оставленное кому-то ещё, потому что отдано уже всё и ничего другого нет, и быть не может. И я хотел увидеть этого человека, который лишил меня такого счастья. Я просто был очень зол на него. Зол до безумия, я готов был его убить, растерзать на части. На мелкие вонючие части.
И вот я вижу её. Да, да, именно её. С позволенья сказать, какая-то шмара, говоря по-русски. Возможно, она стройна, возможно, у неё красивое личико. Это облегающее в блёстках платье ей без сомнения идёт. Она ведёт себя вызывающе! Она берёт мою Ирен за затылок и начинает сосать её, как вампир, как вурдалак, как оборотень в женском обличье. Я смотрю на это действо под грохот Лэд Зеппелин в широченных колонках дискотечного угара и вижу как Ирен мягчеет, как она отдаётся этому жестокому натиску, как она трепещет жертвой, жаждущей, чтобы её убили, принесли в жертву, этой сцене, этой музыке, этому зверскому беспощадному поцелую. Как всё её тело желает унизиться и пасть перед величием этой шмары — обозначенной по-русски.
И как бы было не смешно на этот старый анекдот, про мужика в белом. Да, тут появляюсь я, весь в белом …
Короче, Ирен меня вызволяла из полиции, где я совершенно трезвый ошарашенный таким необычным вниманием людей в форме, сидел за железными прутьями, за что ей отдельная благодарность. Всё списали на то, что я не понял инсценировку рок-балета с формулировкой – не знание немецкого языка. Но я то до сих пор помню, как шмара летела пушинкой от моего удара и звенящая запредельно высокими частотами колонка грохнулась на атакующих меня странных личностей в карнавальных костюмах.
На следующее утро мы не разговаривали. Я сидел с больной головой от переживаний и хлебал сухое под жареную картошку, а она, всё звонила кому-то, громко ругалась, и, похоже, я был причиной, что её выгнали с очередной работы.
Но она не сдалась, видимо ей это было не впервой, но со мной особенно забавно: «Ти мения приревноваить! О мои Бози, как иэто słodko!» — «Ми рассталис с Евой. Ти рад?» — «Большего я и желать не «хотель», — говоря с акцентом.
Мы ещё полдня провалялись в молчаливом забытьи. Ирен просто лежала, свернувшись калачиком на своей кровати в спальне, я же лежал чуть пьяный в гостиной и смотрел не понимающим ухом гавкающий по-немецки телевизор. И я соскучился по ней, очень соскучился. Пошел, чтобы её разбудить. И мы встретились в дверях в спальню и смутились оба. Стояли так несколько минут, не давая друг другу пройти мимо: она задерживала мне рукой, а я её. В конце концов, мы обнялись, и что-то вдруг загорелось между нами. Прям вспыхнуло, прям, полоснуло огнём, она аж ойкнула, когда я случайно задел её грудь своими косолапыми ручищами. И как она быстро собралась, как всколыхнулась её сущность.
«Диелай своиё диело! — Говорила она, ложась на диван с трубкой телефона, — Бистро, шыбко, диелай диело». И видя, что я не понимаю, что она хочет, подошла ко мне и резко выдернула из гнёздышек змеевидный конец ремешка брюк. «Снимай шитаны, шыбко, бистро, мние нету время!» легла на диван животом вниз, задрав предварительно халат. Я конечно не ожидал такого женского напора и сказал уже волнуясь от предстоящего действия: «Можно было ласково попросить, что значит «делай своё дело»? Как то грубо, уж совсем грубо». Ирен обернулась вместе телефонной трубкой у уха и произнесла: «Ия прошу», — с ударением на первые слог в обоих словах. Так просто вот, возьми и получи, то что хотел, да! Так просто, получи, и видимо,- отстань. Ну ладно, хорошо. Добжэ! Как там по-вашему, а мы не гордые. Мы русские и нормальные. Мы умеем любить!
Её тело было идеально, какой-то мастер-ангел долго трудился своим резцом над её ложбинками и закруглениями. У меня осталось только два вопроса: Почему это идеальное для меня тело принадлежало моей сестре? И почему меня это не смущает? И я начал делать «своё дело», да так, что через минуту телефонная трубка призывно булькала, свисая с дивана на пружинистом проводе. Я драл её, да именно драл, другое слово было бы неуместно, так, как, наверное, Дафнис драл Хлою, когда прозрел в своём сексуальном влечении. В диване что-то горько хрустнуло, и он резко присел, вызвав яркий вскрик у тела подо мной. Ирен цеплялась руками за кожаные подушки, но пальцы соскальзывали, ручки дрожали, и потом она просто перестала сопротивляться. Тело её напряглось, превратилось в одну тугую струну. Вдруг оно дёрнулось и задрожало, затрепетало, словно что-то взорвалось у неё внутри, что-то вырвалось наружу вместе с длинным грудным стоном.
Потом она растрёпанная с подобранной машинально телефонной трубкой, в руке гудящей равномерным зуммером долго сидела в ложбинке хрустнувшего дивана и смотрела, как я выхожу из ванной, хожу по комнате, собирая одежду. Даже когда я вышел на кухню заварить кофе и вернулся с дзинькающими в блюдцах чашечками, она всё ещё сидела и шевелила губами какие-то слова.
Вдруг Ирен изменилась, стала другой — кроткой. И в этом новом для неё обличии иногда даже не знала как себя вести со мной. Терялась и смущалась при моём появлении. Я чувствовал, как ей хотелось меня потрогать, но она ужасно этого стеснялась, и когда я смотрел на неё открытым взглядом, убирала глаза. Потом, как бы невзначай подбиралась ко мне и клала свою голову мне на плечо и тихо так почти незаметно нюхала меня с наслаждением.
Через два таких же чудесных дня, наполненных вкусной едой, долгими разговорами и таки непримиримыми ласками, мы поцеловались, причём именно она была зачинателем продолжительного щемящего все незатронутые эрогенные зоны поцелуя. Я не могу сказать сейчас, что я полюбил её безоговорочно и навсегда, но тогда она была для меня верхом совершенства, добытого в такой борьбе, что и врагу не пожелаешь.
Так Берлин был взят второй раз.
В один из таких безмятежных ещё не приевшихся дней мы преспокойно ужинали, вкушали пищу, как явился он, вернулся из Амстердама Георг с подвязанной к груди левой рукой в гипсе. Он появился на кухне, так тихо и незаметно, что я поначалу даже испугался. Как может пугаться только молодой любовник, найденный в бельевом шкафу. Но муж Ирен был весел, весь светился самим собой и источал свежий запах парфюма. Сразу стал доставать подарки, одновременно знакомился со мной, похлопывая меня по плечу оставшейся конечностью. Потом долго скороговоркой вещал по-немецки, перемежая речь жеванием бутерброда с колбасой.
Ирен, не стесняясь ни меня, ни его тут же меряла обновки (всё-таки она была заядлой тряпичницей), бегала полуголая то к зеркалу в прихожей, то обратно к нам, поворачиваясь разными боками. А Георг всё повторял: «Gut, gut!» Мне достался колокольчик с красочно-львиным гербом Нидерландов на рукояти. Потом он сел ужинать, и когда узнал, что вся эта вкуснятина приготовлена мной, встал и нарочито уважительно пожал мне пятерню.
Оказывается, руку ему сломал русский моряк, от которого он хотел защитить другого русского моряка, потому что тот его бил прямо ногами на улице. «Rave kann man einfach Leute in den Sinn schlagen?» (Разве можно бить людей у всех на виду?) Сам он выглядел худым и тщедушным, с немного осунувшимся лицом. Все коммивояжёры похожи друг на друга: костюмчик, улыбочка, разыгранное по фальшивым ноткам участие.
После ужина он стал показывать фотографии, (кстати, цветные), мест, где он был. Среди них было много снимков какого-то тоже худого парня в разных позах и белых трусах в виде облегающих плавок. Я спросил у Ирен: «Кто это?» «Этио его Chłopakiem, boyfriend, виозлюбиленний» «Кто-о-о?» — Переспросил я.
На это у меня уже сил просто бы не хватило. Я решил ехать домой. Я вдруг понял, что начинаю заболевать этой их западной странностью любить то, что любить не имеет смысла. Я был не преклонен, хоть мне и оставалось ещё две недели берлинских каникул. Мои силы кончились. Они, правда, кончились. Даже Ирен с её одурманивающей аурой меня не могла задержать. Хотя мне было жаль, бесконечно жаль это блистательное телом и бесконечно забытое любовью существо, нет, наверное, теперь уже девушку и я сломал себя ещё на два дня, тем более что Ирен была в панике, а Георг, глядя на неё собрался со мной поговорить. Но поговорить он со мной не мог напрямую, потому что переводчиком была только Ирен. Тьфу ты запутался в их разногласиях!
Если я буду описывать ещё две недели, рассказ удлинится ещё на десять страниц, а страниц в этой жизни уже и так достаточно. Не хватало мне ещё описывать предпочтения Георга и его слабые или сильные стороны в семейной жизни. Лучше я так и напишу, когда мы с Ирен занимались любовью, испепеляющей жесткой, не похожей ни на что в своём самом скверном исполнении, он уходил за продуктами и этого будет достаточно, чтобы дополнить картину последних двух дней.
Потом они вместе провожали меня на вокзале, где я наконец-то обнаружил согласно тёткиному плану нужные улицы.
«Ти никогда ни верниёшься. Ия зинаю, ни верниёшься. Ия приеду к тиебе, обиязательно приеду», — но она не приехала, вообще никогда. Я даже не могу себе представить, как сложилась её судьба в данных современностью обстоятельствах.
А сейчас она просто стояла и смотрела, как я сажусь в автобус, обнимая Георга. Он же подарил мне открытку с надписью на русском: «Возвращайся, мы тебя любим!» Я потом выкинул её вместе с колокольчиком из Амстедама, в урну на автобусном вокзале в Щецине. Настолько мне ничего не хотелось иметь от него.
С тех пор я больше никогда не видел Ирен.
Обратно я возвращался через Польшу и пан Тадеуш подарил мне свой поношенный кожаный плащ иностранного кроя, с вычурным до неприличия натуральным воротником, поглаживая, который ладонью можно было получить меховой экстаз. Однако, под прекрасно выделанной кожей, скрывалась подкладка на рыбьем меху, что отражало саму сущность подкравшегося капитализма: прекрасный снаружи – никакой внутри.
Когда я первый раз надел этот ношенный до приятных потёртостей, западный редингот, то сразу ощутил всю промозглость европейского климата, но, выглядывая из шикарного аристократического воротника, уже распознавал мир несколько по-другому. Мне ничего абсолютно не нужно было от него, от этого простоватого мира. Он мне вообще казался пресным, монотонным до тошноты и бездарным как наш старлей-замполит, когда читал нам полусонным солдатам лекции в промороженном классе о международной обстановке.
Ирен меня убила. Все мои чувства, желание женщины, первое свидание с его романтическими мечтами, ни осталось ничего – выезженная земля. Дома я не носил это произведение западного пошива. Этот реликт до сих пор пылится у меня в шкафу.
К своей радости я не воспринял своё путешествие как светское приключение. Я был серьёзен и понимал, что со мной произошло. Сказалось советское воспитание и другие человеческие качества. Мне стоило больших усилий замолчать в себе это желание быть откровенным на все сто. Свести на нет желание быть наизнанку, чтобы все знали, что бы все видели!
В университете, куда поступил этой же осенью, мне пришлось общаться с огромным количеством девушек. Они стоили мне глазки, даже приглашали на свидание. Они были прекрасны, восхитительны в своей русской красоте, но у меня была Ирен, и они меня не вдохновляли, а любое мужское рукопожатие вызывало у меня стойкое отвращение.
Вернувшись, домой, я с удивлением заметил, что фотоаппарат мой пуст. Я не сделал ни одного снимка. Так и приехал домой с чистой плёнкой. Мне и в голову не пришло вдруг ни с того ни сего начать фотографироваться, да и некогда было. Маленький Ломо провалялся не открытый в моей сумке до конца визита.
Город ещё грязен и неряшлив после зимы. Снег едва сошел, соединив на асфальте мусорные слои каждого прошедшего дня. Небольшой сквер перед дверью (полукруглая надпись сверху — «Продукты») на перепрелых листьях подсохшие колбаски какашек, и мятые пивные жестянки обсыпанные порыжевшими чинариками. Галки разворошили чёрный пакет с отходами, который кто-то не донёс до зевающего невдалеке бака, и скачут по земле, задирая друг друга. Целлулоиды из-под чипсов жёлтыми метками среди голых берёз. Непроходимая лужа перед магазинными ступеньками зияет синей дырой неба, её лакает животное из свалявшейся шерсти, напоминающее собаку. Где-то наверху надрывно выговаривает букву «р-р-р» ворона. Доживающие свои последние дни останки сугробов чёрно-белыми макетами гор, стоят в тени отсыревшего фасада и в прохладном углу двора, куда не дотягивается солнце.
В этом доме с магазином внизу ждёт меня Катя. «Boże jej uchowaj dzisiaj spotkać się ze mną!» (Боже её упаси сегодня встретиться со мной!)
29.11.2018.
Лора
В сущности, она была ещё ребёнком. Потом выяснилось, что звучит это на испанском как самбо – зажигательная помесь негритянки и мулата. Я нашёл её, мучимый жаждой, на железнодорожном вокзале в Саратове. Девушка весьма откровенно обсасывала эскимо у автомата с газировкой. Два яйценосных кренделя уже пристроились неподалёку и жадно наблюдали за её цветным ротиком. Лора — так звали мою новую знакомую — простодушно слизывала молочные капли со своих немного фиолетовых губ, и чтобы случайно не испачкать сладким короткий до предела, оранжево – желтый сарафан, держала руку с размякшей обёрткой подальше от себя. Я просто вывел её за тёмный локоток, ни слова не говоря, на улицу, чтобы все подумали, будто я с ней знаком. Она послушно шла со мной и только через какое-то время спросила, можно ли ей где-то помыть руки.
Голос у неё оказался воркующий, с экзотическим еле уловимым акцентом. Таким тембром сводят мужчин с ума и одной лишь уроненной, якобы незаметно, фразой выпрашивают дорогие подарки. «Смотри, какая смешная сумочка…», — и нужно не задерживаясь пройти мимо. Спутник округляет глаза, глядя на три увесистых нуля после достойной двухзначной цифры, но покорно поддаётся гормональному гипнозу и лезет в кошелёк.
Сейчас, дожидаясь Лору у кафешного туалета, и сам ещё не понимал, зачем я тут стою, разглядывая собственный запылённый ботинок, потёртую джинсовую брючину и себя, будто со стороны: ужасно глупо! Командировочный — до отхода моего поезда три часа и двадцать минут, почти незнакомый город и денег в кармане на бутылку дешёвого пива.
Уже в ближайшем к вокзалу сквере, куда мы также молча добрались, на скамье, под тенью высоких лип: познакомились.
Оказалось, вчера у неё состоялся день рождения, где было страшно весело, и в купе они резали торт, теперь она отстала от поезда, увлёкшись разноцветными булавками в перронной лавке, и что за ней уже должны ехать на серебристой машине. Лора взахлёб рассказывала, такие важные произошедшие с ней события, словно я
был как минимум её родным братом. При этом она заправляла изящными длинными пальцами рассыпчатые тёмные с искорками волосы за шоколадное ушко.
Она замолчала, и я увидел, что глаза её полны слёз:
— Я никому не сказала, что вышла из вагона…
Стало понятно, почему она так прозрачно одета, и вызывающее поедание мороженого, и странная доверчивость. Я взял её за руку, чтобы успокоить. И мы несколько минут сидели молча: разглядывали стайку шустрых воробьев, которых кормил хлебными кусочками сбежавший с бабушкиного поводка непоседливый мальчик. Он так яростно швырял корм, отрывая его от сдобной булки в другой руке, что птичкам приходилось шарахаться с писком и трепетанием крылышек, прежде чем гурьбой наброситься на очередную порцию угощения.
Лора улыбнулась. Я встал и потянул её за руку. Нужно было идти обратно на вокзал сообщать дежурному это пренеприятнейшее известие, так как она, захлебнувшись обидой на саму себя, в досадной детской панике совершенно не подумала об этой возможности.
Неожиданно, пока я ловил стеснительными зрачками солнечных зайцев, плодившихся в запертых наглухо уличных витринах, и делал вид, что занят взрослыми мыслями, Лора задала мне вопрос. Не скажу, что тот застал меня врасплох, но удивил. Она как-то тихо, почти вкрадчиво спросила, не читал ли я Розенкранца? Ещё бы, кто же не читал старину Розенкранца! При моей-то, со студенчества привитой любви к философии! И после слишком бурного с улыбкой: «Да!» — последовал ещё более тихий вопрос: «Вы тоже считаете, что закономерная гармония, которой управляется вселенная, выявляется в человеческом познании?»
Признаться, я был озадачен. И пока поток журчащих мимо машин двигался вдоль нашего тротуара, унося мои и без того несобранные мысли, из далёкого ученического космоса явился спасительный ответ. «Понимаешь, процессы, возникающие во вселенной…, — старался я подделаться под её научный тон,- имеют двоякое к нашему пониманию отношение: внешнее в пространстве и времени и внутреннюю закономерность течения…»
Лора резко остановилась, пристально заглянула мне в суженые от яркого зрачки, за которыми в суматохе металось сбитое с толку сознание, взяла меня за совершенно взмокшую, как лягушка, ладонь, крепко её стиснула и больше не отпускала. Так мы прошли ещё несколько наглухо зашторенных от света сонных домов. Беседа наша напоминала для неподготовленных ушей воровской разговор. Когда мы коснулись словами «действующей личности» с её нравственными понятиями и идеалами, вокзал засиял перед нами всем своим стеклянным однообразием.
Мы снова остановились, застигнутые врасплох одним и тем же приятным открытием.
— Ты спас меня!?
— Да, я машинально…Я просто!…
— Нет, ты спас меня!
— Я тоже видела этих двоих дураков!
Она по-девичьи несмело придвинулась ко мне и, не рассчитав порыва, стукнулась лбом о мой подбородок. Тут же, не растерявшись, хихикнула и решительно продолжила разговор, но я заметил, как её смуглые щеки несколько изменили цвет.
Отвечал ей: что был такой товарищ учёный Гильдестерн – философ в пятом поколении, так вот по его мнению: «Познанная закономерность становится властелином собственного я, а до тех пор законы деятельности представляются нам как нечто чуждое».
Собственно, эта фраза и застала нас перед столом дежурного по вокзалу, лысеющего толстяка в синей униформе с изляпанными манжетами и истекающей крупными каплями пота физиономией. Он нас безучастно выслушал, словно мы ему принесли счёт за только что состоявшийся неудовлетворительно лёгкий ужин в одно лицо. И почему-то меня попросил показать билет на мой поезд, что я безотлагательно сделал.
Безразлично вежливая фигуристая дама в обтягивающем синем проводила нас в пустующую комнату матери и ребёнка, существующую при вокзале скорее для галочки. Пока мы шли по крашеным бетонным пролётам, Лора показывала мне взглядом, озорно выпучивая глаза, как впереди непомерно виляющие бёдра вели нас, и прикрывала ладошкой смешливый ротик.
«Теперь ты мой мам, а я твой киндер», — плюхнулась она на единственный хромой диван, сопроводивший приземление облачком пыли. Я раздёрнул тяжёлые занавеси на сплошном стеклянном окне, и мы продолжили говорить.
«Значит, ты считаешь, что все закономерности познания одинаковы для всех?», — подтвердил я наши достижения в беседе.
«Не только одинаковы, но и естественным образом ведут каждого индивидуума к пониманию одних и тех же вещей…», — отвечала она совершенно серьёзно. Было так странно видеть перед собой худенькую смуглую, не по местности, девочку, свободно рассуждающую об устройстве вселенной с человеком, которого она знала от силы часа полтора. Но выкрашенные розовым стены, две зарешеченные детские кроватки, чета полузасаленных кресел с трёхногим столиком между ними и пыльный, пронизывающий комнату насквозь, солнечный свет, в котором, как в луче проектора, бродил я, создавали реальность, в которой нельзя было сомневаться.
«Я бы вообще сказала, — добавила Лора, — что мы, развиваясь, проходим всегда один и тот же путь. Так было до нашей эры, так есть и сейчас. И тем, кто в начале или середине пути, очень трудно понять тех, кто в его конце, хотя скорей всего конца у него нет. Есть только иллюзия многообразия мира, потому что его населяют люди, находящиеся на разных этапах своего развития. Им просто кажется, что все они такие разные, а на самом деле одинаковые, как капли воды, и летят в одну сторону. Природа иногда выдаёт свой обман, производя на свет близнецов, нивелируя случайность якобы разными характерами, но вы же понимаете, что в глобальном смысле, как сейчас говорят, это дешёвая отмазка. Да и никто не заглядывает в эти глубины. Всех устраивает существующее положение вещей. Кто же откажется быть личностью? Да ещё неприкосновенной, да ещё со своими взглядами и суждениями на всё. Вот отсюда и жуткая неразбериха нашей жизни».
Дверь в комнату открылась, и снова вошла фигуристая дама в синем. В руках у неё был поднос с чаем и бутербродами. В комнате сразу запахло сыром, колбасой – захотелось есть. Дама сообщила, что вопрос решён: отец Лоры должен приехать к вечеру, а пока он просил её немедленно перезвонить.
Много лет спустя, когда я оброс знакомствами и заматерел в литературных кругах, в своём кабинете на невероятном этаже, где размещался офис нашего издательства, я принимал одного автора. Он был высок, худощав и непреклонен. Как он кричал, что все люди разные, что на вкус и цвет-товарища нет, что его сюжет, названный в моей рецензии «мелким», есть самая глубина сегодняшнего времени. И какое я право имею судить его текст, по каким-то только мне одному известным законам, ведь его роман может найти своего читателя. Я успокоил его. Было в его глазах, прикрытых современными очками, какое-то стремление узнать: да почему же так-то всё! Мы выкурили по сигаретке. И я рассказал ему про Лору. Он ушёл и забрал с собой рукопись. Не уверен, понял ли он что-либо, но иногда познание всего одной истины делает тебя богатым и обеспеченным навсегда.
Лора как-то нехотя сползла с диванчика и отправилась за дамой в синем. Я же, пережёвывая бутерброд и запивая его тёплым и сладким, призадумался: «Невероятная встреча…, удивительное знакомство. Интересно, кто её отец? У такого совершенства должен быть очень необычный отец, просто какой-то должен быть суперский отец! Этапы развития!? Интересно, а где нахожусь? Ну, во-первых, если я понимаю и принимаю то, о чём говорит Лора, – это уже не мало. Во-вторых, её интерес ко мне не случаен… и тут я вспомнил про случайности».
Я вспомнил, что когда-то понял одну очень простую, но достаточно странную вещь, на которую меня случайно сподвигнула моя сослуживица. Она, оказывается, каждый день звонила моему начальнику и сообщала, на сколько минут я опоздал на работу или ушёл раньше. Когда я пришёл разбираться в бухгалтерию, почему мне недоплатили – это и выяснилось. С тех пор я стал сортировать людей на плохих и хороших, тёмных и светлых. Причём, плохо понимал, по каким же признакам я определял цвет человека. Достаточно ли я сам был тогда светел и был ли вообще положительным героем? Что-то внутри меня само это делало. Так я познал добро и зло, хотя до этого был абсолютно инертен. Порхал, как сонный мотылёк. Всё это теперь удивительным образом совпадало со словами Лоры. Но тогда, не ведая более ничего, я просто делил окружающих на два лагеря. Общался со светлыми, а тёмных игнорировал. Такое незатейливое деление привело к тому, что постепенно я остался один. «Это крах!», — думал я тогда. Тёмные были везде. Особенно их было много в начальствующих эшелонах, да все они там были черны. Мне приходилось менять работу за работой, потому что я везде натыкался на обман, несправедливость и просто хамское к себе отношение. За эти жалкие гроши, что мне платили, из меня пытались выжать даже мою совесть, которая героически не хотела сдаваться. Создавалось впечатление, что все деньги мира сосредоточились в руках у тёмных. Устроившись в очередной раз на новое место работы, как-то в курилке я познакомился с мужчиной средних лет, таким же отчаявшимся как я. Мы рассказали друг другу всё, причём он начал первый. Просто начал рассказывать, даже не глядя на меня, что напоминало сигнал SOS, выдаваемый в эфир, в надежде, что его кто-нибудь услышит. И я услышал. Теперь нас было двое.
Здесь я задержался. У меня появился друг. Ещё через некоторое время мы нашли и третьего. Он выдал себя так: будучи журналистом, прошёл на заседание местной думы и сказал по громкой связи всё, что о них думает. Это показали в новостях, и бедолаге пришлось заплатить штраф. Мы его поняли, нашли и вывели из запоя. Помню, как он шутил: «в паспорте или характеристике нужно писать тёмный ты или светлый. Представь такую фразу: в нашем коллективе одни светлые, правда есть темный, но он специалист хороший и мы его по большей части стараемся нейтрализовать». «Хорошо бы так, только сейчас всё наоборот», — отвечали мы ему, и кажется, ещё грустно смеялись.
До этого мы не знали друг друга и никогда не встречались, но наше видение мира совпало. Мы даже говорили про это одинаковыми словами и выражениями. Здесь Лора тоже оказалась права. Тогда мы трое находились на одной и той же ступеньке…»
Дверь неслышно открылась. В комнату вернулась Лора. Я даже слегка вздрогнул, обернувшись. Её слишком живой ум начинал вызывать у меня не только уважение и восторг. Вдруг я почувствовал, что передо мной стоит и смотрит на меня высшее существо. Изучает меня изнутри, перебирает по очереди все мои извилины. Я даже допустил мыслишку, что она вообще не с нашей планеты. Может, это и есть контакт! Боже, какие глупости лезут в голову!
— Тебя папочка попросил побыть со мной, пока он не приедет, — проворковала весело Лора, — Ты же меня одну не бросишь?
— Не брошу…, — ответил я эхом и будто сам себя услышал: такой тихий сомневающийся голос. Мой ли он?
— Мне нужно выйти…в туалет, — я посмотрел на часы до отхода моего поезда, который должен был унести меня в мою скучную и размеренную жизнь, оставалось двадцать минут. У меня не было и тени сомнения в том, что я останусь. Даже не знаю, зачем я вышел, наверное, попрощаться с самим собой наедине.
Билет в кассах у меня назад не приняли. Я ещё постоял в нерешительности, держа в руке эту уже не нужную бумажку – пропуск в бывшее «моё». Зачем-то аккуратно сложил её в четыре раза и опустил в чёрный домик урны. Вокруг, на мой поезд торопились люди с чемоданами на колёсиках и без, с авоськами сумками и пакетами. Ребёнок невнятного пола перепутал меня с родителем, взял за руку и повёл к выходу на перрон. Тут же отыскалась мама и отобрала меня у него. Глаза её говорили: уж извините, такая спешка!
Затем, я спустился в камеру хранения и освободил из заточения свой саквояж, набитый местными книгами, сувенирами и безделушками: «Что-нибудь Лоре подарю». В пальцах странно покалывало, голова чуть кружилась от неизвестности и тайного предвкушения. «Наверное, это и есть тот долгожданный миг!», — думалось мне.
Хотел ещё купить пирожных в буфете, но оказалось, что для меня это сейчас не по карману, и кажется, забыл деньги в монетнице на прилавке вокзального буфета.
Вот я уже перед дверью, за которой ждёт меня Лора. Вот я её открываю. Она, неуверенная, стоит и смотрит в окно, туда, на людный перрон, где, по её пугливому мнению, должен был безразлично уезжать я. Глупая! Объявили отправление моего поезда, два коротких гудка с железным лязгом сдвинули с места мой состав. И тут я закрыл глаза, потому что сердце, моё давно замерзшее сердце, растопилось и потекло.
Она совсем не умела целоваться, но сделала это настойчиво, даже по-деловому. Мне оставалось только обнять её, с грохотом уронив саквояж на свою ногу.
Потом мы болтали, обнявшись на хромом диванчике, и так держали друг друга, словно боялись, что неожиданно испаримся. Я пообещал Лоре, что познакомлю её с такими же, как мы. Она удивилась и обрадовалась с каким-то еле заметным сомнением. Спросила только, разбираются ли они в теософии Вицбурга и помогут ли перевести работы Ушуху Ано. Конечно, отвечал я, мои друзья ещё и не такое могут! Затем мы спорили о концепции преобразования образов в полотнах художника Северного, прошлись по культуре Японии, не сошлись во мнениях по поводу седьмого абзаца в романе Тойё «Оригами» и даже напевали песенки Зои Ященко.
Устали.
— Скажи, — спросил я после недолгого молчания, ибо разговором с ней невозможно было насытиться так сразу,- но ведь нельзя всё время жить в такой враждебной среде, где тебя предают, кидают, потрошат, как рождественскую индейку во имя невнятных целей. Может, взять да всё всем объяснить.
— Хотела бы я послушать, как ты это будешь делать, — устало улыбнулась Лора и ещё ближе прижалась ко мне, словно только это теперь имело значение.
— Значит, шансов улучшить ситуацию нет?
— Мне папа ещё про это не рассказывал, но сама я думаю, что есть. Всегда нужно стремиться быть добрым.
— А кто твой отец?
— О-о, — прошептала Лора, засыпая на моём плече,- он такой справедливый, как ….
Что мне ещё было желать? В этой наполненной пустоте, в этом цивилизованном кошмаре. Я готов был сидеть вместе с ней вечность, потому что вечность была освещена. Всё же остальное мне казалось теперь неким тёмным ничто, где я ранее ходил с фонариком, высвечивая только черноту впереди себя.
Наверное, стоит вот так долго ждать и жить, и терпеть свою попираемую жизнь, чтобы однажды узнать, почувствовать, что вот значит как – «последние станут первыми». И даже не это главное, теперь я полностью свободен от окружавшей меня черноты и ничем ей не обязан, совершенно ничем. И мои друзья, и я, и Лора чётко знаем, что это настоящая свобода, я уверен в этом. Нас теперь четверо, а это уже целый новый мир, если не считать того, кто сейчас должен приехать за своей заблудившейся дочкой.
Я представлял, как он заберёт нас отсюда. Мы обязательно заедем за моими друзьями, и большая серебристая машина довезёт нас до самых дверей того места, где пространство раздвинется и мы просто шагнём в другое, и волны времени сомкнутся за нами навсегда. А там…там, всё будет не так как здесь…счастливые солнечные дни!
Ещё через какое-то время в коридоре, раздались громкие волнительные возгласы, послышались близкие шаги, дёрнулась ручка двери.
Я осторожно подвинул сонную головку Лоры со своего плеча на диванную подушку и поспешил подняться навстречу вошедшему.
2010 г.