Добавлено в закладки: 0
Пидан — одна из самых высоких горных вершин в Приморье. И самая посещаемая туристами-альпинистами-авантюристами. По правде сказать, народу на этой горе столько, особенно по выходным, что она вполне даст фору любой самой оживленной улице и любому торговому моллу в центре мегаполиса. Считается, что это магическое место: в древности, в эпоху империи Чжурчженей на Пидане якобы находились какие-то жертвенники или молельни, или что-то в этом роде. Утверждают, что не всех желающих Пидан пускает к себе: далеко не все могут дойти до вершины. Но если человек доходит, то что-то происходит с ним, с его взглядом на жизнь, в общем, человек меняется. По правде говоря, я не очень-то во всё это верю. Точнее сказать, не верила.
Это был коллективный выезд нашей школы. Я работаю в школе, преподаю английский. И классное руководство (о, боги, зачем я в это ввязалась!) у меня тоже есть. Мои дети уже с пятого класса мечтали о походе на Пидан, но только в восьмом мы, наконец, решили, что пора, что теперь мы точно справимся. За все серьёзные школьные походы у нас вообще-то отвечает географ, Анатолий Владимирович, а в народе просто Толик. Человек он весьма своеобразный, впрочем, как, наверное, все учителя-мужчины. Худощавый, с копной соломенных волос и выпуклыми глазами цвета крыжовника, всегда элегантно одетый, он носится по школе, лёгкий, неуловимый и в то же время вездесущий, громко здоровается со всеми коллегами, непременно сопровождая свое приветствие какой-нибудь трагической репликой, вроде: «Кошмар! Нет, вы слышали это?! Седьмой «А» снова сорвал урок литературы! Алла Дмитриевна плачет в кабинете директора. Это же с ума сойти! Что будет дальше?!» Нередко после этой умопомрачительной сводки последних новостей слышится его нервный смех, и он уносится дальше по коридору своей стремительной танцующей походкой. Дети говорят, что иногда он засыпает на уроке (и мы-то знаем почему — любит зависать в ночных клубах), а когда просыпается, злится, хватает классный журнал и колотит им о стол ( а я-то думала, почему мне так часто приходится менять на журнале обложку, почему она так быстро рвется?) Но все равно в школе его любят: дамы-учителя — потому что он здесь единственный мужчина (даже физкультуру у нас преподают женщины), а ученики — потому что он добрый и забавный.
В ту осень Толик собрал рекордное количество желающих покорять таинственную горную вершину: ехали дети почти со всех классов, были и родители, ну и учителя, конечно. Мы выезжали в пятницу вечером на электричке, ночевали на базе отдыха, в деревне, километрах в десяти от Пидана, а в субботу рано утром нас должны были забрать и отвезти к подножью на грузовиках. Однако в субботу рано утром обнаружилось, что никаких грузовиков не будет, потому что Толик, договариваясь с фирмой, перепутал месяц и вместо 25 сентября назвал 25 октября… В итоге, нам предстояло добираться до подножья горы пешком, практически по бездорожью. Никто особо не расстроился по этому поводу. Было чудесное, прохладное и солнечное сентябрьское утро. Прозрачный, напоённый ароматами трав воздух, казалось, с каждым вдохом придавал бодрости и сил; громко щебетали птицы, над последними полевыми цветами порхали бабочки… Мы пошли вперёд весело, особенно те, кто был здесь впервые, с любопытством разглядывали окрестный пейзаж, перебрасывались шутками, иногда даже хором затягивали какую-нибудь походную песню. Елена Ивановна, учитель биологии и заядлая походница, — поджарая, всегда загорелая, и по степени заполошенности не уступающая Толику, выкрикивала своим сорванным за долгие годы работы в школе голосом какие-то слоганы и лозунги, что очень всех забавляло. Однако я посоветовала своим ребятам хорошенько прислушаться к одному из ее советов, который она повторила несколько раз за время пути: нас много, и наша главная задача – не разрывать цепь, если кто-то ушел вперед, он должен остановиться и ждать остальных, отстающие же должны кричать и просить идущих впереди затормозить. Это главное правило похода: мы должны все время держаться вместе. Мне кажется, это и главное правило жизни тоже. Все время держаться вместе. Как только ты начинаешь считать, что ты и сам по себе достаточно сильный и умелый, и другие тебе не нужны, ибо только мешают продвигаться дальше, — ты очень скоро получаешь хороший такой щелчок по носу от Всевышнего, в лучшем случае в виде какой-нибудь мелкой досадной неудачи, а в худшем — в виде Иов-ситуации, только в современной интерпретации. Только недавно я наконец поняла, почему гордыня – самый тяжкий из всех грехов. Потому что именно из гордыни берут начало абсолютно все остальные пороки. «Это звучит слишком патетично, — скажет кто-то. — Ты всего лишь собралась подняться на какую-то несчастную гору, на которую поднимаются все, кому не лень. Причём тут грехи и всё прочее?» Да, действительно. Совершенно ни причём. Так, почему-то пришло в голову.
Часа через полтора мы дошли, наконец, до подножья Пидана и ступили на тропу восхождения. Подниматься предстояло около четырех часов. Но мы были полны сил и энтузиазма, и настроение у всех было отличное: не иначе, оказывали свое действие эндорфины – на завтрак я собственноручно наварила на всех крепкое и густое какао, ухнув целую пачку порошка на большущую кастрюлю деревенского молока.
Сначала мы довольно долго шагали по совсем еще ровной местности, постепенно углубляясь в лес. Шли быстро, и цепь наша, если и разрывалась порой, то быстро восстанавливалась. Когда тропа побежала вдоль русла горной речки, начались первые трудности. Речка сама по себе была просто сказочно прекрасна. Поток кристально чистой воды с шумом несся вперед по узкому каменистому руслу. Издали вода казалась светло-голубой, какой-то бирюзовой даже, а когда мы подошли ближе, она оказалась такой прозрачной, что виден был каждый камушек на дне. Но нам не довелось долго любоваться этой красотой: вскоре тропу стали пересекать небольшие заводи, которые надо было преодолевать, перепрыгивая по круглым, скользким обомшелым камням. Удержаться на этих камнях было очень трудно, и несколько человек, в том числе и я, почти сразу промочили кроссовки. Дальше – больше: после каждой коварной заводи обязательно шел какой-то почти отвесный обрыв, по которому приходилось карабкаться, цепляясь за торчащие из каменистой почвы корни деревьев. На одном из таких обрывов кто-то из младших детей сорвался и повредил ногу. Во мне начинало подниматься и потихоньку расти негодование. Нас было слишком много, и двигались мы слишком быстро для такой трудной и, как я теперь видела, небезопасной дороги. Всё время приходилось почти бежать, потому что, как сказал Толик, времени у нас было в обрез, «ровно на подъем и спуск в темпе вальса». Не было ни секунды на то, чтоб сообразить, куда поставить ногу и за что надёжнее ухватиться. Никаких привалов, ни минуты на то, чтоб хотя бы сделать глоток воды. После длинной череды заводей и обрывов снова пошла узкая лесная тропа, уже неуклонно ведущая вверх, и буквально через каждые двадцать-тридцать метров перегороженная стволами упавших деревьев. Через какие-то стволы приходилось перелазать, а под какие-то подныривать, и для этого каждый раз надо было снимать со спины рюкзак, ибо с рюкзаком протиснуться в лаз под стволом было невозможно. Эта полоса препятствий казалась какой-то бесконечной. Многие начали уставать. Младшие дети, как это ни странно, держались стойко, а старшеклассники, особенно из класса Толика, стали просить привала. Толик пообещал, что скоро мы дойдем до поляны и там передохнем.
Поляна действительно возникла перед нами словно ниоткуда, после очередного крутого подъема, и все с облегчением поснимали с плеч тяжелые рюкзаки, и расселись – кто на поваленных стволах деревьев, кто — прямо на земле, покрытой сухой травой, и с наслаждением вытянули уставшие ноги… Через пару минут в наших рядах поднялось какое-то смятение и шум… Оказалось, что одна из старшеклассниц, Настя Кривицкая, совершенно стёрла ноги в своих кедах. А общее смятение возникло потому, что, во-первых, Настя была наша школьная звезда, — очень красивая девочка, почти отличница, активистка, она к тому же прекрасно пела, и недавно на одном из школьных концертов просто покорила всех исполнением «Кукушки» Виктора Цоя. А во-вторых, потому, что сейчас, в середине этого тяжелого пути никто не мог ей ничем помочь. Ни у Толика, ни у Елены Ивановны не оказалось аптечки с элементарной зеленкой, бинтом или пластырем! Настя сидела, прислонившись к стволу высокого дерева, рыдала и повторяла, что она не пойдет дальше, потому что сил у неё нет терпеть эту боль. Елена Ивановна, сверкая ярко-голубыми, совсем девчоночьими глазами, командным, пионерско-вожатским тоном уверяла ее, что идти надо, что надо себя преодолеть, что всякое случается в походе, и что оставаться здесь нельзя никак, потому что обратно мы пойдём другой тропой. Все эти лозунги и уговоры были бы совершенно не нужны, будь у кого-нибудь в рюкзаке простой пластырь! У меня он был. Я не без труда встала со своего места и подошла к Насте. Она подняла на меня заплаканные и злые глаза, посмотрела с недоверием, — я никогда не вела уроков в их классе, и была для нее чужаком.
— Покажи, что там у тебя, – попросила я как можно мягче и спокойнее.
Она сняла яркий носок с разделенными пальчиками, – мизинец был стёрт до крови. На другой ноге – то же самое.
— Это всё из-за твоих модных носков! Они ни черта не защищают! – прокричала Елена Ивановна.
Запасные носки у меня тоже с собой были.
— Попробуем тебе помочь, — я достала из рюкзака пачку влажных салфеток и пластыри. — Протри сначала ранки…. Теперь заклеивай, аккуратно. Жаль, что пластырей так мало… Держи носки, они правда, тонковаты…
— Нормальные, — Настя подняла на меня глаза и слегка улыбнулась. Потом выдавила с трудом:
— Спасибо.
Толик подскочил к нам, как ни в чем не бывало.
— Ну, что Кривицкая, спасли тебя? Идти дальше сможешь? — засмеялся нервным смехом и заорал: — Всё! Привал окончен!
И мы снова двинулись вперёд. Вперёд и вверх. После этой поляны тропа шла вверх уже под довольно большим углом уклона, и подъем становился всё круче и круче. Я чувствовала, с каким усилием работает сердце, его биение отдавалось в горле. Дышать становилось все труднее из-за разреженного воздуха.
— Смена климатической зоны! — громко объявил Толик. – Чувствуете?
Да, мы все почувствовали, что воздух стал гораздо холоднее. Если у подножья был сентябрь, здесь все уже дышало октябрем. Изо рта шёл пар. Но несмотря на прохладу, все мы взмокли от пота. У мальчишек с потемневших чёлок свисали тяжелые мутные капли. Я то и дело ощущала, как холодные тонкие струйки сбегают под футболкой… Вверх, вверх, вверх. Всё время вверх, без остановки, ибо впереди тебя и следом за тобой карабкаются другие, и ты не имеешь права разорвать эту цепь, как бы тяжело тебе ни было. Несколько раз мне казалось, что еще немного – и сердце не выдержит, лопнет, и я просто упаду здесь замертво, на этой проклятой, уходящей к небу тропе, усыпанной скользкими хвойными иглами. Но не упала. И сердце выдержало.
Мы добрались, наконец, до главного привала перед подъёмом на вершину. Уже здесь довольно большая часть нашего отряда сдалась, решив остаться на этой уютной, окруженной со всех сторон высокими кедрами поляне и дожидаться тех, кто пойдет дальше, покорять вершину. Я налила себе горячий сладкий чай из термоса и пила маленькими глотками, раздумывая, как быть: тоже остаться, или все-таки двигаться вперед. Почти все дети из моего класса были настроены идти до самой вершины. Шли Елена Ивановна и Кира, учитель физкультуры. Шла Лида, моя молодая коллега-англичанка. Мы с нею разделили на двоих пачку картофельных чипсов, которые здесь, на высоте более полутора тысяч метров казались какими-то особенно вкусными. Сидеть на удобных, широких стволах, вытянув гудевшие от долгой ходьбы ноги, было безумно приятно, и хотелось, чтоб этот привал еще длился и длился. Но увы, у нас мало времени.
Кто-то легонько тронул меня за плечо. Я обернулась: мама десятиклассника, Димы Саженина, симпатичная и приветливая, спортивная молодая женщина, совершавшая восхождение вместе с нами, застенчиво смотрела на меня:
— Простите, — она наклонилась к самому моему уху. – У вас случайно нет с собой …
Ей даже не нужно было произносить самого слова: интонацию, с которой одна женщина спрашивает у другой, есть ли у неё этот предмет, мы угадываем безошибочно с подросткового возраста.
У меня «это» было, и не случайно: я знаю, что при непривычных физических нагрузках и стрессе наш женский организм вполне способен сыграть с нами злую шутку, поэтому и положила в рюкзак спасательные средства. Облегчение в её взгляде и вздохе было непередаваемо, и она быстро скрылась за густым кустарником для устранения ЧП.
Подкрепившись и немного передохнув, я почувствовала, что, в общем-то, в состоянии одолеть еще один отрезок пути…Мы поднялись, вскинули рюкзаки на спину и снова пошли по тропе, неуклонно стремившейся вверх. Теперь мне было почему-то совсем легко. Тропа стала менее крутой, и кроме того, на ней часто попадались большие камни, по которым можно было взбираться, как по ступенькам. Навстречу нам спускались туристы, уже возвращавшиеся с вершины, некоторые из них приветствовали нас и шутили, и от этого стало как-то совсем весело и легко.
Вскоре мы вышли на широкое каменистое плато, поросшее низкими, корявыми хвойными и лиственными деревьями. Скудные островки почвы были покрытой бархатистым серебристо-серым мхом. Здесь уже и без консультаций географа все опознали пояс классической лесотундры. Воздух стал еще холоднее. Многие вытащили из рюкзаков и надели припасенные шерстяные шапочки. Мы двигались по этой пустынной и загадочной, почти инопланетной местности несколько минут, и тут на пути стали попадаться огромные светло-серые плоские камни, наваленные друг на друга… Передвигаться по ним было интересно, но ужасно неудобно. Они как-то предательски качались, когда мы взбирались на них, и кроме того, между этими мегалитами (а позже я прочитала, что это именно мегалиты) были довольно широкие и очень глубокие трещины, куда было запросто провалиться, сделав один неверный шаг. В какой-то момент я решила, что чувствую себя надежнее не на двух ногах, а на четвереньках. Я ползла, как краб, по этим каменным громадинам, словно в беспорядке набросанным каким-то пьяным великаном миллионы лет назад, и жалела, что у меня нет с собой перчаток: ладони были уже в ссадинах.
Прокарабкавшись так ещё с четверть часа, мы добрались до Первой вершины, на которой стоит древний жертвенник. Внутри его, на каменной полочке, видны были монетки, конфетки, печенюшки и прочие жалкие жертвоприношения современных покорителей горных вершин, которые пытались задобрить какое-то местное божество. С этого места уже открывался прекрасный вид, но это мы знали только теоретически, поскольку на окрестности опустился густой туман, окутав все мягким белым одеялом и начисто лишив нас возможности увидеть красоту, ради которой мы сюда ползли с самого раннего утра, преодолевая тяготы и лишения. Я уселась на высокий плоский камень со «спинкой», напоминавший трон. Несколько ребят примостились рядом.
Кира, наша физрук, объявила для всех несведущих:
— Теперь мы будем где-то с час идти по хребту, по этим камням. А там — и Вторая, главная вершина.
Мы смотрели на уходившие вдаль, становившиеся все более громадными и всё более беспорядочно наваленными друг на друга мегалиты, и желание двигаться дальше таяло с каждой минутой. Я думала, что только у меня. Оказалось, нет. Еще несколько ребят, из моего и из других классов, уверенно сказали, что дальше они не пойдут. Что ж, у меня был повод тоже остановиться на этом этапе: потому что кто-то из взрослых должен был пойти обратно на поляну с этой группкой детей. Мы посидели еще несколько минут на этой холодной, туманной Первой вершине, пофотографировались и потихоньку поползли вниз. Я не чувствовала никакого разочарования от того, что не дошла до конца. Пусть я слабачка. Ну и что. Мне было хорошо и спокойно. Ещё больше успокаивало то, что со мной дети, которые приняли такое же решение, и мы с ними теперь как бы в одной команде. Не дошла — значит, сегодня, сейчас это не для меня. Не достигла вершины, значит, в этом походе у меня какие-то другие задачи. Ведь и в жизни так. Мы ставим себе какие-то цели, планируем, но далеко не всегда всё идет так, как мы задумали, даже если мы прилагаем достаточно усилий. Мы расстраиваемся, злимся на себя и окружающих, впадаем в отчаяние. Но мы забываем, что у Вселенной свои планы, они мудрее и лучше наших, и на каждом этапе жизненного пути мы должны принимать то, что получаем, с благодарностью, будь то подарок, урок, наказание. Потому что всё происходит не просто так, всё не случайно, а каждое маленькое событие – это логическое продолжение осуществления Высшего плана.
Мы очень легко и быстро спустились назад, к большой поляне, где отдыхали оставшиеся там ребята. Все они сидели на стволах поваленных деревьев, зябко кутаясь в куртки и кофты. Костра не было. Географ, который в этот раз не пошел на вершину, — он был там уже раз двадцать, — бродил по лесу неподалеку от поляны, что-то выискивая. Вскоре он вернулся, возбужденный и расстроенный, тараща свои крыжовенные глаза.
— Чёрт! Здесь столько грибов! Белые, подберезовики… всякие…пропасть! Эх, жалко, пакета нет!
У меня был с собой пакет. Не знаю, зачем, но я почти всегда ношу с собой супермаркетовский пакет с ручками. Как пенсионерка. Я вытащила его из рюкзака и протянула Толику. Он радостно охнул и рассыпался в благодарностях, запихнул пакет в карман куртки и снова скрылся за деревьями. Грибов, видимо, было действительно очень много, потому что вскоре он возвратился с почти полным пакетом, довольный, как кот, что добрался до сметаны.
— А здесь холодно, однако! – Он потер ладони друг о друга. — Эй! Вы что все сидите, скукожились, а костра не разведете? Мальчишки! Ну-ка, соберите веток, …зажигалки у всех есть! Давайте, живее!
Никто даже не пошевелился. Толик махнул рукой и пошел собирать топливо для костра. Он возвращался через каждые пару минут с охапками сухих веток и сбрасывал их на середину поляны, туда, где видны были следы от прошлых кострищ. Старшеклассники, его собственные подопечные продолжали сидеть, плотно придвинувшись друг к другу, обхватив себя руками, и исподлобья наблюдая за его действиями.
— Зажигалку дайте кто-нибудь! Ну что, можно подумать, никто не курит! Не смешите меня!
Наконец ему удалось выпросить зажигалку у одного из пацанов. Маленький язычок пламени лизнул ветку и сразу угас. Ещё и ещё попытка. Потихоньку затеплился крошечный огонек, снова растаял, но теперь от новорожденного костра, грозившего так и не сделать первый вдох, потянулась тонкая струйка дыма. Толик встал на четвереньки, упершись в землю сжатыми в кулаки руками и, жмурясь от дыма, стал раздувать костёр. Как только огонь разгорелся и, потрескивая, стал распространять мягкое, пахнущее смолой тепло, несколько старшеклассников мгновенно поднялись со своих мест и чуть ли не наперегонки ринулись к костру. Уселись вокруг, и по-прежнему храня угрюмое молчание, протянули к огню руки. Наблюдая всю эту сцену, я невольно вспомнила юных персонажей Уильяма Голдинга. Даже померещилась оскаленная свиная голова на палке, и холодок пробежал по спине. Я не пошла к костру, — да к нему было уже и не протолкнуться, — а закуталась в прихваченный с собой тонкий, но очень теплый плед из шотландки, один конец накинув на плечи сидевшей рядом пятиклассницы.
Через пару часов наши герои, достигшие вершины Пидана, начали потихоньку, по двое-трое, возвращаться на поляну. Почему-то они совсем не выглядели, как люди, достигшие своей цели. В их лицах не было радости, восторга, или гордости. Никакого выражения вообще. Правильнее всего даже будет сказать (уж простите меня за избитую фразу), что на них лица не было. Все очень бледные, с посеревшими и пересохшими губами, волосы и одежда у всех – мокрые, – то ли от пота, то ли от осевшего холодного тумана, который сопровождал их до самой вершины. Выйдя на поляну, они сразу устремлялись к костру, погреться. Сидевшие вокруг огня пацаны нехотя уступали им место… Оказывается, и с главной вершины не удалось увидеть никакой красоты, потому что туман и не думал рассеиваться. Такой уж был день. Короче говоря, я нисколько не пожалела, что не присоединилась к этой армии «победителей», хотя искренне восхищалась их силой воли, выдержкой и смелостью.
Через час, когда все были в сборе, а солнце уже начало клониться к закату, мы пустились в обратный путь. Перед началом подъёма все знатоки альпинизма в один голос утверждали, что спускаться будет гораздо тяжелее, чем идти вверх. Я верила им на слово. Но к счастью, это оказалось не так. Нам нужно было преодолеть дорогу назад как можно быстрее, успеть до темноты, поэтому если вверх мы шли просто быстро, с двумя короткими привалами, то вниз в прямом смысле слова бежали, и без остановок вообще. И всё равно этот путь показался мне намного легче! Здесь не было уже неизвестности, все трудности были предсказуемы и испытаны, и оттого, несмотря на усталость, преодолевались гораздо проще. Я не ощущала никакой напророченной знатоками боли в ногах, уже не пугалась падений на крутых спусках, не обращала внимания на ссадины на ладонях; всё, что я испытывала – это огромное чувство облегчения и желание поскорее оказаться на ровной местности. На протяжении всего спуска было очень много других туристических групп, так же как и мы рассыпавшихся, разъединенных, но все они двигались в одну сторону, по одной тропе, помогая друг другу в самых сложных местах, и поэтому я как-то не заметила, а если и заметила, то не придала значения тому факту, что ни Толика, ни Елены Ивановны, ни Киры, — то есть никого из знакомых с маршрутом, — с нами нет. Моя коллега Лида тоже куда-то испарилась. Получается, из взрослых оставались только я и мама Димы Саженина, которая на протяжении всего спуска держалась рядом со мной. Мы обе были на Пидане впервые, и дороги, разумеется, не знали. А просто бежали и бежали по этой единой тропе, вместе с другими альпинистами……
Поляна у подножья горы вся была запружена огромными грузовиками, ожидавшими туристов, чтоб отвезти их к начальному пункту путешествия: кого – на железнодорожную станцию, кого – в деревню, кого – на одну из многочисленных баз отдыха. Но все они были заказаны заранее, ни один из них не ждал нас. Нам надо было преодолеть еще несколько километров пешком до нашей деревни. И все бы ничего, но уже начинало неумолимо быстро смеркаться. Я осмотрелась: детей с нами было человек двадцать пять – тридцать. Где были все остальные из почти сотни, неизвестно. Ушли далеко вперёд вместе с Кирой, или наоборот отстали. Толик и Елена Ивановна, как мы поняли, снова углубились в леса собирать грибы. Нам предстояло идти до деревни таким вот отрядом, полностью состоящим из людей, не знающих дороги. Солнце оранжевым тяжелым шаром закатилось за горизонт. Мы быстро пошли вперед. Дорога эта и утром, когда мы были еще полны сил, не казалась слишком лёгкой, теперь же она как будто нарочно издевалась над нами. Какие-то глубокие колеи, какие-то овражки, наполненные водой, какие-то развилки, на которых мы выбирали направление либо по памяти, либо интуитивно… Скоро мимо нас начали проезжать грузовики с туристами, тыжело рыча, обрызгивая нас грязью. Становилось все темнее и темнее. Те, у кого еще не села батарея на телефоне, пытались освещать им путь. На одном из участков мы все вдруг по щиколотку провалились в какую-то речушку. Никто не помнил, чтобы она встречалась нам утром. Дети очень устали, и то и дело спрашивали меня, долго ли нам еще идти. Что я могла ответить? Я понятия не имела, сколько еще идти, и идем ли мы туда, куда нужно.
— Алена Андреевна! – Лиза из моего класса, чуть не плача, прихромала ко мне, держа в руке совершенно порванный кроссовок. – Как мне идти теперь? Я не дойду так…в одном кроссовке.
В моем небольшом, но, как я теперь понимала, волшебном рюкзаке была и пара запасных кед. Моего размера, разумеется. Но у Лизы оказался точно такой же размер ноги. И дальше она пошла в этих дождавшихся своего звёздного часа стареньких кедах. Через полчаса я всерьёз начала задумываться над тем, что делать, если придется заночевать в лесу. Вспоминать школьные уроки ОБЖ, на которых я, увы, никогда ничего не слушала… Как вообще нужно себя вести? Что предпринимать? Думала ли я, что когда-нибудь в жизни буду плутать поздним вечером по незнакомым лесам и полям, да еще и с двумя десятками подопечных?…. Наконец мы вышли из чащи на открытое место. Через этот просторный луг мы точно шли утром, и кажется, он был недалеко от деревни. Здесь было гораздо светлее, чем в лесу, и все очень приободрились. Стали шутить и смеяться над своими страхами. Но луг закончился, и мы снова вошли под сень деревьев и снова стали углубляться в лес, в кромешную тьму. Мы шли и шли, почти на ощупь, а дорога никак не кончалась. Вдруг мы идем совсем не туда? Я мысленно повторяла себе, что если всё закончится благополучно, если мы сегодня придем на место целые и невредимые, то завтра, в городе, я пойду в церковь и поставлю свечку! И да, я все время мысленно разговаривала с Богом, и чувствовала, что он рядом. Подбадривала детей. Мама Димы, которая постоянно шагала бок о бок со мной, хоть и молчала почти все время, очень поддерживала меня одним своим присутствием. Сам Дима, высокий красивый светловолосый парень, тоже безмолвно идущий то чуть впереди, то чуть позади нас, был для меня словно каким-то маяком в этой тьме и неизвестности. На одной из больших развилок мы наугад выбрали тропу, что уходила вправо и, шагая по ней, вдруг совсем перестали узнавать дорогу. Запаниковали. И здесь Дима единственный раз заговорил. Негромким, мягким голосом он сказал: «Мы идем правильно, эта тропа просто параллельна той, по которой мы шли утром». Его чисто мужская, невозмутимая, спокойная уверенность как-то сразу успокоила и всех нас. Мы поверили ему на слово, да так и оказалось на самом деле. Когда огоньки деревни слабо замигали сквозь густую ещё листву деревьев, лес огласился громкими воплями детей: наверное, так же орали матросы на кораблях Колумба, когда увидели, наконец, долгожданную землю.
На меня сразу же навалилась безмерная усталость, которую я не подпускала к себе усилием воли все время нашего путешествия по ночному лесу. Мне хотелось плакать, — от утомления, от боли в сбитых кроссовками пальцах, от голода и жажды, и в то же время от невероятной радости, что мы всё-таки дошли! Мы вошли на базу. Во всех домиках горел свет, из трубы баньки поднимался белый, пахнущий хвоей дым, отовсюду слышались разговоры и смех. Все уже давно были здесь, и даже успели поужинать. Оказывается, придя на поляну у подножья позже нас, и педагоги-грибники, и дети, которые шли сзади, как-то упросили взять их в машины, и прекрасно, с ветерком доехали до деревни. Да, они видели нас, когда проезжали мимо. Но в грузовиках уже просто не было мест.
— Послушайте, а вам не кажется, что это нечестно, несправедливо, подло! Мы ведь один отряд, одна команда, мы должны были от начала до конца быть вместе! — возмутилась Лиза из моего класса.
Она всегда радела за справедливость, и теперь просто вне себя была от негодования.
— Почему это подло? – возразил один из приехавших с комфортом мальчишек, пожимая плечами. – Если бы у тебя была возможность сесть в машину, ты сделала бы точно так же!
Мы умылись и сели ужинать в беседке-столовой. Салат оливье, горячий рыбный суп… запахи еды просто сводили с ума, но даже поднимать ложку и жевать было тяжело, настолько мы вымотались. Кроме того, мы всё еще не могли успокоиться после пережитого, и вновь и вновь обсуждали всё, что нам пришлось вынести сегодня. Только Дима и его мама молчали. Он внимательно и спокойно слушал наши разговоры, и на его лице ни один мускул не дрогнул. А его мама, казалось, была погружена в себя. Она почти не притронулась к еде, только пила маленькими глотками чай из походной кружки. Вдруг она внезапно сильно побледнела, и, повернувшись к сыну, сказала ему что-то очень тихо. Он тут же вскочил со своего места, подал ей руку, и когда она поднялась со скамьи, легко и бережно, словно ребенка, взял её на руки и понес к домику…
Вот так закончилось это небольшое путешествие на одну из самых высоких горных вершин Приморья. Говорят, Пидан не всех пускает к себе. Верно, не зря говорят. Говорят, после восхождения на Пидан что-то непременно меняется в человеке. Тоже верно. После этой горы, пусть непокоренной с первого раза, я стала гораздо увереннее в себе и поняла, что я намного сильнее, чем думала. Во всех отношениях. Пусть это не так много. Но я ведь еще вернусь, вернусь непременно. Может быть, уже с другими детьми. А может быть, просто с семьей или с друзьями. И покорять эту горную вершину я буду по-другому, по-своему: с толком, с чувством, с расстановкой. И в рюкзаке моем снова найдется всё самое нужное для всех, кому понадобится помощь. Потому что, может быть, именно в этом моя главная миссия, а не в покорении гор.
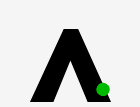

Здорово, Ольга, когда что-то происходящее помогает по-иному взглянуть на жизнь.
И именно не люди, а события. Они вернее учат и без лжи и зависти. Тут мы с Вами совпали. С теплом.
🙏❤️
Читала и ловила себя на мысли, что с Вами в поход я бы пошла…
А ещё — я тоже замечала, что домой возвращаться всегда быстрее и приятнее)))
Спасибо Вам за интересное и увлекательное повествование…
Новых удач и вдохновений!
С теплом и уважением,
И я с Вами пошла бы, это точно 😊 Светлана, благодарю за чтение и отклик ❤️
Спасибо большое…Как жаль, что в поход сходить не удастся…(((
С теплом и уважением,
Замечательный рассказ. Так ярко написан, что как будто сама сходила в поход на покорение таинственной вершины.
Хочется туда вернуться и дойти всё же до самой главной вершины) с хорошей надёжной компанией это вполне возможно 😊 Спасибо, Надежда 🥰❤️
Преодоление себя самое сложное…. интересно читать))) спасибо, понравилось.
Жизнь — череда преодолений, иначе нельзя!) Спасибо, Огненная❤️