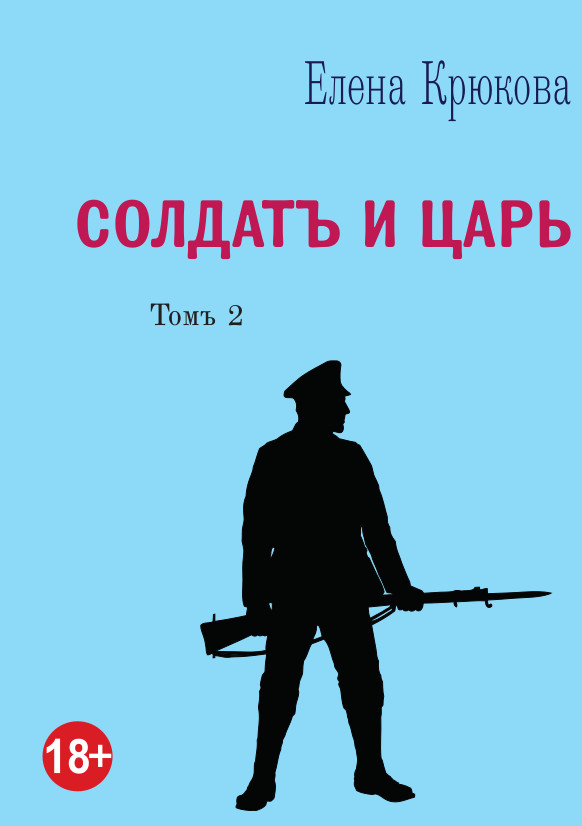Добавлено в закладки: 0
##
Каждый день нужно было поднимать, какъ гирю. Такъ онъ былъ тяжелъ, иногда невыносимо.
Они не роптали. Они всѣ, и родители и дѣти, часто крестились и поднимали глаза кверху, будто видѣли тамъ, на тускломъ, пыльномъ, съ осыпавшейся лѣпниной, потолкѣ Того, Кто все это имъ въ испытаніе придумалъ: арестъ, ссылку, домашнюю тюрьму.
Охрана вѣдь тоже разная у нихъ была. Кто-то жестоко потѣшался надъ ними; а кто-то приносилъ въ тряпицѣ нѣчто, разворачивалъ тряпицу, и духомъ свѣжаго хлѣба било въ голодныя ноздри, и смущенный стрѣлокъ протягивалъ имъ на ладони хлѣбъ — ноздреватый, нѣжный.
Кто плевалъ имъ вослѣдъ. Кто — самъ украдкой крестилъ себѣ грудь, грязную гимнастерку, и шепталъ: Господи, помоги имъ. Кто готовъ былъ ударить прикладомъ и уже рѣзко, ненавидяще вздергивалъ винтовку. А кто, видя, какъ хищная рука тащитъ съ нищей тарелки положенную имъ пайку — котлету, кусокъ вывареннаго мяса, — билъ по этой самой рукѣ и огрызался: ну ты, не смѣй!
Здѣсь, въ Домѣ, охранѣ все можно было смѣть.
А имъ, узникамъ, пока еще разрѣшали жить и дышать.
И все же они ловили на себѣ разные взгляды: и звѣрей, и птицъ, и равнодушныхъ насѣкомыхъ, и живыхъ людей.
И не всегда живые люди благоволили имъ. Далеко не всегда.
Эти новые люди были живые, да, и они были — люди, но у нихъ была уже другая вѣра, и другими глазами они глядѣли на рѣзко, безповоротно измѣнившійся міръ.
Съ этими новыми людьми можно было бы иной разъ и говорить, и надѣяться на то, что они тебя поймутъ; но страшно было открыть ротъ и воззвать къ человѣческому въ нихъ, потому что всѣ остальные, другіе всѣ вокругъ рычали и выли, хохотали и свистѣли, лязгали зубами и лаяли, и научиться этому новому звѣрьему языку они, говорившіе по-русски, по-англійски и по-французски и еще на другихъ иноземныхъ нарѣчьяхъ, уже не могли: не хотѣли.
Царь, его жена и дочери и сынъ стояли страннымъ и смѣшнымъ, крошечнымъ войскомъ противъ охраны. Чѣмъ обиднѣе и гуще швыряли имъ въ лица гнусныя слова, тѣмъ спокойнѣе становились ихъ глаза и губы. Глаза не видѣли, а губы не отвѣчали. Понятно, у нихъ были уши, и глаза, и сердца; но ушамъ они приказывали не слышать, губы научились складывать въ тихія улыбки, а сердца продолжали все такъ же биться, не сбиваясь съ ритма, не учащая рѣзкій стукъ о ребра.
Не замѣчай ничего, Маша, шептала Маріи мать. Мама, я стараюсь, и у меня получается, шептала въ отвѣтъ Марія. Стой прямо, Алеша, не опускай глазъ! Такъ говорилъ сыну царь. И сынъ послушно выпрямлялъ позвоночникъ и по-солдатски сдвигалъ каблуки: хорошо, папа! Не буду!
Многое надо было научиться дѣлать, а еще больше — не дѣлать. Нельзя было дразнить звѣрей. Нельзя было знать больше, чѣмъ надо.
Надо было рано вставать. Ихъ было этимъ не удивить. Они всегда вставали рано. Значитъ, этотъ обычай сохранялся. Но страннымъ было то, что ихъ будили чужіе люди. Солдаты. Они входили къ нимъ въ спальни, въ ихъ жалкія комнаты, безъ стука, безъ предупрежденія. Безъ вѣчнаго «Можно?», къ которому они привыкли въ своихъ дворцахъ. Дѣвочекъ расталкивали грубо, трясли за плечо: эй вы, лежебоки! Давайте, спускайте ножонки съ матраца! Кончай ночевать! Кое-кто хамски хохоталъ: а вотъ если бы меня — да къ тебѣ подъ бочокъ, красотуля?! Марія зажмуривалась, и правда смѣло спускала съ кровати голыя ноги и вставала передъ охраной — въ длинной ночной сорочкѣ, съ растрепанными густыми волосами, а взглядъ не заспанный, взглядъ жесткій и четкій, плотнѣе сургучной почтовой печати, пронзительнѣй алмазнаго сверка. Пробѣгала въ сорочкѣ къ окну. Оно все такъ же замазано бѣлой метельной краской. Солдаты тыкали другъ друга пальцами въ бока: а фигурка! Въ дверяхъ показывалась дѣвица Демидова, лицо разсерженное, на-спѣхъ завязывала поясъ капота. Завтракъ скоро? Да, скоро, лѣнтяи! Уже сейчасъ!
Старуха лежала съ открытыми глазами. Какъ и не спала. Они всѣ на самомъ дѣлѣ просыпались рано, каждый поодиночкѣ, проснутся и молчатъ, не хотятъ никого будить, дѣлаютъ видъ, что спятъ. И цесаревичъ дѣлаетъ видъ, что спитъ. И Татьяна. И Ольга. Ждутъ. Когда вломится охрана и заоретъ: что нѣжитесь, господа проклятые!
Одѣться надо очень быстро. Папа говоритъ, такъ одѣваются солдаты въ арміи. О-дѣ-ва-лись. Теперь арміи нѣтъ. Царская армія умерла. Теперь есть только вотъ эти, а у этихъ видъ бандитовъ. Это не солдаты. Хотя имъ кажется, что они солдаты. Но это уже все равно. Ничего не измѣнить.
Всунуть ножки въ чулки. Затянуть подвязки. Плотно застегнуть лифы, на всѣ крючки. Плотно сшитые, драгоцѣнные холщовые лифы. Иногда въ нихъ очень жарко. Да почти всегда. Но ихъ нельзя снимать. Никогда нельзя. И даже въ банѣ? Въ банѣ — можно. Мать будетъ сидѣть, какъ безсонная старая сова, съ тяжелыми лифами въ рукахъ, пока голыя дрожащія дочери будутъ купаться, обливаться изъ старыхъ шаекъ чуть теплой и, кажется, нечистой водой, а чьи-то звѣрьи глаза, красные и горящіе, и лукавые, и молодые, и похотливые, будутъ глядѣть на нихъ, голыхъ, изъ подслѣповатыхъ, дикихъ банныхъ окошекъ. И кошка будетъ расхаживать около бани; пушистая, сѣрая огромная сибирская кошка, полосатая, какъ тигрица, убійца мышей, кровопійца, царица всѣхъ кошекъ, мышей и крысъ, старая царица всея Сибири, и Урала, и Коми, и Мери, и Зырянъ, и Удмуртовъ, и Якутовъ, и Чуди Бѣлоглазой.
А цесаревичу надо помочь одѣться; самъ онъ не можетъ. Мать помогаетъ. Она всовываетъ ему ноги въ штаны, руки въ рукава рубахи, застегиваетъ всѣ мелкія, словно блохи, пуговицы и крохотные, какъ комары, крючки, сама причесываетъ его, а онъ возмущенно кричитъ: ну мама, ну не надо! Ну причешусь-то самъ! И тогда она вкладываетъ ему въ руку гребень, и глядитъ, какъ онъ причесываетъ себѣ русые, какъ у нея въ дѣтствѣ, густые волосы, и отворачивается, и плачетъ. А онъ замѣчаетъ ея слезы, и забѣгаетъ впереди нея, становится прямо передъ ея животомъ, передъ ея мокрымъ лицомъ, и трясетъ ее за руки, и кричитъ: мама, ну что ты плачешь?! Что?!
Ничего, отвѣчаетъ мать, мнѣ просто… попала въ глазъ сориночка…
И покрываетъ лицо своего мальчика мокрыми, солеными поцѣлуями, и такъ шепчетъ ему, прерывисто и горько: нѣтъ у меня дороже никого, чѣмъ ты, мое чудо, мое великое счастье.
А себя обиходить? Да наплевать на себя. О нѣтъ! Такъ не надо. Дѣти должны видѣть васъ обоихъ, отца и мать, на завтракѣ — при полномъ парадѣ. Завтракъ — это тотъ же плацъ. Это — парадъ. Пусть даже это эшафотъ; тебя разстрѣливаютъ, а ты въ нарядномъ чистомъ платьѣ, и ты улыбаешься.
Такъ они воспитаны. Такъ они воспитываютъ дѣтей.
И вотъ выплываютъ. Столъ накрытъ бѣдно и неряшливо. Дѣвица Демидова помогаетъ поварихамъ, она старается расцвѣтить и подсластить нищету. Это завтракъ? Это насмѣшка надъ завтракомъ. Да это, по сути, просто чай, пустой чай, и часто даже безъ сахара. Имъ говорятъ злобно: сахара нѣтъ! Сахарина — тоже! Даже свеклы сушеной нѣтъ, побаловать васъ, господъ, ха-а-а-а-а! Громко смѣются, скалятся. Не у всѣхъ у нихъ зубы здоровые. У кого и гнилые. Царица брезгливо ежится. А потомъ спохватывается. Вѣдь они же всѣ больные. А она — сестра милосердія. Она такъ много работала съ больными. Знаетъ ихъ вдоль и поперекъ. Знаетъ, какъ утѣшить, какое лѣкарство въ мензурку накапать. Знаетъ, какой кетгутъ хирургу подать; какую иглу протянуть, толстую или тонкую, чтобы шовъ вышелъ плотный, навѣчный.
Ничего вѣчнаго нѣтъ? Это мы еще посмотримъ.
Чай дымится въ стаканахъ. Стаканы торчатъ въ подстаканникахъ. Подстаканники старые, видимо такъ, купеческіе; тяжелое литье, и разные узоры — то лилія въ лицо глядитъ, то незабудка, то полная Луна. Царица обвиваетъ подстаканникъ сухими вѣтвями старыхъ пальцевъ. Всѣ стаканы стоятъ на серебряномъ подносѣ, кучно, близко другъ къ другу. Стаканы — тоже семья. И подносъ — ихъ домъ. И скатерть… какая скатерть? Тутъ грязная клеенка. Демидова не всегда успѣваетъ ее вытереть мокрой тряпкой.
А скатерть была бы снѣжнымъ полемъ. Или метельнымъ уваломъ. Камчатная.
Или та, что подарили Аликсъ однажды на день рожденья, прислали изъ замка Кобургъ. Съ нарочнымъ. Кремовое нѣжное полотно, и вышито серебряной нитью. Огромные серебряные цвѣты и птицы. Зимнія птицы, ледяные цвѣты. Это все въ честь Россіи.
Россія, громадная ледяная плаха. Полѣнница дровъ, ты встаешь на нее, а она плыветъ, разсыпается подъ ногами. Или нѣтъ, это льдина у тебя подъ ступнями, и она таетъ и крошится, обламываются края. И кренится, и скользишь и падаешь ты — въ безумную сѣрую, свинцовую рѣку, черную на перекатахъ, яркую отъ страшнаго солнца на мели. Россія, ты птица! Ты поешь въ опушенныхъ инеемъ кладбищенскихъ вѣтвяхъ. И изъ стакана въ желѣзномъ подстаканникѣ твой сынъ пьетъ на могилѣ твою жгучую водку, а твоя дочь накладываетъ на себя крестъ, и въ щепоти у нея зажаты кристаллы соли и кровавыя ягоды звѣздъ.
На другомъ подносѣ лежатъ грубо нарѣзанные куски ржаного хлѣба. Ихъ нарочно рѣжутъ такъ толсто, коряво. Почти рвутъ. Рваный черный хлѣбъ. А какъ пахнетъ! Всѣ раздули ноздри. А хлѣбъ-то вчерашній. Подсохшій уже. Это неважно. Онъ очень вкусный. Слишкомъ вкусный. Вкуснѣе бланманже и мяса по-французски.
И надо его очень быстро съѣсть, потому что слишкомъ жадно и нагло красные солдаты смотрятъ, какъ ты жуешь. Нѣтъ, они не выхватятъ у тебя кусокъ! А можетъ, выхватятъ. Никто не знаетъ.
А чай, такой горячій, остываетъ слишкомъ быстро. И надо торопиться. Обжигать ротъ. Обжигать глотку. Давиться, ѣсть, прихлебывать. Человѣкъ обладаетъ ртомъ, носомъ и глазами, чтобы ощутить свою пищу, и руками, чтобы затолкать ее въ себя.
Ронять крошки на юбки. Стряхивать крошки съ брюкъ. Собирать ихъ въ ладонь и глотать. Они птицы. Всего лишь птицы, и ихъ кормятъ добрые люди.
Они говорятъ добрымъ людямъ, ихъ покормившихъ завтракомъ, спасибо. Спасибо, товарищи красноармейцы! На здоровье, ха, ха, переваривайте, да не сразу, до нужника грузъ донесите. Мама, не обращай вниманія, они такъ шутятъ. Они думаютъ, что шутятъ. А если намъ пошутить? Ольга, осторожнѣе. Маша, помни, ты идешь по лезвію бритвы! Каждое твое слово можетъ быть обращено противъ тебя.
О чемъ они балакаютъ? По-ненашему. Эй, отставить говорить по-ненашему! Кому говорятъ! Слыхали?!
И уходятъ изъ столовой. Уходятъ медленно, другъ за дружкой. Цугомъ. Какъ грустныя лошади, привыкшія ходить такой вотъ упряжкой: глядя въ затылокъ другъ другу. Затылки послушные, печальные. Нѣтъ! Не у всѣхъ. У Машки затылокъ задорный. У Ольги затылокъ гордый. У Алексѣя затылокъ твердый, тверже пушечнаго ядра.
Далѣе тянущееся сѣрыми сѣдыми нитями, шерстяное, покойное, безконечное время. Оно длится и тоскуетъ. Оно все время здѣсь, никуда не уходитъ. Хотя хочется порой, чтобы — навѣкъ ушло. И не возвращалось. Книги, чтеніе — зачѣмъ? Мѣрный, будто чужой, а на самомъ дѣлѣ слишкомъ родной голосъ читаетъ изъ большой, въ три обхвата книги. Книга лежитъ на столѣ, и пальцы съ трудомъ листаютъ тяжелыя страницы. Страницы чугунныя, а буквы оттиснуты огнемъ. Въ книгѣ написано про нихъ про всѣхъ. И голосъ вычитываетъ какъ разъ то, во что можно глянуть, какъ въ туманное тоскливое зеркало.
Отъ завтрака до обѣда — цѣлый міръ. Цѣлый свѣтъ и цѣлый вѣкъ. Скучно. Но что такое скука? Это тоска. Тоска, правда, сильнѣе и мучительнѣй скуки. Съ ней можно бороться, иначе она поборетъ тебя. А со скукой даже бороться нельзя. Она проникаетъ въ кровь, въ кости. Она становится тобой. Мама, когда обѣдать? Когда они позовутъ.
Да нѣтъ же, нѣтъ, Аликсъ. Когда обѣдъ принесутъ изъ столовой Совѣта рабочихъ депутатовъ.
Боже, папа, ты выучилъ это названіе!
У меня память хорошая, Машка.
Что сегодня на обѣдъ? А, не все ли равно. Все равно? Нѣтъ, мнѣ не все равно! А что бы вы пожелали, ваше высочество? Не смѣй смѣяться. Я пожелала бы все!
…ты такъ голодна, бѣдняжка.
Въ супѣ сегодня плаваетъ мясо. Оно плаваетъ кролемъ и брассомъ. А на второе — котлеты. На нихъ надѣты изъ сухарей жакеты. Настя, брось шалить! Когда я ѣмъ, я глухъ и нѣмъ. Какъ покойникъ? Ѣшь сейчасъ же!
У нихъ тутъ не было накрахмаленныхъ салфетокъ, не было свѣжихъ, цвѣта снѣга, скатертей. Не было сервизовъ, гдѣ розсыпи расписанныхъ лучшими художниками тарелокъ и супницъ, гдѣ нѣжно блеститъ столовое старое серебро, а къ чаю подаются чашечки и блюдца отъ Гарднера или изъ Мейсена. Сегодня даже клеенки нѣтъ, обѣдаютъ на голомъ столѣ. Грубыя широкія доски столешницы похожи на доски огромнаго гроба. Неужели мнѣ столъ сей гробъ будетъ? Ну вотъ, теперь Машка! Машка, цыцъ. Алешка, у меня нога не желѣзная! Не наступай на нее больше, прошу тебя!
Какія у нихъ тарелки. Сегодня еще хуже, чѣмъ вчера. Онѣ всѣ разномастныя, и всѣ — битыя. А есть повѣрье: нельзя ѣсть изъ битой посуды. Плохая примѣта. Вилки со сломанными зубьями. Ложки сегодня не мельхіоровыя, а деревянныя. Какъ въ деревнѣ. И ихъ только пять. Господа, ой простите, товарищи, у насъ только пять ложекъ! А перебьетесь. Облизывайте и другъ дружкѣ передавайте!
Всѣ вмѣстѣ, разомъ, садились за столъ. Начинали молитву вслухъ, но при первыхъ же словахъ «Отче нашъ» бойцы начинали люто гоготать. И каждый, склоняясь надъ пустой миской и наблюдая краемъ глаза половникъ, торчащій въ супницѣ, самъ себѣ подъ носъ шепталъ вѣчныя, великія слова, безъ нихъ же и любое яство на вредъ пойдетъ — и желудку, и сердцу.
Ѣли въ молчаніи. Уткнувшись каждый въ свою тарелку. А солдаты гудѣли. Они-то говорили громко, безъ стѣсненія. Обсуждали ихъ видъ, какъ стати лошадей. А гляди-ка ты, у этой, самой старшей, волосы на темени — въ шишъ собраны! А у той вонъ челочка лошадиная. Вломиться бы къ нимъ въ спаленку, винтовку наставить, испужать — и всю долгую ночку напролетъ… Ну тогда зимы дожидайся, ага!
Марія доѣдала котлету быстро, давясь, вытереть ложку было нечѣмъ; она незамѣтно наклонялась и живо вытирала ложку исподней юбкой, да напрасно хоронилась, всѣ это видѣли. Снова взрывъ хохота. Ишь ты, и не брезгуетъ! Панталонами ложечку третъ! А у ей панталоны духами побрызганы. А кому ложку отдастъ, кому? Папанѣ! Ѣшь, папаня, поправляйся!
Всѣ вмѣстѣ вставали изъ-за стола. Сейчасъ прогулка. Она короткая, но какъ они ее ждутъ! Какъ раньше — ночного гулянья по царскосельскому парку, когда звѣздопадъ. Они выходятъ въ садъ, и жадно смотрятъ, и жадно дышатъ. Часто и глубоко. Докторъ Боткинъ говоритъ: у нихъ у всѣхъ кислородное голоданіе. Они идутъ по саду и видятъ: здѣсь стоитъ солдатъ, и здѣсь стоитъ, и здѣсь. Какая прорва народу, чтобы охранять семь человѣкъ! Весь караулъ выставили, небось. Да нѣтъ, не весь. Всѣхъ ихъ — человѣкъ двѣсти, не меньше. Ну что ты, двѣсти! Сто. Нѣтъ, триста, триста! Я сама считала!
Цѣпи, людскія цѣпи. Тяжелыя черныя цѣпи. Людьми можно обвить садъ, обкрутить домъ. Обмотать цѣлый городъ. Людьми можно оцѣпить всю землю, а правду говорятъ, что это планета, какъ Луна и Марсъ и Венера, и она круглая и большая? Она круглая и маленькая, остальное все правда. Людей на землѣ такъ много, что ими можно обмотать планету много разъ и превратить ее въ кошачій мохнатый клубокъ.
Они такъ хотѣли съ кѣмъ-нибудь изъ этихъ, красныхъ, поговорить. Скажите, милѣйшій, а Екатеринбургъ большой городъ? Молчите? Ну молчите, молчите. Я знаю, вамъ отвѣчать не велѣно. Снова шли тѣсно, кучкой, другъ къ другу жались, и даже въ жару, какъ въ великій холодъ. Скажите, пожалуйста, а можно къ ужину попросить скатерть? Молчите? Молчите…
Да провались ты со своей скатеркой! Жрешь на доскахъ, ну и жри!
Время! Время! Въ домъ!
И они, опустивъ головы и разсматривая землю, палыя вѣтки, ступени крыльца, носки своей обуви, шли въ домъ, и вытирали ноги о мокрую, намоченную Пашкой тряпку, и поднимались по лѣстницѣ. У парадной двери стоялъ конвойный; и у лѣстницы стоялъ; и въ вестибюлѣ стоялъ; и у входа въ уборную стоялъ. Они уже помнили ихъ лица, но иногда путали, кого какъ зовутъ.
Папироска въ зубахъ. Катали папироску языкомъ изъ угла въ уголъ рта. Курили прямо въ коридорѣ, дымили безпощадно. Они кашляли, закрывали носы платочками. Караульные скалились, видя ихъ. Экія павы! Румяной корочкой пирожки покрыты! Нагулялись досыта! На солнышкѣ пропеклись! А нахлебались бы досыта? А прямо сейчасъ? Мамашка, ты не слушай! Ушки глиной залѣпи. Не о тебѣ рѣчь, ты старая ворона! Отъ тебя уже смердитъ. И медвѣдь на тебя не польстится!
Глянь, глянь, у той, слѣва, какой запердень!
Ну, ты тоже скажешь. Тоща! Спина какъ у воблы, хоть съ пивомъ глодай! Однѣ кости! Не, я на такихъ не падокъ. Ищо малявка. А вонъ вишь ту, што щасъ въ комнату входитъ, — вотъ бы ее бы! Хороша. Лакомый кусъ! А ты, папашка, што блѣдный такой? Што сумеречный? Расхватали не берутъ твоихъ дѣвокъ? А смѣшалъ бы иху кровь съ нашей кровью; вотъ бы и народилися красавцы! И — міромъ бы завладѣли!
Не бреши. Къ чему эта дурь. Міровая революція завладѣетъ міромъ. И совсѣмъ скоро. А этихъ — въ подвалъ затолкаемъ. Кирпичами забросаемъ! Будемъ имъ туда на вилахъ куски тянуть!
А честно, ты бы — какую — выбралъ?
Да я ихъ бы всѣхъ бы перебралъ, только бы денекъ покороче да ночку подлиннѣй!
Ну да, ночка-ночка, зачнемъ сыночка…
Они спѣшили поскорѣе скрыться въ комнаты, чтобы не видѣть усатыхъ или голыхъ лицъ, не слышать словъ, отъ которыхъ запросто можно было потерять сознаніе, но они не теряли его, не валились въ обморокъ, не умирали — они жили, и странно и страшно было это, вотъ такъ жить. Имъ въ спины втыкались хриплые смѣшки: давай, давай! Головенку суй подъ подушонку! И тамъ — во тьмѣ и духотѣ — поплачь! Обидѣли мы тебя?! Обидѣли — васъ?! Васъ развѣ обидишь! Вы — на своихъ охотахъ — звѣрье сотнями убивали, ради забавы, а трупы потомъ въ овраги выкидывали, раздѣлать никто не могъ! И гнили, смердѣли вами погубленные олени и лоси! А на вашихъ войнахъ? Народъ, какъ тѣхъ лосей, гуртомъ на погибель гнали! И что?! Поднялся народъ-то! А вы думали — народъ — это безропотное звѣрье! И не поднимется! И стрѣлять его можно, убивать безнаказанно!
Они заходили къ себѣ въ комнаты, хотѣли закрыться, а закрыться было нельзя — со всѣхъ дверей были сорваны запоры и задвижки, съ мясомъ вырваны, вырѣзаны замки. Двери ходили на петляхъ ходуномъ, въ любой моментъ, когда пожелаютъ, могли къ нимъ войти караульные. Играли стрѣлки наганами, пыхали дымомъ имъ въ лица. А когда они отъ дыма и ужаса отворачивались, ихъ за руку хватали, силкомъ къ себѣ поворачивали, и зубы скалили, и языки высовывали, ихъ дразня: ну, вы! Нѣженки! Розочки! Дыма не нюхали? Дерьма не жевали? Только нашу кровушку пивали? Теперь — нашъ табачокъ обоняйте!
И закуривали папиросу новую. И садилась дѣвушка, обезсилѣвъ, закрывъ лицо руками, на корточки, рядомъ съ сапогами солдата. И курилъ онъ, и ссыпалъ пепелъ ей на голову, въ русый проборъ.
Обыскивать? Пожалуйста. Грубить? Сколько угодно. «Мы имъ насолили, насолили», — оправдывая ужасъ, шептали они другъ другу, когда ихъ никто не могъ услышать. Но они не могли и слова поперекъ сказать тюремщикамъ. Они пробовали; ихъ обрывали такъ злобно, что имъ казалось — еще немного, и въ нихъ выпустятъ всѣ пули, что хранятся въ желѣзной слѣпой кишкѣ револьвера.
А они хотѣли жить.
Жить, несмотря ни на что.
Завтракать. Обѣдать. Ужинать. На ужинъ опять тотъ же, похожій на помои, жидкій супъ и тѣ же жесткія, какъ подошвы, котлеты. Послѣ ужина — книги, молитва и спать. А назавтра опять вставать; и видѣть наглыя хари; но вставать — это значитъ жить. Опять жить.
И снова завтракъ, отъ слова «завтра». И снова обѣдъ, отъ слова «обида». И ставятъ на столъ вмѣсто супницы громадную, во вмятинахъ, грязную миску; и снова нѣтъ ножей, и не хватаетъ ложекъ, сегодня онѣ не деревянныя, а желѣзныя, солдатскія. За столъ, вмѣстѣ съ ними, садится прислуга и кухонныя бабы. Одну изъ нихъ зовутъ Прасковья. Она молода и молчалива. Кто-то сказалъ, что она воевала и убила много людей на войнѣ. И вѣрно, взглядъ у нея такой дикій. И мрачный. Хотя глаза цвѣтомъ свѣтлые. Она слишкомъ громко хлебаетъ супъ. Она хочетъ ѣсть всегда. А они, когда слышатъ громкое чавканье, отодвигаютъ тарелки отъ себя. И тогда тотъ, кто стоитъ сзади ихъ стульевъ, кричитъ: ну что! Невкусно?! Ахъ ты сволочь, невкусно ему! Невкусно ей!
А иногда бываетъ и такъ: они еще ѣдятъ, еще ковыряютъ вилкой въ котлетѣ и картошкѣ, а сбоку, ниоткуда, протягивается немытая, съ черными ногтями, рука и запускаетъ ложку въ тарелку. Или вилку. И руку дѣвушки чуть на вилку не насаживаютъ. И ложкой — недоѣденную котлету подцѣпляютъ. И голосъ, странный и гнусавый, будто изъ-подъ земли, изъ могилы: ну, будетъ съ васъ! Обожрались никакъ! И обкусанную котлету — рука утягиваетъ; и голосъ, голосъ пожираетъ, глотаетъ ее.
А послѣ обѣда опять ужинъ, намъ не нуженъ; такъ мама имъ говорила всегда: завтракъ съѣшь самъ, обѣдъ раздѣли пополамъ, а ужинъ отдай врагу, ужинъ намъ не нуженъ. Зачѣмъ на свѣтѣ голодъ? Онъ есть, и они есть. Молитесь, дѣти, чтобы ночь была спокойной и намъ всѣмъ завтра проснуться въ добромъ здравіи.
Чтобы намъ всѣмъ — завтра — проснуться.
Ложиться спать. На полъ. Дѣвушки спятъ на полу. На всѣхъ не хватило кроватей. Тощіе матрацы, плоскія подушки. Наволочки мятыя, какъ лопухи. На сонъ грядущій караульные устраивали перекличку. Гражданинъ Николай Романовъ! Я. Гражданка Александра Романова! Я. Гражданка Ольга Романова! Здѣсь. Гражданка Настасья Романова! Тутъ я. Гражданинъ Алексѣй Романовъ! Такъ точно. Гражданка Татьяна Романова! Да. Гражданка Марія Романова! Молчаніе.
Эй, гражданка Марія Романова!
Тишина. Известковая вьюга на заляпанныхъ дослѣпа окнахъ.
Гражданка Марія Романова сбѣжала!
Да нѣтъ же, вотъ она. Они выталкиваютъ Марію впередъ, чтобы стрѣлки убѣдились въ ея наличіи. Здѣсь она! Тутъ она. Да вотъ же она! Машка, подай голосъ, кричатъ они ей, какъ собакѣ. Она молчитъ. Ей противно говорить. И, когда она разлѣпляетъ губы, она говоритъ тихо и медленно: «Мнѣ жалко васъ».
И тогда имъ навстрѣчу — эти, красные — теперь молчатъ.
Всѣ молчатъ теперь: и они, и бойцы. Кто первый что-то скажетъ?
И, злобно сплюнувъ, говоритъ этотъ, наглый, сивый и бритый, кажется, его зовутъ Сашка: ишь, жалко ей насъ, вишь ли, а намъ жалко тебя, сука, потому что тебя все равно убьютъ, все равно, а мы — будемъ жить. И строить наше будущее! А ты пойдешь червямъ на обѣдъ, пойдешь, пойдешь, тьфу!
И Марія стоитъ передъ Сашкой Люкинымъ такая спокойная, красивая, и только рѣсницы и губы у нея еле видно дрожатъ.
##
Они старались ночью не вставать въ уборную; но слишкомъ мучительно это было, терпѣть, а ночныхъ вазъ у нихъ не было, не разрѣшено было имъ. Ночью страшно было итти по коридору между ночныхъ бойцовъ; ночью они бросали имъ вслѣдъ слова совсѣмъ ужъ раздѣтыя, да просто голыя, неприкрытыя, адскія. И дѣвушки шли одна за другой, опять цугомъ, двѣ, три; медленно, по одной половицѣ ступая, и еле, какъ въ страшномъ снѣ, передвигая чугунныя ноги. Надъ ними глумились, а онѣ повторяли себѣ шопотомъ, онѣмѣлыми губами: Господи, прости имъ. Дверь въ уборную скрипѣла и не хотѣла открываться. Ольга заходила, Марія вставала спиной къ двери и раскидывала руки, заслоняя дверь собою и своей жизнью. Въ эту минуту она готова была и съ жизнью проститься, и ей ничуть не было страшно. Она и злилась, и смѣялась. Напротивъ нея стояли бойцы. Когда двое и трое, когда четверо и больше. Они кричали ей: что скалишься, сучонка?! И она отвѣчала имъ безстрашно: надъ вами смѣюсь, вы смѣшные! И жалкіе!
И однажды тотъ, кто ближе всѣхъ къ ней стоялъ, хотѣлъ ударить ее, уже руку занесъ, но не ударилъ.
Можетъ-быть, это былъ самъ комендантъ. Авдеевъ.
Авдеевъ былъ главный надъ ними. Кто такой Юровскій, они не догадывались, кто такой Голощекинъ, они не знали. Кажется, тотъ, кто ихъ встрѣчалъ на вокзалѣ? Время отъ времени Голощекинъ появлялся въ Домѣ, осматривалъ стѣны, скользилъ взглядомъ по людямъ. Стѣны, ящики, шкафы, ружья, люди — все это было инвентарь и все подлежало учету и контролю. А пища? О да, и пища тоже. Какъ можно не наблюдать и не описывать пищу! Ее ѣдятъ, и ѣдятъ слишкомъ много. Надо экономить. Сегодня вмѣстѣ съ арестованными будутъ обѣдать и слуги, и повара, и красноармейцы, и комиссары. Не слишкомъ ли много людей будетъ за столомъ, товарищъ Авдеевъ? Не слишкомъ, товарищъ Мясоѣдовъ!
Всѣ разсѣлись, вдвигая стулья и табуреты межъ ихъ стульевъ, ихъ тѣлъ. Комендантъ Авдеевъ сѣлъ напротивъ царя, фуражку не снялъ за столомъ, всѣ ѣли, а онъ курилъ, и вынулъ изо рта папиросу и ссыпалъ пепелъ, будто не глядя, въ тарелку Маріи. Пашка внесла на сковородѣ вѣчныя котлеты. Поставила сковороду на чугунную подставку. Подняла крышку. Котлеты показали коричневыя мертвыя рожи. Марія взяла свою ложку, приподняла свою тарелку и ложкой смахнула пепелъ въ тарелку Авдеева. Возникло и всѣхъ опутало длинное, какъ нить изъ клубка, молчаніе. Авдеевъ взялъ свою тарелку и прямо пальцами соскребъ пепелъ Маріи на платье, на колѣни. Марія встала, отряхнула юбку и сѣла. Ѣли въ молчаніи. Потомъ кто-то изъ бойцовъ захохоталъ хрипло. Царь протянулъ руку и хотѣлъ насадить на вилку котлету со сковородки. Авдеевъ быстро протянулъ руку и ловко стащилъ своей вилкой котлету съ вилки царя. И тутъ-же отправилъ въ ротъ. И жевалъ, и кругло, нагло и весело глядѣлъ на царя. Прожевалъ, проглотилъ. Царь сидѣлъ неподвижно. Авдеевъ всталъ, наклонился надъ сковородой — и вдругъ очень быстро нагнулся впередъ, приблизился къ царю, согнулъ руку, взялъ прямо пальцами котлету со сковороды — и, оборачиваясь, сильно ударилъ локтемъ царя въ лицо. Въ подглазье.
И опять погасли смѣшки и разговоры. Но только на мигъ. Царь закрылъ ладонью половину лица. Половина, что на виду, глядѣла круглымъ совинымъ, скорбнымъ глазомъ. Глядѣла вглубь, въ темную суть каждаго, кто сидѣлъ за этимъ столомъ и жевалъ. Царица молчала, очень низко нагнувшись надъ тарелкой, и ѣла, ѣла. Быстро, быстро, по-бѣличьи, жевала, будто боялась, что кусокъ изо рта вырвутъ, отнимутъ. И не смотрѣла ни на кого. И на царя тоже. Сильно ссутулилась, согнулась кочергой, и сразу стала старая, очень старая и равнодушная ко всему, кромѣ ѣды.
Повара ѣли вмѣстѣ съ тѣми, кому они наготовили ѣды. Ѣли и облизывались. А Пашка ничего не ѣла, только подносила ѣду и уносила пустую посуду.
А когда всѣ пообѣдали и вышли изъ-за стола, причемъ вылѣзали съ трудомъ, солдаты хохотали и не пускали плѣнниковъ на свободу, совали имъ подъ ноги табуреты, чтобы они спотыкались и ушибали ноги о жесткія деревяшки, — первыхъ дѣвушекъ, кто оказался въ коридорѣ, Ольгу и Анастасію, насильно погнали въ уборную: валяйте, живо бѣгите, а то у васъ кишка за кишку зацѣпится, и не развяжемъ! Обѣихъ въ уборную загнали. Солдатъ прислонился спиной къ двери уборной. Хохоталъ до икоты. Кто это былъ? Люкинъ? А можетъ, Трифоновъ? А можетъ, Бабичъ?
Неважно: они, красные, умѣли нацѣплять другъ на друга лица другъ друга. Чтобы ихъ не узнало начальство. Чтобы во-время возникнуть или во-время смыться.
Охрана совсѣмъ освоилась — и стала красть. Дѣвушки то-и-дѣло плакали: мама, у меня исчезъ гребень съ рубинами! Папочка, они стащили у меня золотой флакончикъ съ духами «Fleurs du Passé»! Цесаревичъ не жаловался. Онъ страдалъ молча. Только однажды, когда мать наклонилась надъ нимъ, чтобы поцѣловать и перекрестить его на сонъ грядущій, онъ смущенно шепнулъ ей на ухо, подъ сѣдую, кольцомъ свернутую прядь: мама, у меня пропала иконка святителя Николая въ серебряномъ окладѣ. Это твоя иконка, и мнѣ ее очень, очень жаль.
Онъ не сказалъ: своровали, украли, стащили, — хотя онъ прекрасно зналъ эти слова. Онъ просто и тихо сказалъ: пропала. Можетъ, сама пропала; какъ пропала, такъ и появится. Иконы иногда исчезаютъ, а потомъ вдругъ возсіяютъ гдѣ-нибудь совершенно въ другомъ мѣстѣ. За сотни и даже тысячи миль отъ того мѣста, гдѣ онѣ пребывали раньше. Это свойство святыхъ иконъ, мама не разъ ему говорила.
Золото и серебро, и иконы въ драгоцѣнныхъ окладахъ, съ корундами и жемчугами въ витой золотой скани, и узорчатыя табакерки, и позолоченныя чайныя ложечки, и скромныя, съ мелкими изумрудами и крошечными брильянтиками, дѣвичьи колечки, онѣ на ночь снимали ихъ и наивно клали въ чайныя блюдца на тумбочку. А потомъ разстилали на полу матрацы, крестили другъ друга и крестились сами, и ложились спать, а ночью въ комнаты входили солдаты и шарили глазами и руками по тумбочкамъ, стульямъ, шкафамъ, комодамъ. Воровать — это же въ природѣ человѣка, это ему присуще! Никуда это не дѣнешь! Воруютъ всѣ, даже самые чистые и честные съ виду. А развѣ самъ царь не воровалъ? Развѣ это не онъ до нитки обворовалъ свою-же собственную страну?
Ну ладно-бы серебро, золото: они всегда слишкомъ соблазнительны. Ладно-бы самоцвѣты — ихъ блескъ слѣпитъ, они тоже манятъ неимовѣрно. Но бѣлье, одежда, обувь? Мама, у меня пропали лѣтнія туфельки съ бантиками! Мамочка, нѣтъ моей кружевной пелеринки, гдѣ она, ты не видѣла? Я вотъ сюда вѣшала, на спинку кресла! Господи, мама, исчезла твоя ночная рубашка! Какая — моя? Моя — у меня подъ подушкой! Ну, твоя, что ты мнѣ на день ангела дарила! Съ кружевами изъ Лондона, они еще такъ красиво топорщились!
И мать потерянно разводила руками и шептала невнятно: топорщились… топорщились… was ist топорщились…
Отецъ насмѣлился, подошелъ къ бойцамъ и отчетливо, какъ передъ строемъ, сказалъ имъ: вы бесчестны, ваши люди безъ чести и совѣсти, вы воруете у насъ наши вещи, я этого такъ не оставлю. Ему прямо въ лицо засмѣялись. Какъ! Ты! Ты смѣешь намъ выговаривать! Сами теряете ваши чортовы бездѣлушки, а на насъ сваливаете! Очень нужны намъ ваши грязныя тряпки! Ваши коробчонки и портсигары! Тѣмъ болѣе — иконы! Вашъ богъ-то намъ не нуженъ, а иконы тѣмъ паче! Хотѣли плюнуть царю въ лицо, а плюнули подъ ноги. И царь растеръ этотъ плевокъ на полу подошвой сапога, и, когда растиралъ, улыбался.
Прогулки ждали, какъ счастья или поцѣлуя, и неважно, шелъ ли дождь, гремѣла ли гроза или солнце палило — все равно: воздухъ, небо, свобода. Двадцать минутъ свободы. Потомъ — пятнадцать. Потомъ — десять. Потомъ — пять. Пять минутъ жизни! Это очень много. Здѣсь они не пилили дрова и не складывали ихъ въ полѣнницы, какъ въ Тобольскѣ. Здѣсь имъ можно было только размять мышцы и кости въ своихъ каморкахъ — легкая англійская гимнастика, чтобы не омертвѣть вконецъ. Царь сказалъ Маріи на ушко: доченька, я чувствую себя ржавымъ прострѣленнымъ англійскимъ танкомъ. И Марія закрыла ему ротъ ладонью и постаралась весело разсмѣяться.
А кто же тогда былъ Алексѣй? Танкъ, эсминецъ, сожженная яхта? Онъ все время лежалъ. Когда ему нужно было ѣсть и пить, или въ уборную, или на прогулку — его бралъ на руки матросъ Нагорный и несъ. И Алексѣй плотно сжималъ губы. Что рвалось вонъ изъ этихъ губъ? Слово, крикъ? Честный крикъ о себѣ: не жалѣйте меня, я все равно скоро умру? Отецъ отвѣтилъ бы ему на это: мы всѣ все равно умремъ, и такъ негоже разсуждать. Это противъ Бога. Не гнѣви Его.
И хуже всего для нихъ былъ вечеръ. Они вечеръ такъ раньше любили. А теперь вечеръ они проклинали. Потому что вечеромъ красные хотѣли развлекаться. И заставляли плѣнниковъ ихъ развлекать. А развлеченій, самыхъ главныхъ, было три: спиртное, карты и музыка. Вотъ музыку умѣли извлекать изъ инструмента великія княжны. И ихъ, поочередно, усаживали за фортепьяно. Играй, кричали имъ, играй громче! Чтобы — за Исетью было слышно! Да нѣтъ, что тамъ, чтобы — въ Москвѣ было слыхать! Въ Кремлѣ! Чтобы Ленинъ твою буржуазную музыку услышалъ! И понялъ: ага, тутъ вы всѣ, птички, въ клѣткѣ, — и разсмѣялся! Вождь нашъ! У него, говорятъ, такая славная улыбка!
Ольга садилась за инструментъ, вытирала потныя ладони о колѣни. Играй «Разлуку», кричали ей, «Разлуку» знаешь?! Она не знала. Къ ней подскакивали, шипѣли: сейчасъ руки вывернемъ, играй! Настя наклонялась и шептала: Оля, да играй ты все, что въ голову взбредетъ, они же все равно не понимаютъ ничего. Ольга вздергивала руками, опускала ихъ на ледяныя клавиши, онѣ таяли подъ ея пальцами. Она знала много старинныхъ и цыганскихъ романсовъ, играла ихъ, а ей кричали: пой! Пой, вѣдь это «Невечерняя»! Она набирала въ грудь воздуху и брала первую ноту, и все, что обнимало вокругъ, что давило и рѣзало на куски, уплывало и сгорало. И дымъ кострища вился, умиралъ вдалекѣ. А голосъ жилъ. Онъ жилъ надъ чудовищами и внѣ чудовищъ, надъ небесами и жестью крышъ, надъ пустыми и полными бутылками, окурками, огрызками, рыбьими скелетами. Надъ засаленными, пухлыми колодами картъ, гдѣ валеты — это былъ цесаревичъ, дамы — цесаревны и царица, король — царь, а тузомъ глядѣлъ то ли топоръ, то ли черный револьверъ.
Поваръ Харитоновъ ахалъ, стискивая полныя мягкія руки: милая Александра Ѳедоровна, ваше величество, какимъ святымъ духомъ вы живы, вѣдь вы ѣдите однѣ только макароны! Ну и что, отвѣчала царица и старалась улыбнуться какъ можно веселѣй, вѣдь вотъ итальянцы ѣдятъ одни спагетти — и ничего, и процвѣтаютъ. Харитоновъ кричалъ бойцамъ прямо, безъ обиняковъ: прекратите воровать у царскаго семейства! Матросъ Нагорный не отставалъ. Однажды онъ за руку поймалъ Сашку Люкина, Сашка пытался стащить у Маріи черную шкатулку съ тонкой росписью и позолотой. На крышкѣ шкатулки были изображены печальныя дѣвушки въ кокошникахъ. Одна пряла, другая пѣла, третья вышивала на пяльцахъ, четвертая играла съ попугаемъ въ золотой клѣткѣ. У ногъ той, что вышивала, сидѣлъ мальчикъ; онъ закинулъ голову и мечтательно глядѣлъ въ небо. Голубой кусокъ неба въ маленькомъ, какъ коробокъ спичекъ, окошкѣ подъ крышей. Это мы всѣ, со вздохомъ говорила Марія, гладя пальцемъ расписную крышку, мы, сестры, и нашъ любимый братецъ. Вотъ мы всѣ тутъ. Кто и когда расписалъ эту шкатулку? Не зналъ и не помнилъ никто.
Можетъ-быть, ее привезли изъ Дивѣева, съ обрѣтенія мощей святого Серафима Саровскаго.
Нагорный шагнулъ въ спальню дѣвушекъ, когда Люкинъ схватилъ съ зеркальной полки шкатулку и уже упрятывалъ въ карманъ штановъ. Что творишь! Ничего, отойди. Это ты отойди! Нагорный, силачъ, морякъ, крѣпкой рукой схватилъ за локоть Люкина, другую руку запустилъ ему въ карманъ. А это что?! Люкинъ плюнулъ матросу въ лицо, плевокъ сползалъ по щекѣ, Нагорный толкнулъ Люкина въ грудь и вытеръ плевокъ обшлагомъ. Ты, царская подстилка! Предатель народа! Твои братья тамъ, въ Петроградѣ… за революцію воюютъ! А ты, гнида!
Это ты гнида, медленно и вѣско сказалъ Нагорный, а потомъ тяжело выронилъ: пошелъ вонъ!
Да я тебя въ тюрьмѣ сгною, процѣдилъ Сашка Люкинъ, пятясь къ двери. Еще какъ сгною! А лучше — самъ я тебя разстрѣляю. Ну давай, стрѣляй, что ждешь. А мнѣ самому руки пачкать неохота. Пусть тебя, предателя народа, судъ судитъ. Чтобы все честь по чести.
И снова вечеръ. И снова музыки хотятъ. А Нагорнаго требуютъ къ цесаревичу: онъ желаетъ, чтобы матросъ немного поносилъ его по коридору, у него очень болитъ нога, и мальчикъ хочетъ отвлечься отъ боли. Вотъ матросъ и цесаревичъ въ коридорѣ, и туда-сюда ходитъ Нагорный, и на согнутой его рукѣ прямо, слишкомъ прямо и жестко сидитъ цесаревичъ, сидитъ, какъ деревянная кукла, не какъ человѣкъ, для человѣка въ немъ слишкомъ много мужества и воли, и чести, и вѣры; а тутъ изъ двери вышагиваетъ царь, и подходитъ къ матросу, и говоритъ: дай я самъ поношу сына, я по немъ соскучился, да и онъ по мнѣ тоже, дай? Проситъ, словно милостыню. Матросъ краской заливается. Ну конечно, ваше величество, держите сыночка, а я немного отдохну, вы позволите, ваше высочество? Цесаревичъ закрываетъ глаза. У него даже нѣтъ силъ сказать «да».
За него всѣ все и всегда знаютъ, и говорятъ, и дѣлаютъ.
А онъ только это все наблюдаетъ.
Онъ наблюдаетъ свою жизнь. И жизнь другихъ. И жизнь страны. И жизнь мелкихъ, маленькихъ существъ въ саду, въ старой бочкѣ, когда послѣ дождя въ нее набирается темная вода; въ травѣ, когда матросъ нѣжно, осторожно кладетъ его въ траву на широко разстеленную теплую, чтобы не простудился, подстилку. Нога опять болитъ, но это все равно. Ему уже все равно! Вѣдь жизнь вокругъ шевелится и кипитъ. И шуршитъ. И плачетъ.
А сейчасъ жизнь играетъ музыку, рвется изъ-подъ рукъ его сестры, онъ угадаетъ по звуку, по тону, кто изъ сестеръ играетъ сейчасъ; нѣтъ, невозможно угадать, да это же сама жизнь. Она играетъ ему о себѣ самой, она поетъ слабымъ дрожащимъ голосомъ, и онъ со слезами подпѣваетъ ей, онъ попадаетъ въ тонъ, въ тактъ, но музыка уходитъ впередъ, и ему ее уже не догнать.
И тогда онъ, сидя на рукахъ у отца въ темномъ, пахнущемъ клопоморомъ коридорѣ, зажмуривается и плачетъ, очень тихо, чтобы отецъ не понялъ и не услышалъ, но отецъ все понимаетъ и тѣснѣе, сильнѣе, навѣкъ прижимаетъ его къ себѣ. И, кажется, плачетъ вмѣстѣ съ нимъ.
##
Они изо всѣхъ силъ старались быть спокойными. Это было трудно. Трудно оставаться спокойнымъ, когда тебя мучаютъ. И когда вокругъ такая тревога. И нога болитъ у мальчика. Надо лучше, сильнѣе просить Бога, чтобы Онъ разрѣшилъ имъ взять страданія ребенка на себя. Но Богъ выбралъ для страданія Алексѣя; и можетъ, съ Богомъ спорить не надо. Вѣдь на все воля Его.
А эти красные люди всерьезъ думаютъ, что нѣту никакой Его воли. Что все вершатъ только люди.
Боже, прости имъ, вѣдь они ошибаются. И ошибка имъ можетъ дорого стоить.
Они смѣются надъ святымъ. Они кривляются и хохочутъ: ваши цѣнности! Да какія у васъ, отжившихъ, цѣнности! Все протухло, прогнило. Все ваше — на свалку! И вы повторяете одно и то же, въ вашихъ примитивныхъ молитвахъ нѣтъ мысли, нѣтъ полета и простора. Мысль человѣка идетъ, летитъ дальше, выше вашего бога! Такъ они смѣются и учатъ, и народъ затверживаетъ это новое ученіе. И въ этомъ новомъ завѣтѣ нѣтъ мѣста царямъ. Нѣтъ мѣста Богу и всѣмъ Его святымъ. Что бы сказалъ батюшка Серафимъ Саровскій, увидѣвъ и услышавъ ихъ?
Поэтому они снова хохочутъ, когда царь выноситъ въ садъ сына на рукахъ. Что, усатая нянька, таскаешь парня? Уже женихъ, а все таскаешь! А онъ и радъ притворяться!
Иногда царь сажалъ Алексѣя въ коляску и выкатывалъ коляску въ садъ, и каталъ сына по саду, какъ маленькаго, и вспоминалъ его во младенчествѣ, и слезы катились по его щекамъ и таяли въ бородѣ, и онъ стряхивалъ ихъ ладонями, какъ комаровъ или мухъ. Царица перестала выходить во дворъ. Ей кричали: гражданка Романова, на выходъ, безъ вещей! Она зажимала ладонями уши, не въ силахъ слушать громкій хохотъ. Подбирала кружевныя юбки. Выходила на крыльцо. Солнце било ей въ грудь, и она шаталась. Сынъ сидѣлъ въ коляскѣ и смотрѣлъ на нее. И она молча смотрѣла на него. Что было говорить. Сынъ еще въ коляскѣ, а она уже старуха. Худая голодная старуха. И платья на ней висятъ. И кожа свисаетъ со щекъ. И шея въ слоновьихъ складкахъ. Жизнь проходитъ и уже прошла. А все остальное неважно. Ей уже все равно.
Она наставляла дочерей: дѣвочки, а вы повѣжливѣй. Вы улыбайтесь, когда навстрѣчу вамъ — стрѣлокъ. Онъ вамъ грубость, а вы ему — радость! Человѣкъ созданъ Богомъ, чтобы дарить ближнему радость. Мама, но они-то не радуются! А вы радуйтесь все равно.
Краснымъ было запрещено вступать въ разговоры съ арестантами. И, можетъ-быть, это было правильно. Кто знаетъ, какъ цари могли улестить своихъ сторожей? На что подбить? Господа всему учены, а простой народъ — ничему. Съ господами держи ухо востро. Не ровенъ часъ, обманутъ. А вдругъ у царя гдѣ-нибудь припрятанъ револьверъ? Да ну, сколько обысковъ провели, и — ничего, изъ оружія развѣ только вилку и ножъ съ обѣденнаго стола упрутъ. Не упрутъ, Пашка слѣдитъ за этимъ.
Эта дѣвка, Прасковья, чѣмъ-то страннымъ, неуловимымъ нравилась имъ. И это они пытались съ ней заговорить; да она тутъ же поворачивалась спиной, передергивала широкими прямыми плечами, быстро и сердито уходила.
Однажды комендантъ Авдеевъ не удержался, подошелъ въ саду, на пятиминутной куцей прогулкѣ, къ царю. Царь остановился, не отворачивался, глядѣлъ на Авдеева. Авдеевъ вдругъ замялся. Куда и грубость исчезла. «Эй, гражданинъ Романовъ, а какъ тамъ война? Вамъ, небось, ваша родня все доноситъ, въ письмахъ пишетъ», — выпалилъ и глядѣлъ царю не въ глаза — на бороду, въ ротъ. «Война уже давно идетъ межъ русскими людьми. Русскіе съ русскими воюютъ», — медленно и спокойно отвѣтилъ царь и все-таки отыскалъ подъ чужимъ лбомъ, подъ фуражкой, подъ червяками бровей чужіе, ускользающіе, стыдящіеся глаза.
И нечего больше Авдееву было сказать.
Комендантъ наклонился и сталъ срывать цвѣты и ломать стебли. Что это вы рвете, съ любопытствомъ спросилъ царь. Это высушимъ, измельчимъ, и будетъ что курить, тихо отвѣчалъ Авдеевъ. Они впервые, въ этомъ саду, гдѣ вдоль забора тѣсно, скучая и позѣвывая, стояли караульные, разговаривали по-человѣчески. Какъ люди, разговаривали.
Однажды парадная дверь была настежь открыта, и дѣвушки увидѣли изъ коридора, какъ эта, кухонная баба, Прасковья, принимаетъ, вмѣстѣ съ караульными, корзины съ ѣдой, что имъ носили изъ комиссарской столовой, у повязанныхъ бѣлыми платками трехъ женщинъ и двухъ дѣвочекъ. Прасковья кричала, принимая изъ рукъ женщинъ очередную корзину: мясо! молоко! котлеты! супъ! ржаной хлѣбъ, три буханки! — и передавала корзины бойцамъ. Бойцы волокли корзины на кухню. Женщины стояли у параднаго крыльца, не уходили. Имъ крикнули: что не уходите, толчетесь? Одна баба развязала отъ смущенія и снова завязала уши бѣлаго платка. Да вотъ, царей поглядѣть хотимъ.
Глядите, захохотали красные, глядите! А вотъ они, спрятались, бѣлочки!
И одинъ солдатъ забѣжалъ за спины княжонъ, и сталъ подталкивать ихъ къ двери, а бабы вдругъ сморщились и заревѣли, и закрестились мелко и поспѣшно, а на кухню по коридору бѣжали караульные съ корзинами въ рукахъ, и Прасковья стояла каменно, съ каменнымъ лицомъ, каменной грудью и кирпичными руками.
А еще къ нимъ разрѣшали приводить священника. Имъ недостаточно было ихъ собственныхъ утреннихъ молитвъ. Они тосковали по слову Божію изъ устъ апостольскаго наслѣдника. Не каждый день, конечно, но на каждый праздникъ и въ дни ангела батюшка былъ званъ. Густой басъ доносился изъ спальни царицы, отъ ея вѣчнаго походнаго кіота. Миромъ Господу помолимся! Они всѣ стояли вокругъ батюшки, и лица у всѣхъ были такія свѣтлыя, что при этомъ свѣтѣ, въ сумеркахъ утра, можно было читать Святую Книгу.
И пѣли, и говорили молитвы, и подпѣвали басу батюшки, а потомъ батюшку приглашали съ ними на завтракъ. И наливали пустой чай, и пододвигали ближе къ старику плетеное блюдо съ коряво нарѣзаннымъ ржанымъ хлѣбомъ. Вотъ, отвѣдайте, его же и Господь вкушалъ! Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь!
А вы не глядите вкось, что эти… морщатся. Пусть морщатся! Имъ молитвы поперекъ глотки. А намъ молитвы — сладость звѣздная, манна небесная. Пусть строятъ свой, новый міръ! Посмотримъ, какъ они далеко безъ Бога-то уйдутъ.
И батюшка смѣлой рукой ломалъ вчерашній, зачерствѣлый хлѣбъ, и отправлялъ кусокъ въ ротъ, подъ сивую, сѣдую, въ кольцахъ старыхъ кудрей и колтунахъ, мощную бороду. И они всѣ радостно совали руки къ хлѣбной тарелкѣ, расхватывали куски и крестились, и къ сердцу ладони прижимали, какъ причастники. А батюшка басилъ: примите, ядите, — эхъ, потира съ Кровью Христовой не хватаетъ! Кагорчику бы нынче!
Но никто изъ красныхъ будто бы ничего этого не слышалъ, а дѣвица Демидова хватала и обѣими руками поднимала тяжеленный, армейскій чайникъ, и подливала кипятокъ въ царскіе стаканы, и цесаревичъ обжигалъ ладони горячимъ подстаканникомъ и кривился, а съ потолка на голый столъ сыпалась штукатурка.
А по воскресеньямъ тоже разрѣшали службу; и тогда батюшка приводилъ съ собою дьякона, и дьякона тоже поили чаемъ, а въ честь воскресенья къ столу, кромѣ ржаного, подавали еще бѣлые сухари и даже сахаръ, въ маленькой, какъ лягушка, сахарницѣ. И каждый боялся первымъ поднять фаянсовую крышку и запустить въ сахарницу ложку. Сахаръ былъ мелко колотый, на мелкія сладкія льдинки раскусанный мѣдными щипцами. Щипцы всегда лежали въ кухнѣ на подпечкѣ. Прасковья иногда отстригала ими свекольную ботву.
И собирались на небѣ тоскливыя тучи. Тоска! Ничего, и Пушкинъ тоже тосковалъ. И всѣ тоскуютъ. И небо тоскуетъ и плачетъ дождями. Надо читать. А читать печально. Надо вышивать. Вышьешь тоску! Можно вить изъ проволоки, вертѣть изъ грубыхъ нитокъ петельки для елочныхъ игрушекъ. Вѣдь Новый годъ и Рождество они все равно будутъ встрѣчать здѣсь. Все равно.
Можно еще пѣть. Что? Чайковскаго, Глинку? Рахманинова, «Сирень», «Какъ мнѣ больно»?
— Какъ мнѣ больно. Какъ хочется жить!
Какъ свѣжа и душиста весна…
Нѣтъ, не въ силахъ я сердце убить
Въ эту ночь голубую безъ сна!
Ольга, зачѣмъ ты такъ горько поешь. Ольга, твой голосъ разрѣзаетъ меня, какъ ножомъ!
Лучше — духовную кантату спой! Былъ у Христа младенца садъ!
— Хоть бы старость пришла поскорѣй…
Хоть бы иней въ кудряхъ заблестѣлъ…
Чтобъ не пѣлъ для меня соловей,
Чтобы лѣсъ для меня не шумѣлъ,
Чтобы пѣснь не рвалась изъ души
Сквозь сирени въ широкую даль!
…Оля, милая, ну прошу тебя… ну хватитъ…
— …чтобы не было въ этой тиши
Мнѣ чего-то… мучительно… жаль…
Оля, а въ коридорѣ, на стѣнахъ, Ѳаддей Сафоновъ опять непотребства написалъ! Да вонъ онъ, Сафоновъ, выйди на крыльцо, погляди! На заборѣ сидитъ! И здѣсь, въ комнатахъ, слышно, что поетъ. А что поетъ? Да ужасъ что. Не слушай! Уши заткни!
Нѣтъ, я слышу. Слышу! И могу повторить! Все до словечка!
— Шелъ я лѣсомъ, видѣлъ чудо —
Царь съ царицею сидятъ,
Панталоны снявъ для блуда,
Длинный конскій хрѣнъ ѣдятъ!
…пожалуйста… не надо… не могу…
Давай лучше встанемъ у окна и заглушимъ его, и споемъ. Сами споемъ! А что? «Херувимскую»!
Иже херувимы… тайно образующе… святую пѣснь припѣвающе…
— …ты, царевна, меня слышишь?
Я съ тобой не буду грубъ!
Подними подолъ повыше —
Засажу тебѣ подъ пупъ!
…какая противная эта балалайка у него. Какъ онъ брямкаетъ на ней!
— …балалайка, балалайка,
А царевна на цѣпи!
Ты собакою полай-ка,
Кошкой драной повопи!
…Пальцы Ольги впивались въ клавиши. Она играла «Аппассіонату» Бетховена. Мощные аккорды заглушали срамныя слова, что летѣли снизу и пробивали мутное стекло. Солнце каталось за закрашеннымъ стекломъ краснымъ огнемъ въ опаловомъ перстнѣ.
Имъ нарочно рисовали на стѣнахъ коридора, комнатъ нижняго этажа, на дверяхъ и даже на потолкѣ — кто-то исхитрился, лѣстницу приставилъ и на потолкѣ малевалъ — всяческія безобразія: ихъ самихъ въ неглиже, а то и голякомъ, съ растопыренными ногами, царицу — вверхъ ногами перевернутую, съ распяленнымъ въ жуткомъ крикѣ ртомъ, похожимъ на могильную яму, царя — съ метлой въ рукахъ, а у его ногъ маленькій, какъ ежонокъ, Распутинъ, и царь пытается вымести его метлой, а у Распутина на спинѣ ежовыя иглы, онъ сворачивается въ клубокъ, и иголки торчатъ, и торчатъ изъ иглъ длинный носъ и черная разбойная борода. Вотъ Татьяна раздвинула ноги, а на ней лежитъ боецъ, а изо рта у нея вылетаетъ облако, а въ облакѣ надпись: «ДАВАЙ ИЩО ХОЧУ ИЩО БОЛЬНО МИНѢ А ХАРАШО!» Вотъ Ольга играетъ на роялѣ. Стоя играетъ, а задъ оттопыренъ и обнаженъ; и въ задъ ей боецъ безжалостно втыкаетъ штыкъ, и надпись надъ ихъ головами: «ЗДОХНИ ЦАРСКОЕ ОТРОДЬЕ, СЫГРАЙ СЕБѢ ПОХРОННЫЙ МАРШЪ!» Вотъ Алексѣй сидитъ на стульчакѣ, а на его головѣ огромная, съ гроздьями цвѣтовъ, дамская шляпа, и голыя ноги и животъ — все на виду, и подъ нимъ ползетъ червемъ надпись: «Я МАМАНЬКИНЪ СЫНОКЪ, ОТЪ ПОНОСА ИЗНЕМОГЪ!» А вотъ Марія. Она, какъ и Татьяна, нарисована въ совокупленіи. У бойца лицо подозрительно похоже на лицо Лямина.
А вотъ и царь. Онъ безъ штановъ, но въ кителѣ. Вмѣсто погонъ у него на одномъ плечѣ — ящерица, на другомъ — жаба. Причинное мѣсто изображено въ видѣ маятника. Надпись: «АСТАНОВИЛЕСЬ ТВАИ ЧАСЫ, ДУРАКЪ РАМАНОВЪ! КОНЧИЛОСЯ ТВАЕ ВРЕМЯ!»
Кто это все рисовалъ? Я видала. Это боецъ Стрекотинъ. Его зовутъ Андрей. Я съ нимъ разговаривала, когда онъ это рисовалъ. Я просила, чтобы онъ не дѣлалъ этого. Настя, мы же тебѣ всѣ говорили, не говори съ ними! Не говори! Пожалуйста! Неизвѣстно, во что это выльется!
А Стрекотину помогали еще Бѣломоинъ, Сафоновъ и Люкинъ. Они рисовали это все и ржали, какъ кони. И другъ друга поправляли, и кричали: эй ты, такъ не надо! — и учили, какъ надо.
Дѣвочки, а давайте споемъ: «Умеръ бѣдняга въ больницѣ военной». Чтобы эту жуткую балалайку заглушить. Давайте!
Онѣ возвышали голоса, голоса сливались въ стройный чистый хоръ, бились бѣлыми голубями о замазанное стекло. Женскіе голоса, гдѣ ваша мужская теплая земля? Гдѣ всѣ эти пьяницы, курильщики, матерщинники, они лишь притворяются солдатами? Умерла армія. А эти только притворяются арміей. Отецъ шепчетъ: для того, чтобы стать арміей, имъ нужны будутъ новыя сраженія. И они у нихъ есть. Они бьютъ другъ друга. Русскіе бьютъ русскихъ. Это дьяволъ веселится, пируетъ на русской землѣ.
Но красные и въ дьявола не вѣрятъ. Они не вѣрятъ ни во что. Вѣрятъ ли они другъ въ друга?
…Недобрыя сердца. Злыя души. Глаза злыхъ котовъ. Но вдругъ — изъ-подъ бровей — косо — зрачки летятъ, и въ нихъ — жалость къ тебѣ, интересъ: а какъ ты себя чувствуешь, — любопытство: а какъ ты живешь? Да, правда, какъ же ты живешь? Тутъ, подъ градомъ насмѣшекъ, въ домѣ, гдѣ замазаны известью окна, гдѣ на завтракъ даютъ спитой несладкій чай?
Они видѣли и эти лица. Лица не звѣрей, не котовъ и собакъ, не волковъ — лица людей. Эти лица можно было просить; отъ нихъ можно было ждать не только оскорбленія, но и пониманія. Лица эти торчали въ общей красной толпѣ, въ плотной живой стѣнѣ охраны, какъ прозрачные изумруды или алые турмалины въ древней, мѣдной, хитро переплетенной скани; и къ этимъ лицамъ бросались они, пытаясь достучаться, руки протянуть, обнять, — признаться, повѣрить, прошептать, высказать. Бросали свои души, уже исклеванныя ночными военными птицами. Уже наполовину раскрошенныя подъ ногами въ сапогахъ, подъ мордами коней и собакъ, подъ свистами пуль. Поднимите! Мы вамъ отдаемъ самое дорогое, что у насъ есть!
И — поднимали. Не всѣ. Кое-кто.
Самое страшное — просить. Они просили Мошкина. Мошкинъ шелъ къ Авдееву. Авдеевъ рычалъ: пусть идутъ къ лѣшему! Просьбы погибали, корчились въ мукахъ. Пожалуйста, откройте окна! Мы задыхаемся! Ну и задохнитесь, гады. Задохнись, ты, Николашка. Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.
И лицо довольное, лоснится: царю отказалъ.
Не гражданину Романову, а — царю.
Но другія лица ловили губами другія ихъ просьбы. И глотали, будто причастіе. Тата однажды подошла къ солдату Сафонову, тому самому, что рисовалъ на стѣнахъ поганые рисунки, потрогала его за рукавъ и сказала: вы хорошо рисуете, вамъ бы учиться! Сафоновъ онѣмѣлъ. Вы будете художникомъ, я вижу; а я бы тоже хотѣла немного порисовать, принесите мнѣ бумагу, а? Я хочу нарисовать дерево въ саду на фонѣ синяго неба. Я умѣю. Я вамъ покажу, какъ надо небо рисовать и дерево рисовать. Принесете? Пожалуйста!
И Файка Сафоновъ тихо и растерянно повторилъ, эхомъ, вслѣдъ за Татой это слово: пожалуйста.
И жадно, рѣзко двинувъ кадыкомъ, проглотилъ это слово, какъ хлѣбъ пополамъ съ виномъ изъ золотой храмовой лжицы.
Вечеромъ, когда мать вслухъ читала имъ всѣмъ изъ Библіи, боецъ Сафоновъ принесъ листъ бумаги и обгрызенные цвѣтные карандаши. И еще гуашевыя краски въ двухъ маленькихъ банкахъ: красную и синюю. И кисточки къ нимъ. Двѣ кисточки. Мягкія, колонковыя. Тата захлопала въ ладоши. Сумасшедшая, встала на цыпочки, и закинула руки за шею бойцу, и расцѣловала его въ щеку. Сама испугалась. Смущенно поглядѣла на мать. Мать какъ читала Писаніе, такъ и продолжила читать. Головы отъ страницы не подняла. Помилуй мя, Боже, по велицѣй милости Твоей!
А внизу опять пьютъ, гуляютъ. Вина много у нихъ. Откуда берутъ? И водки вдосталь, и крѣпкой корчмы. Авдеевъ напился пьяный и рухнулъ безъ чувствъ на полу въ коридорѣ, и стрѣлки дотащили его, ухвативъ за ноги, до комендантской, и втащили туда, и уложили на одѣяло, и шубой сверху накрыли, ибо сильно дрожалъ онъ. Часъ назадъ онъ и къ нимъ приходилъ. Еле стоялъ на ногахъ. Щурился, раздвигалъ губы въ нелѣпой ухмылкѣ. Что, цари горохи, сидите, кукуете? Сидите, сидите! Вамъ одно и осталось — сидѣть! А ну стоять! А ну всѣ быстро встали!
Мать встала вмѣстѣ со всѣми. Но ея губы не прекратили читать. Она щурила глаза, не различала буквы, но читала: она знала Писаніе наизусть. Всѣ стояли вокругъ стола. Будто поминки, и читаютъ молитву. Только не налито въ бокалы вино. Вусмерть пьяный Авдеевъ обвелъ всѣхъ слѣпыми красными глазами. Ахъ вы суки! Подчинились! А эта, старуха, что трещитъ безумолку?! Прекратить бормотать! Молчать!
Тогда мать замолчала. На время. Всѣ стояли и молчали, и шумно сопѣлъ Авдеевъ, а мать вздохнула и отчетливо сказала: я не бормочу, а читаю Пятидесятый псаломъ. Это Псалтырь, ее написалъ царь Давидъ.
Царь, царь, опять царь! Вамъ, гнидамъ, всюду чудятся цари!
Но это правда, пожала плечами мать. Тонкая пелерина упала съ ея плеча на полъ.
Авдеевъ наступилъ пьянымъ сапогомъ на пелерину и усмѣхнулся.
Это ваша правда!
Правды нѣтъ вашей и нашей, есть правда только одна. На всѣхъ.
Нѣтъ, шалишь! Сколько людей, столько и правдъ! А правдивѣй всѣхъ правдъ — наша, красная правда! А почему? А потому что мы мучились больше всѣхъ! Вы — насъ — мучили! Мы кровью нашу правду отработали!
На первомъ этажѣ пѣли. Голоса проламывали полы и потолки. Голоса распиливали бревна, разбивали стекла. Катались по полу пьяными котами. Взрывали погребъ и крышу. Они были главными здѣсь, эти голоса. Они плевали на «Херувимскую». Они не умѣли Чайковскаго. Они пѣли свое, выстраданное, красное.
— Вы жертвою пали въ борьбѣ роковой —
Любви беззавѣтной къ наро-о-о-оду…
Вы отдали все, что могли, за него —
За жизнь его, честь и свободу!
Пьяный Авдеевъ сжалъ кулакъ и поднесъ его, круглый, тяжелый, къ носу царицы. Вотъ она, наша правда! Правдивѣе всѣхъ правдъ вашихъ! Вотъ она — для всѣхъ! И мы выпьемъ за нее! За ея праздникъ! За нашъ, великій, красный праздникъ! Пиръ на весь міръ! Скоро всѣ народы возстанутъ. Противъ васъ, убійцъ!
Вы сами всѣ убійцы, беззвучно сказалъ царь. Пощупалъ отощавшія плечи. Рукава гимнастерки на локтяхъ собрались гармошкой. На половицахъ комками валялась грязь; она соскочила съ сапогъ Авдеева. Только-что прошумѣлъ дождь. Они слышали шорохъ, но дождя не видѣли. Бѣлыя бѣльма скрывали міръ.
Голоса взрѣзали доски, обои, кирпичи:
«Отречемся отъ стараго міра, отрясемъ его прахъ съ нашихъ ногъ! Намъ не надо златого кумира — ненавистенъ намъ царскій чертогъ!»
Вотъ, слышите, ненавистенъ, сказалъ Авдеевъ, не разжимая кулакъ. Всѣ слышали?! Всѣ?!
Они всѣ стояли кругомъ стола и молчали.
…а боецъ Ляминъ стоялъ за дверью, и тоже сжималъ руки въ кулаки, и тоже молчалъ.
##
На посту номеръ девять — часовой Добрынинъ. Онъ случайно выстрѣлилъ въ потолокъ.
У бойцовъ бывало не разъ, что пуля сама собой изъ ствола вылетала.
На охотѣ и то вылетаетъ; а тутъ, когда оружіемъ они накормлены подъ завязку?
— Эй, Добрынинъ, какъ у тебя выстрѣлъ-то получился? Ежели не секретъ?
— Да ставилъ затворъ на предохранитель. Она, сволочь, и шарахнула.
Черезъ пару дней — на другомъ посту — бомба взорвалась. А въ чемъ дѣло-то? А неосторожно съ бомбой товарищъ обращался; она надъ нимъ и посмѣялась. Оружіе есть оружіе. Осторожнѣй съ нимъ.
— Учить васъ надо съ оружіемъ обращаться, бойцы!
— Еще чего, учить насъ. Мы — ученые!
У коменданта было свое понятіе и о выстрѣлахъ, и о взрывахъ. Онъ велѣлъ тѣхъ стрѣлковъ неосторожныхъ приставить къ наградѣ. Приказа еще не написалъ; но уже похвалилъ, и по плечу одобрительно постучалъ солдатамъ. Такъ ихъ! Бди! Вѣдь у нихъ, собакъ, заговоръ. Они его осуществляютъ. Дѣвицы — изъ оконъ — людямъ внизу — знаки подаютъ! Какіе знаки, товарищъ комендантъ, окна же доверху известкой замазюканы. А онѣ, шельмы, фортку открываютъ! И — жестикулируютъ! Такъ что вы, бойцы, молодцы! Такъ ихъ, пугай ихъ!
Что подозрительнаго замѣтишь — не боись, шугани! Чтобъ неповадно было! Можешь стрѣльнуть такъ, чтобы пуля надъ ухомъ просвистала! Чтобы — обдѣлались со страху!
…Ляминъ видѣлъ, какъ уводили изъ дома матроса Клима Нагорнаго и лакея Ивана Сѣднева. Нагорный кричалъ и махалъ руками. Онъ еще сопротивлялся. Сѣдневъ молчалъ, и сѣрыя тучи плыли по его лицу, заслоняя глаза, брови и щеки.
«Насовсѣмъ берутъ. Не вернутся».
«А можетъ, вернутся! Подержатъ да отпустятъ».
«Сейчасъ уже не отпускаютъ».
Ляминъ стоялъ у воротъ и провожалъ пролетки глазами. Винтовка за плечомъ прожигала холодомъ кожу сквозь вспотѣвшую гимнастерку.
…Въ Домѣ не жгли электричество зазря; экономили. Ужинали при этомъ тускломъ мертвомъ бѣломъ свѣтѣ, сочившемся въ слѣпыя окна. Не щелкали выключателями. Не велѣно.
Старуха ѣла молча, усердно жевала. Потомъ бросила жевать, утерла ротъ платочкомъ, вынутымъ изъ-за пазухи, и строго спросила:
— А гдѣ Сѣдневъ и Климентій?
Ляминъ кашлянулъ и тихо сказалъ:
— Увезли ихъ. Вы развѣ не знаете?
Старуха вмяла въ него, какъ въ конвертъ, сургучи глазъ.
— Нѣтъ!
— Вы только не волнуйтесь.
— Ихъ убьютъ, — спокойно произнесла старуха, снова принимаясь за ѣду.
Она доѣдала оставшійся отъ обѣда супъ, а отъ холодной котлеты отказалась.
…Михаилъ вдыхалъ сложный, плотный духъ караульной, укладываясь спать. Матрацы, кровати, брошенныя на полъ шинели. Человѣкъ уснетъ на чемъ угодно, хоть на сырой землѣ, если хочетъ спать. У часовыхъ — ночь безсонная. Завтра его чередъ дежурить. Авдеевъ ставитъ его на постъ къ парадному крыльцу. На улицу. Значитъ, онъ будетъ нюхать свѣжій воздухъ и видѣть звѣзды. А вотъ они, арестанты, бѣдняги, звѣздъ не видятъ уже давно. Только — красныя: у солдатъ на гимнастеркахъ, на шинеляхъ. На папахахъ у командировъ. На комиссарскихъ фуражкахъ.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«23 февраля 1918.
Вчера на багровомъ закатѣ, любуясь силуэтами домовъ и деревьевъ, думалъ: до чего близко къ намъ небо, — вѣдь я уже иду по звѣзди небесной! Тысячи звѣздъ и миріады рожденій и смертей въ пространствѣ, миріады восторговъ и отчаяній. И какъ я не могу помочь ни одной твари, погибающей въ системѣ Сиріуса или Капеллы, такъ и онѣ не могутъ помочь мнѣ. Вся полнота спасающаго ихъ божества тамъ въ нихъ — и только въ нихъ, какъ здѣсь во мнѣ — и только во мнѣ. Въ пучинѣ моря крохотная креветка увильнула отъ пасти дельфина, и она спасена. Если нѣтъ — нѣтъ… Кому ты долженъ молиться? Вчера зашелъ къ Введенію — акаѳистъ Николаю, вся церковь поетъ, выходитъ красиво, Николай-угодникъ — большой образъ въ золотой ризѣ, паникадило передъ нимъ, какъ разгорѣвшійся костеръ. Николай — какъ бы большой баринъ въ сравненіи съ другими святыми — передъ тѣми свѣчечка, а то и ничего. Николай заслонилъ и Божію Матерь, и Іисуса Христа, и Бога Отца.
Есть еще двѣ иконы: міръ, меня объемлющій, которому молиться не надо, напрасно: онъ и безъ молитвы даетъ все, что можетъ, безразлично — на спасеніе или на погибель. Вторая икона — зеркало. Подойди къ нему, ты увидишь старое лицо очень слабаго, въ общемъ, крайне ничтожнаго существа. Живая или, точнѣе, полуживая пылинка. И все-таки это Божественное существо способно до нѣкоторой степени спасти тебя. Ты и тебѣ подобные, точнѣе — твои повторенія въ мірѣ. Молись себѣ и имъ, пробуждай свое и ихъ вниманіе, возбуждай участіе ихъ — и, быть-можетъ, тебѣ удастся увильнуть, какъ креветкѣ отъ пасти чудовища. Что касается безконечно-великаго, всевластнаго существа, которое скрыто въ мірѣ до невидимости и до неощутимости, то неужели ты не видишь, что такое существо живетъ своей сверхжизнью, въ твою не вмѣстимой? Гляжу на звѣзды и спрашиваю себя, что между звѣздами? Ихъ сіяніе, трепетъ ихъ лучей, нѣкое реальное „нѣчто“ и во всякомъ случаѣ — не „ничто“. Это и есть плоть Твоя, Господи, видимая мнѣ душа Твоя».
Михаилъ Меньшиковъ. Дневникъ 1918 года
Пришелъ священникъ, одинъ, безъ дьякона. Михаилъ встрѣтилъ его у воротъ и самъ проводилъ въ Домъ. Священникъ трудно тащилъ свой животъ. Подъ рясой онъ выпиралъ черной угольной насыпью. По лѣстницѣ поднимались такъ долго, что Ляминъ зазѣвалъ. И священникъ переваливалъ свое тѣло впередъ, со ступеньки на ступеньку, а Ляминъ стоялъ и все зѣвалъ. Попъ обернулся. Ляминъ прикрылъ ротъ рукой.
Дошли до двери въ спальню царей. Ляминъ хотѣлъ безъ церемоній толкнуть и открыть, но передъ глазами возникло сердитое лицо Маріи; онъ взялъ и постучалъ. Громко, часто.
— Эй! Граждане! Къ вамъ пришли!
Дверь подалась. Марія держалась за мѣдную гнутую ручку. Волосы не распущены по плечамъ, а подобраны въ пучокъ на затылкѣ. Въ волосахъ кружевной бантъ. «На дамочку похожа. На фифу. Вотъ такими онѣ всѣ станутъ, когда повзрослѣютъ».
Но это широкое, скуластое лицо. Крестьянское лицо! Слишкомъ русское для нѣмки. Онъ ощупывалъ зрачками, какъ волкъ въ зимнемъ лѣсу ощупываетъ глазами — издалека — загулявшаго зайца, сладкую добычу, ея шею и грудь, брови, рѣсницы, эти твердыя торчащія скулы. Дѣвка на сѣнокосѣ! Какая принцесса!
Онъ только теперь, внезапно и дико, понялъ, какъ Марія съ Пашкой похожи.
— Батюшка вамъ, обѣдню служить. Какъ заказывали.
«Заказываютъ же человѣка, какъ пирогъ въ кондитерской».
Старуха уже быстро шагала навстрѣчу, поднимая руки, свѣтлѣя лицомъ. Она такъ поднимала къ священнику изсушенное слезами и мыслями лицо, будто хотѣла его страстно и многажды расцѣловать, а руки вздымала для того, чтобы задушить попа въ объятіяхъ; еще немного, и она сдѣлала бы это, попъ для нея былъ носителемъ того міра, что безповоротно ушелъ у нея изъ-подъ ногъ. Нѣтъ, не весь уплылъ, — вотъ же его представитель, одинъ изъ его прежнихъ насельниковъ; пока церковь еще не всю растерзали, батюшка пришелъ, и кадило у него подъ мышкой, и ладанъ и елей въ большомъ черномъ кожаномъ, почти комиссарскомъ портфелѣ.
Царь опередилъ ее, не далъ ей невѣжливо, не по правиламъ, обнять и расцѣловать батюшку. Шагнулъ впередъ, сложилъ руки черпакомъ, наклонился:
— Благословите, отецъ Тихонъ.
Священникъ медленно перекрестилъ Николая и выпустилъ изъ себя длинную басовую ноту:
— Госпо-о-одь благословитъ.
Ляминъ глядѣлъ на то, какъ играютъ золотомъ и яичнымъ желткомъ, и киноварью, и сурикомъ, въ свѣтѣ жаркаго утра, многочисленныя иконы въ старухиномъ кіотѣ.
«А иконъ тьму насобирали. Наворовали у народа, товарищъ Яковъ говоритъ! Можетъ, оно и такъ. Всѣ другъ у друга воруютъ».
Вспомнилъ, какъ въ Буянѣ, въ голодный годъ, своровалъ тощую корову изъ чахлаго, еле живого стада, взялъ за рога и увелъ въ подлѣсокъ; и тамъ зарѣзалъ, а потомъ освѣжевалъ и изрубилъ въ куски, грамотно, на пнѣ, маленькимъ, но тяжелымъ топоромъ. Мясо сложилъ въ мѣшокъ и принесъ домой, и спустилъ въ погребицу въ сараѣ. И Софья варила изъ говядины супъ, и даже картошки къ нему не было; такъ и хлебали, воду да жесткое старое мясо, корова оказалась старухой, усаливали да пили изъ мисокъ черезъ край, и хлѣба не было. Но такъ спаслись.
А чья та корова была, какого сосѣда-сельчанина, такъ и не узналъ никогда.
А они, они-то — даже вымя, даже мозги, даже носъ и хвостъ сварили.
…Они всѣ уже выстроились напротивъ кіота. Попъ запѣлъ, и они запѣли.
«Всѣ службы наизусть знаютъ, выходитъ такъ?»
Себя чувствовалъ тутъ лишнимъ. Но отчего-то тупо, упрямо стоялъ, не уходилъ. Марія, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, оглянулась на него. И онъ вдохнулъ воздухъ коротко и рѣзко и сдѣлалъ широкій шагъ къ этому домашнему иконостасу.
«А можетъ, какъ раньше, а? Перекреститься, постоять службу съ ними?»
И рука уже потянулась ко лбу, пальцы склеивались въ стыдную забытую щепоть.
Снизу, въ открытую дверь спальни, донеслось:
— Бойцы! Полдень! Смѣна караула!
И такъ же рѣзко отшагнулъ назадъ отъ кружевныхъ спинъ, отъ царскихъ сутулыхъ лопатокъ подъ елово-зеленой гимнастеркой.
Цесаревичъ лежалъ въ кровати и ясно смотрѣлъ на Лямина.
«Чортъ, лежитъ и глядитъ, какъ святой. Настоящій святой! На одрѣ мученика. А я для него — грязь, отбросъ. Мусоръ людской. И онъ меня, мусоръ, любитъ и понимаетъ, и прощаетъ. А я его — выходитъ такъ — нѣтъ?!»
Вышелъ, крѣпко захлопнулъ дверь. Одна изъ иконъ, икона святой равноапостольной княгини Ольги, сорвалась съ тонкаго гвоздя и шлепнулась на полъ. Старуха метнулась поднять, ее опередилъ мужъ. Уже стоялъ съ иконкой въ рукахъ, улыбался нѣжно, юродиво.
— Вотъ, родная. Вотъ. Не волнуйся.
— Плохая примѣта.
Священникъ не останавливалъ службу. Басилъ, поднималъ, какъ дирижеръ, руки, и широкіе рукава рясы скользили, падали къ локтямъ. Марія взяла изъ рукъ отца икону св. княгини Ольги и поставила къ трюмо. Исподъ иконы отразился въ зеркалѣ. Марія перекрестилась и запѣла вмѣстѣ со священникомъ:
— Вѣрую во единаго Бога Отца, Вседержителя!
И запѣли всѣ.
И Алексѣй, лежащій въ кровати въ высокихъ взбитыхъ подушкахъ, веселѣе всѣхъ крестился и пѣлъ громче всѣхъ. На тумбочкѣ, на салфеткѣ съ аппликаціей, тускло отблескивалъ градусникъ. Темнѣла въ мензуркѣ недопитая лѣчебная жидкость.
Мать стояла лицомъ къ иконамъ, пѣла и плакала.
…Начались жаркіе дни. По улицамъ шли рыбаки-старики и бѣжали мальчишки, и всѣ волокли за плечами куканы — кто съ плотвой, кто съ перламутровыми судаками, кто съ харіусами, а кто волокъ и тяжелаго, чернаго, тиннаго сома, и мертвое чудовище закатывало бѣлыя бусины глазъ, а за хвостомъ сома, волочащимся въ пыли, бѣжала кошка, призывно и жадно мяукала и хватала хвостъ когтистой лапой. Ляминъ подслушалъ, какъ мужъ жаловался женѣ: молъ, жара стоитъ, а они сидятъ взаперти!
Курилъ на крыльцѣ, а цари стояли въ коридорѣ, и Николай крѣпко мялъ и сжималъ руки Александры, будто грѣлъ ихъ, будто замерзла она.
— Такая чудная погода, милая. Такая жара! Искупаться бы въ рѣчкѣ. Тутъ же есть рядомъ рѣка.
— Есть.
— А можетъ, ихъ — попросить? Ну Христомъ-Богомъ попросить! Ну не аспиды же они!
— Ты слишкомъ наивенъ.
— Я больше не могу — взаперти. Я съ ума сойду! Рядомъ, за окнами, садъ шумитъ. А мы даже въ садъ не можемъ выйти и погулять вволю! Ну на что это похоже!
— Ни на что.
— Солнышко, почему ты мнѣ такъ отвѣчаешь? Я обидѣлъ тебя, да? Тогда прости.
— Нѣтъ, любимый. О чемъ ты говоришь. Никогда ты не можешь меня обидѣть. Скорѣе — я тебя.
— Я хочу воздуха. Воздуха! У меня легкія слиплись! Они даже форточку уже не разрѣшаютъ отворять! Это же тюрьма!
— Да. Тюрьма.
И на этомъ словѣ разговоръ оборвался. Концы нитей еще помотались въ воздухѣ вздохами, всхлипами. Потомъ и они исчезли. Ляминъ докурилъ цигарку и пощупалъ рукой щетину надъ губой.
…Онъ такъ часто схватывалъ волчьими ушами ихъ разговоры, бесѣды, обрывки раздумій вслухъ, что ему стало казаться — онъ нѣкій потайной ящикъ, куда всѣ эти бесѣды и шепотки прячутъ, приберегая, аккуратно складывая, до поры: можетъ, память обо всемъ этомъ кому пригодится.
…Бэби спалъ нынче? Плохо спалъ. Нога болитъ? О да, болитъ, онъ хоть и не жалуется, да я же вижу. Докторъ осматривалъ? Довольно долго. Щупалъ ногу, а мальчику, кажется, было больно. Онъ закусилъ губу. Онъ у насъ очень терпѣливый. Это онъ въ тебя. Нѣтъ, въ тебя. Какъ онъ сегодня будетъ у насъ гулять въ саду? Ты понесешь его на рукахъ? Нѣтъ, покатимъ. Въ коляскѣ? Нѣтъ, комендантъ распорядился привезти кресло-каталку, и его уже привезли. У него такія огромныя колеса, даже страшно. И серебряныя спицы. Милая, какое сегодня солнце! Оно пробиваетъ даже эту чортову известь на стеклахъ. Милый, развѣ можно упоминать вслухъ имя сатаны. Сейчасъ же перекрестись и попроси у Господа прощенья. О да, ты права. Господи, прости меня и мою душу грѣшную!
…Солнце, у него боли усилились. Онѣ невыносимы. Гдѣ сейчасъ нашъ Другъ? Другъ въ землѣ. Молись о немъ. Теперь Друга нѣтъ, и у нашего мальчика есть только мы. Но мы не обладаемъ силой Друга. Богъ дастъ и намъ силы; надо только хорошенько Его попросить. Я и такъ прошу. Мало, плохо просишь!
…Осторожнѣй переодѣвай его. И тихонько вынимай изъ каталки. Не надо тревожить больную ногу. Скоро принесутъ обѣдъ. Вѣчныя котлеты, онѣ мнѣ такъ надоѣли! Благодари Бога, что есть котлеты. А если бъ ихъ не было? Если бъ супъ варили изъ щепокъ, а на второе жарили опилки? Какъ ты страшно шутишь. Не надо такъ шутить. Не буду, прости великодушно.
…Ты понялъ, что заборъ возвышаютъ? Да. А зачѣмъ? Мы же не перепрыгнули бы и этотъ. Имъ бы проще было упечь насъ въ тюрьму. Туда, гдѣ сейчасъ Климъ и Сѣдневъ. Молись за Клима и за Сѣднева! Я молюсь за ихъ души. Они привидѣлись мнѣ во снѣ мертвыми. Яма, а они на днѣ лежатъ. Безъ гроба и креста, какъ татары. Татары хоронятъ своихъ въ бѣлыхъ мѣшкахъ. Да, такъ у магометанъ. А какъ же они, тоже возстанутъ изъ земли на Страшномъ Судѣ?
…Мнѣ худо. У меня дико болятъ геморроидальныя шишки. Опять! Надо бы свинцовыя примочки. Кто мнѣ ихъ тутъ приготовитъ? Евгеній Сергѣичъ? Они не пошлютъ въ аптеку, чтобы купить дистиллированную воду. Ложись на животъ, полежи такъ! Я приготовлю тебѣ примочки сама. Солнце, зачѣмъ ты будешь со мной возиться. Я потерплю. Я хочу гулять! Когда я хожу, боль утихаетъ. Почему у человѣка все время что-нибудь болитъ? Почему онъ терпитъ боль? Христосъ терпѣлъ и намъ велѣлъ. Такъ Другъ все время повторялъ. Боль, радость — какая разница? Богу на небесахъ все равно. Значитъ, намъ тоже должно быть все равно.
…Ты нынче лежи, не вставай. И тебѣ полегчаетъ. Я знаю, надо лежать, и кровообращеніе возстановится. Покой, только покой! А гдѣ у насъ докторъ Деревенко? Онъ сегодня не приходилъ? Его давно не видно. Бэби и я, мы оба въ немъ нуждаемся. А его, видимо, къ намъ не пускаютъ. Вотъ звѣри! Милый, никогда не осуждай ближняго. Это — грѣхъ! Ты знаешь, солнце, я пересталъ понимать, что грѣхъ, что святость. Все смѣшалось. Все закрутилось въ сплошной ужасный комъ. Знаешь, на меня сегодня такъ пронзительно смотрѣлъ этотъ солдатъ, ну, этотъ, рыжій. Солдатъ Ляминъ? Ну да. Онъ рядомъ съ нами всегда. Мнѣ иной разъ кажется, онъ шпіонъ. Но мы же ничего такого не говоримъ! Мы — да. Но чужія уши могутъ услышать въ рѣчи все что угодно. И что этотъ Ляминъ? У него въ глазахъ было такое, даже передать не смогу. Ну что, что? Жалость? Сочувствіе? Нѣтъ. Хотя и это тоже. Другое. Знаешь, навѣрное, это пониманіе. Нѣтъ. Гораздо теплѣе. Теплѣе пониманья только любовь. Любовь? Неужели это любовь? А развѣ они — способны на любовь? Къ намъ, ихъ губителямъ, какъ они повторяютъ все время?
…Я сегодня ночь не спалъ. Такія сильныя боли. Я молилъ Господа: Господи, если Тебѣ нужна моя жизнь, возьми ее. Какъ ты можешь такъ просить Господа! А мы всѣ? На кого ты насъ покинешь? Насъ всѣхъ? Прости, любимая. Но такъ боли были сильны. Я просилъ не подумавъ. Въ саду такая чистая, мощная зелень! Такъ наливаются сокомъ яблоки! Они тутъ маленькія, смѣшныя, должно-быть, это китайка. Такъ пахнутъ цвѣты табака! А солдаты рвутъ листья и цвѣты табака, высушиваютъ, измельчаютъ и курятъ. Имъ не на что купить себѣ папиросы.
…Солнышко, знаешь, я чувствую что-то въ воздухѣ. Нѣчто виситъ надъ нами. Что? Они не такъ съ нами разговариваютъ. Не такъ смотрятъ. Одни смотрятъ жалѣючи, другіе — такъ, будто мы полѣнья, и насъ надо поскорѣе испилить и изрубить на дрова. Съ нами почти не говорятъ. Они съ нами — молчатъ. Они всѣ тревожны, напряжены. Можетъ, между ними тамъ идетъ раздрай? Was ist раздрай, sag mir bitte! Раздрай, родная, это такая крупная, большая и долгая ссора. Она все идетъ, идетъ и не кончается. И воздухъ вокругъ все накаляется. Хорошо бы они всѣ другъ съ другомъ поссорились! А кто-нибудь — съ нами — подружился, и мы смогли бы отсюда убѣжать! Этого никогда не будетъ. Никогда.
А тебѣ развѣ не все равно, гдѣ умирать?
Нѣтъ! Мнѣ — не все равно!
А вотъ мнѣ уже все равно.
##
— Люкинъ! Эй!
Сашка поглядѣлъ на Михаила черезъ плечо.
«На птицу большую похожъ. На дрофу».
— Што тебѣ, Мишка?
— Поди сюда. Скажу что.
Ему не хотѣлось это выговаривать громко, чтобы всѣ слышали.
«Да всѣ и такъ знаютъ. Знаютъ, знаютъ! Еще какъ знаютъ. Но каждый — другъ отъ друга — скрываетъ. И комиссары молчатъ какъ рыбы».
Люкинъ подошелъ вплотную, придвинулся къ Лямину, надавилъ плечомъ. Дышалъ табакомъ. Михаилъ видѣлъ его раздутую конскую ноздрю.
— Ну выкладай, што наболѣло. Про Пашку опять небось? Утомилъ ты тутъ всѣхъ энтой своей бабой.
— Она не баба, а боецъ Красной Арміи.
— Боецъ, боецъ. На кухнѣ рѣжетъ овецъ.
— Погодь! Дурень ты совсѣмъ.
Цапнулъ Сашку за плечо. Подъ его губами возникло Сашкино твердое, будто деревянное, ухо.
— Ты. Слушай. Челябинскъ подъ бѣляками. И они идутъ сюда.
Сашкино ухо подъ его ртомъ похолодѣло. А щека вспыхнула. Сашка отодвинулся и пытался разворошить острыми ножницами глазъ гнѣздо Михаилова лица. Пустое, сѣрое гнѣздо.
— Да ну?
— Что слышалъ. Повторять тутъ нечего.
— Побожись!
Люкинъ сложилъ губы, какъ для свиста. Сдернулъ фуражку и крѣпко почесалъ обритую почти долыса русую башку.
— Ты. Красноармеецъ ты или поповичъ?
— Ладно. Брось. — Люкинъ потеръ носъ желтымъ табачнымъ пальцемъ. Маленькіе глазки его бѣгали туда-сюда, какъ двѣ мыши, заплутавшія въ кладовой, а впереди — зѣвъ мышеловки. — Можетъ, набрехали табѣ?
— Нѣтъ. Свѣдѣнія точныя. Авдеевъ сказалъ. Мнѣ и еще Трофимову. И то нехотя. А ему — Юровскій. Юровскому по телеграфу передали. А къ Авдееву гонецъ прискакалъ. Онъ этимъ ихнимъ отрядамъ наперерѣзъ шелъ. Какъ не подстрѣлили парня, ума не приложу. Сталъ бы я тебѣ завирать.
— Такъ. Понятное дѣльце.
Снова крѣпко теръ носъ, и шмыгалъ, и кряхтѣлъ, а Ляминъ смотрѣлъ на эти ужимки и уже жалѣлъ, что сказалъ.
— Да можетъ, еще отгонятъ наши.
— А думашь, средь нашихъ не окажецца гнуса?
— Предателей?
— Да вѣдь спятъ и видятъ переметнуцца къ бѣлымъ!
— Кто?
— Такъ табѣ на тарелочкѣ и донеси.
— Наплевать мнѣ. Я — за себя отвѣчаю.
— А они, энто, въ Челябинскѣ, може, застрянутъ?
— Нѣтъ. Уже идутъ.
— Ясненько.
Люкинъ помотался, какъ пьяный, на длинныхъ худыхъ ногахъ-костыляхъ, вскинулъ сивую голову и рѣзанулъ глазами Лямина по жесткому лицу.
— И ты-то, ты што предлагашь? Всѣмъ проорать: уносите, братцы, ноги? Али — на бой кровавый, святой и правый?
Ляминъ пожевалъ губами. Сильно хотѣлось курить.
— На бой — да, это ты вѣрно сказалъ.
— Да вѣдь я про предателей-то не чешу языкомъ. Прапорщикъ Ардатовъ перешелъ уже къ бѣлымъ. Ускакалъ изъ города къ едренѣ матери. И отрядъ увелъ. А энти — наступаютъ. Будетъ, — содрогнулся, какъ звѣрь, всей спиной, — бойня.
Ляминъ ощутилъ быстрый бѣгъ мороза по кожѣ. Сколько боевъ ему суждено? Въ которомъ его убьютъ?
— Уралсовѣтъ крѣпкій. Онъ не отдастъ Екатеринбургъ. А мы на что? Выстоимъ, — говорилъ, языкомъ мололъ, и самъ себѣ не вѣрилъ. — Верх-исетскіе не дадутъ. У нихъ комиссаръ Ермаковъ. Знаешь его.
— Знаю. Онъ и сюды иной разъ наѣзжатъ.
— Крѣпкій мужикъ. Просто камень. Много бился. Опытъ имѣетъ.
— При чемъ тутъ опытъ, — Люкинъ дернулъ головой, какъ гусь. — Переколотятъ насъ, какъ вошей въ вошебойкѣ!
— Не исключено. Война дѣло такое. Ты на войнѣ всегда вѣдь готовъ къ смерти. И это страшно. Тебѣ — страшно. На Успенской площади тутъ такое было!
— Знаю.
— Народъ поднялся. Насъ не хотятъ. Собралась куча людей, вопитъ: красныхъ клоповъ долой!
— Долой, значитца. А раньше кричали — красные, защитите насъ отъ царскихъ прихвостней! Бѣляки сколь народу въ селахъ на Исети пострѣляли… порубали…
— А людямъ развѣ втолкуешь про хорошую будущую жизнь? Имъ — въ настоящемъ ее подай. Имъ все плохо, что на зубъ не положишь и не раскусишь!
— На площади-то — какъ наши справились?
— Какъ, какъ. Ермаковъ съ конными стоялъ. Голощекинъ подоспѣлъ. Юровскій прибѣжалъ съ людьми своими. Съ латышами. И съ заводскими, со злоказовскими. Навалились. Но, по слухамъ, долго толпу эту разгоняли. Народъ, онъ страшенъ, если его — много!
— Да ужъ знаю.
— Сашка! Да вѣдь народъ — это мы и есть?
Люкинъ слегка отупѣлъ отъ такого вопроса.
— Да. Выходитъ, што такъ.
— Значитъ, народъ правъ? И мы, окажись мы въ той толпѣ, мы бы тоже такъ могли?
— Какъ?
— Ну, кричать: долой красную сволочь!
— Мишка, — придвинулся къ нему горячей колючей щекой Люкинъ. — Мишка, я не пойму, ты мене на пушку берешь али ты сурьезно? Може, шуткуешь? Какая красная сволочь? Игдѣ?! Люди… едрить ихъ… просто устали, слышишь! Устали, вымоталися!
— А Юровскій вѣщаетъ: міровая революція, — улыбаясь, сказалъ Ляминъ холодными онѣмѣлыми губами. «Будто мятныхъ конфектъ накушался».
— А мы бы ищо привалили бъ на ту площадь, вразъ бы энтотъ мятежный народецъ разогнали. Площадь бы — отъ говна — расчистили.
— Люди, Сашка, не говно.
— А насъ вѣдь тутъ, — Люкинъ мотнулъ башкой, обведя теменемъ крупный кругъ, — полнымъ-полно. Бойцовъ двѣсти всѣхъ будетъ, я не считалъ. Но прикидываю. И што? Мы тутъ энтихъ дармоѣдовъ охранямъ. А могли бы — городъ отъ мятежа спасти!
Ляминъ морщился. На душѣ было темно, гадко.
«Мятежъ, мятежъ. Мять и бить кого-то живого. Опять варить кровавую кашу. А можетъ, это мы, красные, для нихъ для всѣхъ — мятежники, а они, народъ, невинные мученики? И бѣляки, что хотятъ царя на тронъ вернуть, правы, а мы — ошметки и обноски, и — сжечь насъ, въ костеръ!»
— Такъ намъ надо было самимъ.
— Самимъ, легко сказать! Попробуй самъ сабѣ отдай команду! Чай, у насъ командиры есть. Да словно въ ротъ воды набрали. Вотъ про взятіе Челябинска я отъ тибя узналъ. И ты таисся. Нѣтъ бы намъ всѣмъ — въ полный голосъ провѣщать! Глядишь, и по-иному бъ дѣло пошло!
…Авдеевъ явился и прокричалъ:
— Арестованныхъ нынче въ садъ не выпускать!
— Слушаюсь, товарищъ комендантъ, — сдвинулъ сапоги Ляминъ.
Сегодня онъ долженъ былъ выводить царей изъ комнатъ — во дворъ.
Авдеевъ выглядѣлъ неспавшимъ, лицо его напоминало мятый старый сапогъ.
— Боецъ Ляминъ, проведи меня къ Романовымъ. Живѣй!
По Дому не шли — почти бѣжали.
Навстрѣчу по коридору медленно шелъ докторъ Боткинъ. Авдеевъ внезапно остановился и ухватилъ доктора за рукавъ.
— Вотъ что! Мнѣ надо съ вами переговорить. Ляминъ! Насъ охраняй! Чтобъ никто не подслушалъ!
Авдеевъ былъ трезвый и злой. И очень, слишкомъ встревоженный.
Они, втроемъ, спустились на первый этажъ.
— Куда податься? А, вотъ въ кухню.
Нажалъ плечомъ на дверь кухни.
— Никого тутъ? Ага, никого! То, что надо.
Не замѣтилъ присѣвшую на корточки за огромными кастрюлями — Пашку.
— А это кто тутъ хоронится?! А, это ты, боецъ Бочарова! Освободи помѣщеніе. Быстро!
Пашка, крѣпко затягивая на затылкѣ узелъ платка, вышла изъ кухни, презрительно вильнувъ задомъ. Ляминъ старался не смотрѣть, какъ она идетъ и выходитъ.
— Ляминъ, встань около двери! И никого не впускай.
— Слушаюсь, товарищъ комендантъ.
Онъ всталъ къ двери, поправилъ ремень винтовки на плечѣ. Винтовка вдругъ стала очень тяжелой, будто за плечомъ у него висѣлъ пудовый мѣшокъ — съ зерномъ-ли, съ солью.
Авдеевъ и Боткинъ усѣлись за кухонный столъ. На раздѣлочной доскѣ лежала сиротливая, уже зачерствѣлая горбушка ржаного. Разбросаны крошки, валяется тесакъ. Въ печи медленно догораютъ дрова, обращаясь въ черныя, съ синими огнями, головни.
— Евгеній Сергѣичъ. Выслушайте меня внимательно и не перебивая. А то я самъ спутаюсь. Мы опасаемся возстанія. Очень опасны въ городѣ стали анархисты. Вамъ всѣмъ, возможно, скоро придется отсюда уѣхать. Да, да, это правда, не смотрите-же на меня такъ ужасно!
Авдеевъ дернулся на стулѣ, какъ подъ токомъ, подъ безпомощнымъ, почти дѣтскимъ взглядомъ доктора поверхъ смѣшныхъ, съ круглыми стеклами, очковъ.
— Анархія — страшная штука! Вы еще не знаете, что это такое. Я — знаю. Меня самого чуть не растерзали, какъ звѣри добычу, анархисты… около Кіева. Я вѣдь много чего повидалъ, пока вы тамъ… въ вашихъ дворцахъ… возсѣдали. — Опять дернулся, кинулъ мрачный взглядъ на Лямина, мертво застывшаго у двери. — Поэтому я и толкую вамъ…
— Мы куда отъѣдемъ?
Голосъ доктора Боткина былъ спокоенъ и глухъ.
— Да куда угодно! Лишь бы подальше! Хоть… въ Москву. Поѣздъ будетъ заказанъ… заказанъ… — Авдеевъ затрясъ губами. — Литерный… И потому… вамъ надо приготовиться къ скорѣйшему отбытію. Къ скорѣйшему, вы слышали! Это значитъ — начинайте собираться немедленно! Укладывайте вещи. Много не берите. Много чего придется оставить здѣсь… я понимаю, какъ бы вамъ ни было жаль… но… лучше ѣхать налегкѣ. Только самое необходимое! Вы поняли?
— Понялъ.
Боткинъ склонилъ голову. Ляминъ смотрѣлъ на него, представляя его въ бѣлой врачебной шапочкѣ.
— Ну и хорошо. — Авдеевъ нервно облизнулъ ротъ. — Ступайте! Скажите — имъ! Но только чтобы безъ паники. Безъ этихъ аховъ, оховъ! Твердо скажите: собираемся! Но — только тихо! Чтобы не увидѣлъ, не услышалъ караулъ! Въ полной, слышите, тишинѣ. Тайно! Никому ни слова. Молчите. Будто бы… ну… дѣлаете свои дѣла. Двигайтесь просто какъ мыши!
— Мыши, — тихо, потерянно произнесъ Боткинъ.
«Мыши. Это вѣдь люди. Шила въ мѣшкѣ не утаишь».
Ремень винтовки все больнѣе врѣзался въ плечо, прорѣзалъ ткань гимнастерки.
— Не привлекайте ничьего вниманія!
— Я васъ понялъ, господинъ… товарищъ комендантъ, — выдохнулъ докторъ Боткинъ устало.
А Ляминъ все глядѣлъ на эту раздѣлочную доску; вмѣсто хлѣбныхъ крошекъ и черной горбушки ему тамъ мерещились куски мяса, мясная красная обрѣзь, хрящи и жилы, и мозговыя кости, и ребра, и сложенные въ синюшную мушиную кучу потроха.
… — Скажи имъ: сейчасъ не ѣдемъ. Остаемся еще на пару дней.
Ляминъ подошелъ къ комнатѣ, воткнулъ голову въ бѣлесый туманъ за дверью, прокричалъ:
— Комендантъ приказываетъ! Отставить сборы! Пока — остаетесь здѣсь!
Царь медленно поднялъ голову отъ чемодана. Онъ сидѣлъ передъ чемоданомъ на корточкахъ и утрамбовывалъ поклажу.
«И что возятъ, возятъ за собой всѣ эти безполезныя тряпки. Выкинуть все да и сжечь. Или — нищимъ раздать. Пускай въ царскихъ одежкахъ пощеголяютъ».
Волосы бороды, сѣдые и золотые, кривыми лучами расходились отъ средоточія, отъ печальнаго маленькаго, какъ у женщины, рта.
Разогнулъ колѣни и съ трудомъ всталъ.
«Болятъ колѣнки-то. Старѣетъ. Мерзляковъ болталъ — ему ужъ пятьдесятъ».
— Что, что?
— Не ѣдемъ, — уже тихо сказалъ Ляминъ, глядя царю сначала въ ротъ, а потомъ въ глаза.
Царь потеръ ладонями вытянутые на колѣняхъ штаны.
— Хорошо. Спасибо, товарищъ Ляминъ.
— Не за что. Приказъ.
— Приказъ есть приказъ.
— Киньте, — Ляминъ рукой махнулъ, — всю эту канитель.
— Хорошо. Пусть такъ все останется. Ничего не будемъ раскладывать снова. Пускай по-бивачному.
…Ужинали молча. Глотали и давились. Подъ чужими глазами, подъ вѣчнымъ наблюденіемъ. Нынче обошлось безъ привычныхъ смѣшковъ и грубостей. Всѣхъ, и охрану и царей, вечеръ будто накрылъ тяжелой свинцовой крышкой. И жара упала; надвинулись тучи, разметали по небу путаную шерсть, зарядилъ дождь, зашлепалъ по крышѣ и стрѣхамъ. Авдеевъ ужиналъ вмѣстѣ со всѣми. Молча, сосредоточенно жевалъ жесткую котлету. Шепталъ съ набитымъ ртомъ: «Пережарили, дряни». Ляминъ глядѣлъ: у коменданта красный носъ, красныя щеки, пальцами игриво пошевеливаетъ на столешницѣ, — значитъ, уже чуть навеселѣ.
Пашка и кухонная бабенка унесли грязную посуду. Авдеевъ всталъ, уперся пальцами въ доску стола и замѣтно качнулся. Лицо его, какъ всегда, когда онъ выпивалъ, становилось сытымъ, кошачьимъ.
— Граждане арестованные, эй! Вни-ма-ні-е. Объявляю вамъ. Анархисты… пойманы. И посажены, ну да, въ тюрьму. Опасности для васъ нѣтъ! Отъѣздъ — отмѣняется!
Изъ-подъ носа у великихъ княжонъ бабы выдергивали пустыя тарелки. Утаскивали. Обнажались голыя, въ крошкахъ, доски.
Царь безпомощно посмотрѣлъ на жену. Она остро глянула на мужа и отвела взглядъ.
«Ничему не вѣритъ. Знаетъ, что послѣ этой команды запросто можетъ раздаться другая: быстро собирайсь! Пролетки у параднаго!»
— Ну да, что таращитесь? Не ѣдемъ никуда! Спать ложитесь, граждане, спать!
Глазами сладко обвелъ груди Ольги подъ кружевнымъ лифомъ.
И вдругъ наслѣдникъ зѣвнулъ. Во весь ротъ. Показавъ зубы. И даже не прикрывъ ротъ рукой.
— Алексѣй! Что ты дѣлаешь!
Мать даже задохнулась отъ негодованія.
— Скучно! — громко, раздѣльно произнесъ мальчикъ, словно ему было больно и онъ никакъ не могъ выкричать эту боль. А можетъ, такъ оно и было.
Анастасія опустила голову такъ низко надъ столомъ, что ея лобъ едва не коснулся грязной столешницы.
— И мнѣ тоже скучно.
Ляминъ видѣлъ, какъ по крѣпкой, не ущипнешь, щекѣ Маріи ползутъ слишкомъ дѣтскія, запрещенныя строгими взрослыми слезы. Ему захотѣлось встать такъ, чтобы мать не увидѣла эти слезы и не взъярилась. Не накричала на дочь.
— Мама, а мы что, уже въ Москву не ѣдемъ? — такъ же громко и отчетливо, вызывающе спросила Татьяна.
Авдеевъ нетвердо ковылялъ къ выходу изъ столовой. У двери замеръ, взялся рукой за плохо крашенную, шершавую притолоку.
— Не ѣдете, мать вашу черезъ коромысло. Не ѣдете! Сказано вамъ! Уши къ головѣ привинчены?!
Царь согнулся надъ столомъ и закрылъ уши ладонями.
А Ольга, напротивъ, выпрямилась — и закрыла ладонями глаза.
##
Въ Домъ явились двое. Они ихъ помнили въ лицо.
Эти люди встрѣчали ихъ въ Екатеринбургѣ; и они думали, эти лица будутъ мотаться передъ ними все время, а они помаячили передъ царями въ день пріѣзда — и слизало ихъ коровьимъ языкомъ быстрое, жаркое и влажное время.
Военный комиссаръ Шая Голощекинъ, товарищъ Филиппъ, и рядомъ хорошее такое, скуластое, чуть полноватое, круглое доброе лицо молодого: товарищъ Бѣлобородовъ. Ляминъ встрѣтилъ обоихъ на крыльцѣ, отдалъ честь. Голощекинъ радостно поглядѣлъ на Михаила.
— Гдѣ такъ загорѣлъ, боецъ?
— Не загорѣлъ, а — закалился!
Бѣлобородовъ ткнулъ пальцемъ въ бокъ Голощекину.
— Эхе-хе, я серьезно, а ты все въ шутку обращаешь.
Ляминъ разулыбался. Отеръ со лба и щекъ потъ, да онъ все равно текъ и текъ изъ-подъ фуражки.
— Такъ мы жъ все времечко на солнышкѣ, товарищъ комиссаръ!
«Добрые какіе. И не скажешь, что свирѣпые. Что звѣрски съ бѣляками дерутся. Уже много земли нашей отъ бѣлаго дерьма почистили. И — доброты не утеряли».
Душа Лямина разъединилась. Одна половина восхищалась красными комиссарами. Другая опасливо ежилась, болѣзненно ныла: а что, что они тебѣ устроятъ завтра?
«О завтра — не думать. Это запрещено».
— Товарищъ комиссаръ, а вопросъ можно?
— Задавай, боецъ.
У него внутри словно вѣтеръ мощный задулъ, когда онъ вдыхалъ воздухъ, чтобы выдохнуть вопросъ.
— Мы Екатеринбургъ — защитимъ? Или намъ придется… отходить?
Чуть не сказалъ: драпать.
Голощекинъ изъ живого человѣка мгновенно превратился въ чугунный черный шаръ на чугунныхъ ногахъ.
— Ты вотъ что, боецъ…
— Ляминъ, товарищъ комиссаръ.
— Боецъ Ляминъ. Ты взрослый человѣкъ. И все понимаешь. И — воевалъ. Воевалъ?
— Такъ точно, товарищъ комиссаръ. Воевалъ.
— И раненъ бывалъ?
— Такъ точно.
— Самъ знаешь, что такое война. Города сдаютъ, города берутъ. Кутузовъ вонъ сдалъ Москву. И Москва — горѣла. Вся сгорѣла къ едренѣ матери! Зато потомъ мы французовъ погнали. Исторію знать надо!
Бѣлобородовъ стоялъ рядомъ и странно, по-дѣтски улыбался.
— Гдѣ арестованные? Гуляютъ?
— Нѣтъ, товарищъ комиссаръ. Въ комнатахъ.
— Хорошо. Пошли, Бѣлобородовъ, подымемся къ нимъ.
…Когда по лѣстницѣ поднимались, перекинулись парой словъ межъ собой. Михаилъ навострилъ уши. Ему показалось: онъ волкъ, и слушаетъ опасные лѣсные звуки.
— Падетъ городъ. Какъ скотина, падетъ.
— Бѣжать? Въ Москву?
— А какой другой выходъ? Не въ Мурманскъ же?
— Безъ разрѣшенія Ленина ничего дѣлать не будемъ.
— А если рискнуть?
— Нужно согласіе Ленина и Свердлова. Самочинство тутъ не пройдетъ. Ты знаешь о томъ, что Михаилъ…
Ляминъ вздрогнулъ, его имя произнесли.
И дальше шопотъ: Голощекинъ приблизился къ Бѣлобородову и оставшіяся слова высыпалъ ему прямо въ готовно подставленное ухо. И ступени скрипѣли. И половицы пѣли.
«Нѣтъ, это не обо мнѣ. Какого чорта я тутъ затесался. Кто я такой! Мелкая сошка. О какомъ-то другомъ Михаилѣ толкуютъ».
И пѣли, пѣли птицы за окномъ, за парадной тяжелой дверью.
##
— Настя, поздравляемъ тебя!
— Stasie, тебѣ семнадцать! Такая прелесть!
— Дѣвочки, ну не зацѣлуйте меня.
— Настя! Подойди ко мнѣ!
— Папа, держи Алешиньку крѣпче, не урони.
— Вотъ, и вотъ, и вотъ. Вотъ тебѣ! Троекратно!
— Какъ въ Пасху…
— А можетъ, у насъ вѣчная Пасха! Христосъ же всегда воскресаетъ, всегда! Каждый день!
— Настинька, желаю тебѣ… всего того, что можно пожелать своей любимой доченькѣ въ семнадцать лѣтъ…
— А я развѣ нелюбимая?!
— А я!
— А я!
— Дѣти, вы всѣ, всѣ самые мои любимые… вы же знаете…
— Стася, дай поглядѣть, что тебѣ мама подарила! Ой! Какое чудо! Что это?
— Это мастеръ дѣлалъ, ювелиръ? Но насъ же не выпускаютъ никуда…
— Это я сама дѣлала, дѣти.
— Мама! Но ты лучше всѣхъ ювелировъ на свѣтѣ!
— Жемчужина у меня давно хранилась… а оправу изъ серебряной проволоки я давно приготовила. Сплела…
— А чѣмъ ты жемчужину прикрѣпила? Чѣмъ?
— Клеемъ…
— А кто тебѣ его принесъ?
— Файка Сафоновъ!
— Боже! Это тотъ идіотъ, что рисовалъ непотребства на стѣнахъ!
— Да. Это онъ.
— И ты взяла?! Изъ его рукъ?!
— Онъ сталъ другимъ. Я за него молюсь.
— Не станетъ онъ никогда другимъ! И всѣ они — не станутъ!
— Доченька, Христосъ пришелъ не къ праведникамъ, но къ грѣшникамъ.
…Жара опять вернулась, безжалостно убила дождь. Жара обнимала небо и рушилась на землю съ воплемъ, съ воемъ: выли клаксоны моторовъ на улицѣ, выла баба за бѣлыми окнами, быть-можетъ, раздирая грудь и вырывая волосы на головѣ, причитая: убили! убили! Убивали на каждомъ шагу, убивали ни за что и за дѣло, убивали просто такъ и по великой, ничѣмъ не вытравимой ненависти; убивали походя, играючи, играя ножомъ или наганомъ, и убивали четко, вывѣренно, разсчитанно, продуманно, выстраданно. Революція была временемъ убійствъ, а дѣвочки Романовы хотѣли научиться готовить. Имъ разрѣшено было каждый день отправляться на кухню, къ повару Харитонову, и Харитоновъ училъ ихъ замѣшивать тѣсто, кислое и прѣсное, и ставить хлѣбы, и ставить опару такъ, чтобы она подходила весело и споро, и чтобы печиво изъ нея получалось пышное и душистое.
Послѣ ужина онѣ, всѣ четверо дѣвчонокъ, оставались на кухнѣ, и Харитоновъ не уходилъ, хотя очень уставалъ къ концу дня; и онъ показывалъ имъ, какъ нужно мѣсить муку, какъ разбивать яйца и выливать въ кратеръ сверху мучной горки, и потомъ вливать туда простоквашу, а потомъ класть сметану, а если яицъ мало, можно добавить и молока, только надо разсчитать и не перелить, а то вмѣсто пироговъ, ваши высочества, у васъ выйдутъ блины. Блины! Блины! Это тоже прекрасно! Блины, Оличка, испеки мнѣ блины, я хочу блиновъ! Тебѣ?! Одной тебѣ?! Хитрая какая! Тебѣ, и больше никому!
Ну… намъ всѣмъ… всѣ блиновъ хотятъ…
Онѣ замѣшивали тѣсто на ночь, и оно поднималось и вспучивалось, а утромъ, послѣ молитвы, гурьбой бросались на кухню — глядѣть, во что превратилась чудесная опара; и Харитоновъ училъ ихъ лѣпить караваи, и закладывать хлѣбы въ печь, а Марія уже совсѣмъ недурно, быстро и сноровисто, разжигала въ печи огонь. Сначала меленькихъ вѣточекъ наложить, и щепки для розжигу; потомъ, когда пламя займется, подкладывать маленькія полѣнца; а потомъ можно и покрупнѣе бревешки. Машка! Да ты настоящая баба! Настя, что ты орешь на весь домъ!
Старуха сидѣла въ спальнѣ. До нея доносился запахъ свѣжеиспеченнаго хлѣба.
Она закрывала слезящіеся глаза ладонью и батистовымъ платкомъ.
##
Свѣтъ. Но это и не свѣтъ.
Если у тебя закрыты глаза — ты видишь сквозь вѣки свѣтъ?
Да, видишь. Чувствуешь. Слѣпые тоже чувствуютъ. Но они плачутъ, потому что сознаютъ: это не настоящій свѣтъ. Это его дыханіе. Его слѣпое, какъ у слѣпого щенка, тыканье носомъ: въ твои колѣни, въ твой склоненный лобъ, въ твои губы.
Свѣтъ сквозь замазанныя бѣлой краской окна. Оконъ нѣтъ. Это не окна и не стекла. Это твои живыя вѣки, а развѣ подъ ними живутъ глаза? Глаза тебѣ выкололи. Тебя ослѣпили.
И ты только притворяешься, что у тебя есть глаза: ты рано утромъ встаешь и глядишь на икону, а святой глядитъ мимо тебя, поверхъ тебя. И ты его не видишь, и онъ тебя не видитъ. Вы оба не видите другъ друга. Это наступилъ конецъ свѣта?
Ты глядишь на человѣка, что вошелъ къ тебѣ въ комнату; у него есть лицо, есть двѣ руки и двѣ ноги, да, по всѣмъ примѣтамъ это человѣкъ, но ты не видишь въ немъ человѣка. И страшно это, и ты притворяешься, что видишь его, и улыбаешься ему, а онъ считаетъ тебя и васъ всѣхъ по головамъ.
Всѣ ли тутъ, не убѣжалъ ли кто. Не ушелъ ли изъ стойла.
Ты глядишь на исписанный листъ бумаги. Это человѣчье письмо, его принесли тебѣ сегодня утромъ. Ты глядишь на кривыя, мчащіяся быстрѣе паровоза буквы и не видишь, въ какія слова онѣ сливаются. Онѣ всѣ отдѣльныя. Нѣтъ словъ, и нѣтъ мыслей. Есть несчастная черная вязь поверхъ бѣлаго, стылаго зимняго плата, поверхъ этой бѣлой извести, которой закрытъ міръ.
А вотъ, смотри, это ѣда, ее разрѣшили приносить вамъ изъ Новотихвинскаго монастыря, отъ сердобольныхъ монашекъ: мать игуменья, о, добрая такая, она два, три раза въ недѣлю посылаетъ вамъ монастырскіе святые дары: куриныя крупныя яйца въ красноталовыхъ корзинкахъ, снятыя ложкой-шумовкой жирныя сливки въ маленькихъ стеклянныхъ банкахъ и глиняныхъ крынкахъ и молоко въ огромныхъ, какъ изъ-подъ хмельной корчмы, длинногорлыхъ бутыляхъ. Славьтесь, безвѣстныя монашки и съ ними мать игуменья! А ты, ты молись за нихъ, пока у тебя достанетъ силъ молиться.
Гляди на ѣду, видишь ее? Неужели не видишь?
Видишь и не видишь, какъ такое можетъ быть?
Да, она сейчасъ исчезнетъ. Вы всѣ съѣдите ее. И это утро исчезнетъ, и этотъ день исчезнетъ. Провалится въ дымъ и туманъ. Въ бѣлые потеки извести.
Все, что вы носите, вся одежда и обувь ваша, и беретики вязаные, и халаты, обшитые сѣвернымъ кружевомъ, и собольи и бѣличьи шубки, и кители, и гимнастерки, и пеньюары, и сорочки, и все-все носильное, милое сердцу и близкое тѣлу, все исчезнетъ, развѣется прахомъ, а можетъ, сожжется; да, сгоритъ, это вѣрнѣе всего, сейчасъ же все поджигаютъ и жгутъ, и огонь, онъ жадный и ненасытный, онъ съѣдаетъ все. И вы сами — его скорая пища.
Всѣ мы — пища другъ друга, и трапеза Бога; такъ что же тутъ роптать? И, главное, на что же тутъ надѣяться?
Ты открылъ громадную бутыль — хотѣлъ налить въ стаканъ молока — а вмѣсто пробки у тебя въ пальцахъ — свернутая въ трубку бумага. Записка. Письмо. Буквы опять бѣгутъ, не успѣешь сложить въ слова. Надо встать ближе къ слѣпому окну, сосредоточиться и читать вслухъ, тихо шевеля губами и повторяя эти, вотъ эти, уже ставшія странными, чужими, простыя слова.
Посмотри на него. Ты же не слѣпая, ты же еще видишь его. Онъ твой отецъ и твой царь. Усы цвѣта лисьей шерсти. Въ бородѣ сѣдыя вьюжныя нити. Борода прокурена, какъ у простого солдата. Плечи чуть опущены: сутулится. Теряетъ военную выправку. Глаза летаютъ по непонятнымъ строчкамъ. Ловятъ буквы, какъ бабочекъ. Въ глазахъ то озерная зелень, то небесная синь, то несутся сѣрыя, дикія тучи и быстрѣе тучъ — дикія утки. Шея отощала, а вѣдь мощная была. Онъ занимался борьбой, лондонской гимнастикой и нѣмецкой штангой. Окликни его! И онъ оторвется отъ напраснаго чтенья. Онъ повернетъ голову и взглянетъ на тебя.
А ты посмотришь на него.
И не увидишь его.
И онъ не увидитъ тебя. Такъ все просто.
Ты только слышишь, какъ онъ, съ бумагой въ рукахъ, нервно ходитъ по комнатѣ. Военный шагъ. Онъ печатаетъ шагъ, вдавливая сапоги въ половицы. Комната, вѣдь это не плацъ. Тюрьма — не воздухъ поля! Это сраженіе невидимое. Оно для слѣпыхъ и глухихъ. И о твоей смерти на полѣ этого боя никто и никогда не узнаетъ.
И не узнаешь даже ты самъ. Не догадаешься. Зачѣмъ догадываться, когда и такъ все исчезнетъ?
Ты, съ исписанной бумагой въ рукахъ, пытаешься глядѣть на вошедшаго якобы человѣка. Отъ темной неясной фигуры пахнетъ алкоголемъ. Этотъ человѣкъ по утрамъ приходитъ къ тебѣ съ великаго похмелья. А ты на него не смотри. Ты посмотри на своихъ дѣтей. Ты видишь своего ребенка? Онъ лежитъ въ кровати. Онъ улыбается или плачетъ? Тянетъ къ тебѣ руки или отталкиваетъ тебя? Все равно. Ты исчезнешь, онъ исчезнетъ.
Сильно и остро, и гадко пахнетъ водочнымъ перегаромъ. Нельзя нюхать этотъ запахъ.
Слишкомъ открыто стоишь ты передъ нимъ съ чужимъ письмомъ; онъ это не ты, онъ все видитъ.
Нѣтъ! Онъ смотритъ и не видитъ.
Или дѣлаетъ видъ, что не видитъ.
А можетъ, онъ самъ это письмо и написалъ?
…Какъ хочется выпить хорошаго вина.
Бокалъ хорошаго краснаго вина, съ виноградниковъ Роны, съ виноградниковъ Бургундіи. Въ Бургундіи хорошо дѣлаютъ сливовую водку, онъ знаетъ. А въ Дофинэ — великолѣпную грушевую настойку и персиковый спиртъ. Нѣтъ жизни безъ вина; но и вино исчезло, а жизнь?
Она еще здѣсь. Еще съ тобой.
…Смотри на своего отца. Онъ глядитъ на коменданта и не видитъ, онъ глотаетъ слюну и воображаетъ себѣ темнокрасное вино въ длинномъ хрустальномъ бокалѣ.
…Смотри на свою дочь. Она стоитъ у двери, и книга въ ея рукахъ. И заоконная известь ложится блѣдными пятнами ей на щеки и шею.
…Ты, старуха, смотри на дѣтей своихъ. Ихъ повѣсятъ на высокихъ крестахъ, на сырыхъ перекладинахъ, и ты будешь стеречь ихъ, бѣгать вокругъ нихъ съ пучкомъ розогъ и отгонять воронъ. Нѣтъ, это не ты, а Рицца! Или, можетъ, это Агарь въ пустынѣ.
…Голоса. Голоса. Слушай, это переговариваются твой отецъ и чужой, съ похмелья, человѣкъ. Они обмѣниваются рваными рѣзкими фразами. Слова рвутся на тряпки, на военные бинты. Человѣкъ, пахнущій перегаромъ, не беретъ у твоего отца изъ рукъ исписанную бумагу. Онъ лишь глядитъ на нее. Глядитъ и не видитъ.
…Ты стоишь и не видишь, что не видятъ тебя; тебѣ кажется — ты весь на просвѣтъ.
И всѣ уже давно знаютъ, что въ письмѣ написано.
Въ томъ письмѣ тебѣ пишутъ о твоемъ побѣгѣ изъ твоей тюрьмы; но тюрьма тоже исчезнетъ, правда, послѣ твоей смерти, а тебѣ не все ль равно?
Да. Тебѣ все равно.
Бумага истлѣетъ. Разсказы забудутъ. Пули навѣкъ застрянутъ подъ ребрами.
Что же останется?
И, главное, — зачѣмъ?
Чужой человѣкъ съ запахомъ перегара уходитъ. Ты мнешь письмо въ пальцахъ. Твоя жизнь расписана по секундамъ, только ты не знаешь объ этомъ. Все засекретили. И разсекретятъ уже послѣ, потомъ.
А когда будетъ это потомъ?
А можетъ, его не будетъ никогда.
##
Ляминъ глядѣлъ, глядѣлъ, глядѣлъ на этого, лобъ въ морщинахъ, бойца. Все глядѣлъ, и что-то толкало его изнутри.
«Гдѣ-то видѣлъ я его. Точно! Гдѣ-то… точно…»
Росточку небольшого. Лицо широкое въ скулахъ, узкое къ подбородку: степняцкое лицо, кочевное. Въ плечахъ тоже широкъ, крѣпокъ. Глаза раскосые, монгольскіе, острые: не подходи близко — наколешься. Смуглый. Это не загаръ — отроду такой. Фуражка сидитъ на немъ нелѣпо, мятой сковородой. А красотой мужицкой, сильной и храброй, весь горитъ. Ходитъ вразвалку. А надо поспѣшить — идетъ быстро, какъ конь, наметомъ, почти летитъ.
«Кого напоминаетъ онъ мнѣ? Кого…»
Самъ надъ собой посмѣялся: Ленина, вотъ кого. Какъ вождя на плакатахъ рисуютъ.
Однажды, такъ искоса разсматривая его, вдругъ увидалъ: изъ разстегнутаго ворота его гимнастерки вывалился, на тяжелой, крупной мѣдной цѣпочкѣ, позеленѣлый мѣдный натѣльный крестъ. Боецъ стоялъ, нагнувшись, оттиралъ съ сапога грязь, мѣдный крестъ качался на цѣпочкѣ, какъ маятникъ, — и вдругъ Лямина прошибло. Онъ отеръ со лба потъ и шагнулъ къ смуглому раскосому бойцу. Тотъ выпрямился. На Лямина мрачно смотрѣлъ.
— Павелъ… Еѳимычъ?
Въ горлѣ пересохло. И больше ничего спросить не могъ.
Боецъ Ереминъ вглядывался въ лицо рыжаго охранника.
— Да никакъ… Минька?!
Еще мигъ, другой топтались другъ возлѣ друга, какъ медвѣди, не въ силахъ другъ друга обнять.
Обнялись. Маленькій Павелъ Еѳимычъ, обхвативъ, легко, какъ перо, приподнялъ Михаила.
— Мишка, Ляминъ!
— Онъ самый. А я все гляжу, думаю…
— Что глядѣть! Подошелъ бы, въ лобъ спросилъ! А то стѣсняется!
— Павелъ Еѳимычъ… — Воздуха въ груди не хватало. — Зачѣмъ мы оба…
— Тутъ? — докончилъ Ереминъ. — А объ этомъ одинъ Господь знаетъ.
— Нѣту никакого Господа!
Выкрикнулъ и испугался, а послѣ засмѣялся.
Ереминъ смотрѣлъ на него строго. Узкіе глаза еще больше сузились, прошивали темное, цвѣта очищенной вяленой тарани, лицо двумя иголками.
— Это ты врешь.
— Павелъ Еѳимычъ!
— Эхъ, Мишка…
— Сколько смертей! А вы о Господѣ.
— Еще Его вспомнишь.
Ереминъ повертѣлъ мѣдную пуговицу на Мишкиной груди.
— Пойдемъ покуримъ? Къ забору?
— Идемъ.
Пошли, и стали у забора, и стояли, смолили, то коротко, весело взглядывая другъ на друга, то желая что-то говорить, но слова вдругъ сами куда-то исчезали, и не нужно было ихъ ловить: достаточно было вдыхать дымъ и черезъ этотъ дымъ глядѣть другому въ лицо — и передъ Михаиломъ вставалъ Новый-Буянъ, какъ живой, съ церковкой, съ желтѣющими по осени лугами, съ холмами и перелѣсками, — и вотъ она, Волга, Волженька, синевой бьетъ по глазамъ, по сердцу, сперва вспыхивая за поворотомъ дороги, потомъ открываясь вся, просвѣченная солнцемъ, теплая, то желтая-золотая, медовая, то густо-синяя, то сморщенная вѣтромъ, съ яростными гребнями-бѣляками, — и за спиной Еремина волной вставала вся эта мирная убитая жизнь, весь его рухнувшій въ одночасье міръ, — а можетъ, не въ одночасье погибъ, а постепенно, медленно, но вѣрно грызли его жуки-точильщики, сосали клещи. Миръ! Волга! Рыба! Поля! Косьба! Пирогъ въ печи! И его семья, могла бы быть… Наталья… дѣтки кругомъ ползаютъ, вокругъ его начищенныхъ воскомъ сапогъ, а кто и ходитъ уже.
— Эй! Минька! Что призадумался?
— Да нѣтъ, ничего, Павелъ Еѳимычъ.
Ереминъ дососалъ «козью ножку», склонилъ голову, какъ большая птица, однимъ глазомъ глянулъ на Лямина.
— Ты вотъ что. Ты Бога не ругай, еще чего выдумалъ. Я вѣдь помню, какъ ты къ Наташкѣ сватался. Помнишь Наталью-то?
Отъ Еремина исходилъ еле слышный, призрачный запахъ Буяна. Сѣна. Рыбьей чешуи. Сосновой смолки.
Михаилъ склонилъ голову, и чуть не упала фуражка.
— Помню.
Ереминъ шагнулъ къ нему, и носокъ ереминскаго сапога наступилъ на ляминскій носокъ.
— Вотъ все закончится…
Молчаніе шаталось между нихъ, брало ихъ за плечи, выворачивало руки, нагибало шеи. Они подчинялись молчанью.
— И что?
Онъ уже зналъ, что Ереминъ скажетъ.
— Вотъ все закончится… возвращайся — да сватайся снова… я не прочь, чтобы ты зятемъ…
Голова закружилась. Ляминъ все вдыхалъ и вдыхалъ запахи отъ гимнастерки Еремина, и это онъ — Волгой дышалъ.
«Ерунда какая, чушь въ голову лѣзетъ… какая Волга…»
Хотѣлъ сказать: у меня тутъ другая, — а вмѣсто этого выдохнулъ вдругъ, коротко и влажно:
— Хорошо…
Раскуривать новую цигарку было лѣнь. И говорить нельзя ужъ было. Все сказали. Подъ ногами, подъ сапогами лежала земля, и земля ихъ несла на себѣ, на выгибѣ своего горба, и колыхала — двухъ людей съ винтовками за плечами.
##
— Ники! Это русскіе офицеры. Они насъ спасутъ!
— Возможно.
— Они могутъ даже умереть за насъ!
— Не отрицаю.
— Какъ ты можешь быть такимъ спокойнымъ!
— А зачѣмъ волноваться?
— Напиши отвѣтъ, прошу тебя!
И царь садится и пишетъ.
…Они оба читаютъ отвѣты. Тѣ же листы бумаги, свернутые въ трубочку и воткнутые вмѣсто пробки въ бутыль съ молокомъ. Руки Аликсъ трясутся отъ радости. Царь спокоенъ и даже равнодушенъ; онъ не раздѣляетъ восторга жены. Спасеніе? Оно исчезнетъ такъ же, какъ и появилось. Сколько ошибокъ въ письмахъ, писанныхъ по-французски! Но юные поручики тоже могутъ ошибаться въ иноземномъ правописаніи.
Они читаютъ письма заговорщиковъ, а у ихъ дверей смѣняется охрана. Ушли Бабичъ и Трофимовъ, встали Фаттахутдиновъ и Ляминъ. Почему такъ блестятъ глаза у Машки? Будто ей подарили перстень съ изумрудомъ. Милый, ну развѣ ты не помнишь, что у Машки скоро день рожденья! И ей сравняется девятнадцать. Боже, невѣста!
Солдаты стоятъ у дверей. Отъ солдатъ за версту несетъ табакомъ. Какъ много курятъ эти молодые люди! Иногда и не слишкомъ молодые. Подъ красныя знамена встаютъ и старики. Въ письмахъ — призывы, чтобы они открыли окно. Надо притвориться, что мы задыхаемся, что умираемъ отъ удушья! И тогда окно откроютъ! Ну, откроютъ, а дальше что?
Ты старъ, Ники, ты сталъ старый, ни во что не вѣрящій скептикъ!
Я всего лишь разумный человѣкъ.
О, прости меня, если можешь, прости…
Ляминъ и татаринъ Фаттахутдиновъ, изъ Уфы, видѣли, какъ супруги рвутъ другъ у друга изъ рукъ эту жалкую, вконецъ измятую бумажку. Комендантъ бѣжитъ по коридору и, словно невзначай, бросаетъ Лямину: боецъ Ляминъ, отвори арестованнымъ окошко! Пусть подышатъ! Расправятъ легкія!
Авдеевъ произноситъ: «расправять лехкія».
Пустая бутылка изъ-подъ молока стоитъ у двери. Солнце насквозь пробиваетъ ее штыками лучей. Въ горлышкѣ бутыли — туго скрученная бумага. Это отвѣтъ.
И Ляминъ слышитъ, какъ царь, слишкомъ близко подойдя къ стоящей у распахнутаго окна женѣ, говоритъ тихо, внятно и горько:
— Намъ пишутъ, мы отвѣчаемъ, но это все обманъ. Они играютъ съ нами! Мы кошки, они мышки!
И жена, схвативъ его за руки, шепчетъ, какъ кошка шипитъ:
— Ну неужели же ты не хочешь жить?! Совсѣмъ не хочешь?!
И онъ молчитъ. А потомъ, спустя вѣка, говоритъ медленно и тягуче:
— Ты знаешь, если честно, то мнѣ все равно.
##
Имъ никто и ничего не говорилъ про наступленіе бѣлыхъ. Ни про какой Чехо-словацкій корпусъ. Ихъ будили, кормили, поили, молча ставили на столъ стаканы и хлѣбъ, тарелки и крупную сѣрую соль въ деревянныхъ солонкахъ. Они ѣли и пили, а за ихъ спинами, за шеями и лопатками угрюмо молчали не люди — молчали Тюмень и Міассъ, Кыштымъ и Златоустъ, Челябинскъ и Шадринскъ.
А здѣсь стоялъ огромный голый деревянный столъ, и столъ звался Екатеринбургъ. Все сосредоточилось на столѣ и за столомъ. Иногда имъ казалось: на столѣ стоятъ телѣги, впряженныя въ лошадей, и кони, и верхомъ сидятъ красные. Подмигиваютъ другъ другу.
И посрединѣ стола, вмѣсто солонки, валяется круглое колесо съ кривыми спицами, оторванное отъ телѣги, страшное отдѣльное, одинокое колесо. И дѣти, всѣ, смотрятъ остановившимися выпученными глазами на это сиротливое колесо. Кто его оторвалъ? Ураганъ?
Старые люди на улицахъ Екатеринбурга говорили: лѣто будетъ ураганное, ожидаются большіе вѣтра, — но они не слышали этихъ сплетенъ. И предчувствія у нихъ не было. Они просто жили и уже не торопились. Всѣ вокругъ нихъ торопились, спѣшили. Куда-то опаздывали.
Опаздывали убить и умереть.
А они уже вездѣ опоздали. И оставался только голый столъ, и колесо посреди, и остановившіеся, медленно свѣтлѣющіе глаза.
Сколько въ Екатеринбургѣ красныхъ бойцовъ? А кто считалъ? Имъ не говорятъ, сколько тутъ бѣлыхъ, сколько красныхъ. Сколько старыхъ, сколько новыхъ. Міръ раздѣлился на ветхій и новый, какъ сама Библія. Міръ уже никто не спасетъ.
Ихъ никто и никогда не спасетъ. Никогда и никто.
Ну и что, все равно.
Они не торопились завтракать, не торопились обѣдать. Не обижались, когда къ ихъ тарелкамъ изъ-за спины протягивались чужія руки. Съ готовностью оборачивались и сами въ эти руки свои тарелки всовывали: нате, возьмите! Мы уже наѣлись! Намъ не надо!
Аликсъ глядѣла на Ники торжествующе. Скоро имъ ничего тутъ не будетъ надо! Скоро ихъ освободятъ!
Ники глядѣлъ на Аликсъ нѣжно и скорбно. Онъ понималъ: Аликсъ заблуждается и мечтаетъ.
Но ему было такъ жалко ее, и онъ думалъ: пусть мечтаетъ.
Страна рушилась вокругъ нихъ, а они сами стояли въ центрѣ зданія съ падающими отвѣсно стѣнами; стояли, взявшись за руки и глядя на клубы сѣрой пыли, на руины, на орущихъ людей подъ завалами. Камни! Время собирать камни прошло. Теперь время камни разбрасывать. И — камни взрывать. Тѣ люди, что назвали себя бѣлыми, не хотятъ посадить царя снова на престолъ. У престола оторваны ноги, и царскій титулъ — безъ рукъ и безъ головы. А что же за власть теперь будетъ у насъ? Нѣтъ этой власти имени.
Народъ вопитъ: негодяй Распутинъ, распутница царица! Плюется: измѣнникъ царь, война ему нужна была лишь для того, чтобы возвеличиться! Дешевый патріотизмъ, дешевая ложь, и самъ онъ дешевка! Онъ прекрасно зналъ: никто его не будетъ освобождать. И всѣ эти письма въ молочныхъ бутылкахъ — не болѣе чѣмъ опасная игра. Игра въ топоръ и шею.
Поѣвъ и вставъ изъ-за стола, они утирали рты носовыми платками: о салфеткахъ давно забыли.
Царь отодвигалъ отъ стола стулъ, дѣлалъ шагъ назадъ, потомъ военный жесткій шагъ впередъ, и думалъ: онъ не нуженъ ни бѣлымъ, ни краснымъ. Онъ не нуженъ никому.
Бѣлымъ онъ живой не нуженъ. Слишкомъ драгоцѣнна эта вышивка на бѣломъ знамени — лицо Николая Втораго, Всея Россіи Царя, Государя и Самодержца. И краснымъ онъ не нуженъ живымъ. Красные спятъ и видятъ, какъ ихъ всѣхъ убить. Какъ? Гдѣ? Можетъ, они всѣхъ ихъ отравятъ? А можетъ, утопятъ въ Исети?
Письма съ ворохомъ ошибокъ. Никто изъ красныхъ не знаетъ хорошо ни англійскій, ни французскій, ни нѣмецкій языки. Они не аристократы. Они — необразованные парвеню. И у глупцовъ нѣтъ будущаго. Жди, когда они всѣ выучатся; это произойдетъ черезъ сто лѣтъ. А пока эти сто лѣтъ идутъ и проходятъ — страна погибнетъ въ крови и грязи, и жестокости, и дурости. Это-ли будущее онъ для Россіи желалъ?
Они, одинъ за другимъ, шли къ себѣ въ комнаты по пустому и холодному, даже въ жару, коридору. Имъ казалось, этотъ коридоръ велъ подъ землю. Велъ — во тьму. Открывали двери, и изъ дверей билъ бѣлый слѣпой свѣтъ. Призракъ свѣта. И они, слѣпые, шли на свѣтовой миражъ, и сами себѣ казались мертвецами и призраками.
Папа, у меня ноги просятся танцовать, жалобно сказала ему Анастасія, да здѣсь простора нѣтъ! Онъ закусилъ губу. Какъ точно сказала дѣвочка! Здѣсь и правда нѣтъ простора. А на просторахъ Россіи русскіе убиваютъ русскихъ. Казаки бьютъ красныхъ, красные бьютъ юнкеровъ, казаковъ и бѣлыя войска, присягнувшія на вѣрность императору Михаилу. Гдѣ теперь Михаилъ? Недавно царю приснился странный сонъ. Михаилъ въ ямѣ, подъ землей, и оттуда, изъ черной земляной дыры, доносится его слабый голосъ: «Ники! Ники! Помоги мнѣ!»
И онъ встаетъ передъ ямой на колѣни, и опускаетъ въ нее руку, и тянетъ руку, и кричитъ: «Я тутъ! Я тутъ! Миша, хватай!»
И будто жаръ касается дрожащихъ пальцевъ. А потомъ налетаетъ холодъ.
И онъ быстро, ужасаясь, выдергиваетъ изъ черной пустоты руку.
Онъ разсказалъ этотъ сонъ женѣ, проснувшись. Она заплакала и перевернулась на животъ, и такъ, лицомъ въ подушку, долго лежала, и спина ея тряслась.
##
Голощекинъ съѣздилъ на паровозѣ въ Москву. Мощный красный магнитъ, брошенный въ центръ Россіи, притягивалъ разбросанныя по странѣ красныя кривыя желѣзяки.
Поѣздка была опасной, но нужной.
Шая, живой и невредимый, не застрѣленный и не покалѣченный, вернулся изъ Москвы и много чего разсказалъ. Не кому-нибудь, а Пашкѣ, вотъ странно.
Пришелъ въ домъ Ипатьева чайку попить. Пашка чайку соорудила и сѣла на лавку, и долго слушала возбужденные, путаные, веселые разсказы Шаи.
Можетъ, Шая выпилъ гдѣ штофикъ, и развязалъ языкъ; а можетъ, просто съ красивой бабой поболтать хотѣлъ.
Долго сидѣли на кухнѣ; Шая ушелъ, когда въ ночи мѣдно, длинно часъ пробило.
…Ляминъ думать не думалъ разспрашивать ее о Голощекинѣ. Онъ прекрасно видѣлъ, какъ оба чекиста, и Голощекинъ и Юровскій, ѣдятъ Пашку глазами. Но ему уже стало какъ-то странно и пусто, все равно. Время и вокругъ Лямина, и вокругъ всѣхъ бойцовъ остановилось; оно вязко липло къ пальцамъ и сердцамъ, тягомотно накручивалось на острые, а можетъ, тупые штыки, и ему не было конца, но кто-то иногда видѣлъ конецъ — и смѣялся.
Пашка, протянувъ Лямину чистую, хорошо выстиранную, но плохо высохшую, еще сырую смѣнную гимнастерку — сдернула ее съ длинной, во дворѣ, веревки, — и глядя, какъ онъ на траву грязную рубаху скидываетъ и чистую надѣваетъ, внезапно подала голосъ и сказала тихо:
— А Ленинъ-то къ намъ сюда скоро подкрѣпленіе пришлетъ.
Ляминъ такъ и застылъ, всунувъ голову въ раструбъ ворота и держа рубаху за хвостъ пустого рукава.
— Ишь ты! Откуда знаешь?
И тогда Пашка сѣла на толстое бревно, приткнутое къ стѣнѣ дома, и стала говорить. Тихо и медленно. И четко, умно, какъ мужикъ. Безъ бабьяго многословья и причитаній.
Большевики обезпокоены обстановкой. Добровольческая армія уже сколочена. Англичане высадились въ Мурманскѣ, и они, по слухамъ, отмѣнно вооружены. На съѣздѣ Совѣтовъ жуткая эсерка Марія Спиридонова выкрикиваетъ страшную рѣчь противъ большевицкой власти. На нее тоже орутъ, но все запоминаютъ, что она сказала. А сказала она, трясясь отъ злости и ярости: недолго вамъ осталось сидѣть наверху, кровавые волки! Морды у васъ въ крови! На васъ охотники уже зарядили ружья! Приморье, вся Сибирь, Уралъ — все горитъ огнемъ, и поджигаютъ дома большевицкихъ Совѣтовъ. Скоро и въ Екатеринбургѣ все заполыхаетъ.
А еще одинъ врагъ съ небесъ спускается, воздушный черный шаръ: это голодъ.
Голодъ обниметъ землю — людямъ не жить. Забудутъ, какъ другъ въ друга на поляхъ палить.
Другъ друга будутъ исподтишка убивать, жарить и ѣсть.
Люди и такъ уже взорвались. Москва вся крикомъ изошла.
Ляминъ словца не могъ въ Пашкину рѣчь вставить. Она, тихо и желѣзно прикручивая эти слова другъ къ дружкѣ, мастерила сама свою стальную машину будущаго. И ужасался Ляминъ этой машинѣ, ея корявой смертельной модели.
— Ты, Пашка, про какой это взрывъ болтаешь?
— Германскаго посла укокошили.
А еще въ Москвѣ эсеры съ большевиками бьются. Эсеры попытались главные дома захватить. А Ленинъ латышей послалъ, и латыши всѣхъ эсеровъ перебили. А еще, по слухамъ, офицеры возстали въ Муромѣ и на Волгѣ — въ Рыбинскѣ и въ Ярославлѣ.
— Такъ что неизвѣстно, будемъ мы тутъ цѣлы или расклюютъ насъ по косточкамъ.
— Расклюютъ? Ты, Пашка, сама у меня коршунъ.
Пашка много не говорила. Слова падали рыночными гирьками. Падали ей подъ ноги. Латыши — звѣри. Ленинъ — брызгаетъ слюной. Многіе въ истерикѣ бьются. Все больное, все гніетъ. Люди разные. Кто хочетъ нацѣпить на Ленина корону, кто — застрѣлить его.
— Откуда ты все такъ хорошо знаешь?
— Я жъ толкую тебѣ, Голощекинъ разсказывалъ.
— За стаканомъ чая? На кухнѣ? Или въ другомъ мѣстѣ?
— Дуракъ ты, Ляминъ.
Встала съ бревна. Одернула юбку. Съ тѣхъ поръ, какъ задѣлалась поварихой, ходила не въ штанахъ, а въ обтягивающей ноги юбкѣ, и это будоражило Михаила, вызывало въ немъ то ли брезгливый протестъ, то ли рѣзкую, почти охотничью тягу.
— Прямо такъ ужъ и дуракъ.
— Тогда глупыхъ вопросовъ не задавай.
Направилась къ Дому. Онъ пошелъ за ней тихо, сторожко, а внутри него и даже снаружи все рвалось. Съ каждымъ шагомъ. Будто шелъ и ногами рвалъ невидимыя, некрѣпкія постромки.
У дверей Пашка обернулась и встала. И ждала, пока онъ подойдетъ.
— А ты какъ думаешь-то самъ, — спросила нарочно холодно, понимая всю важность вопроса, — убьютъ ихъ или нѣтъ?
Михаилъ неожиданно для себя кивнулъ. Будто бы все давнымъ-давно зналъ.
— Убьютъ. Дороги у нихъ другой нѣтъ.
— Или у насъ?
— Можетъ, и у насъ. Намъ надо сейчасъ… — Онъ дышалъ тяжело, запаленно. Глазами охватывалъ ея бедра, ея плечи. — Враговъ нашихъ пугнуть. Чтобы поняли: мы — сила. И мы сожжемъ, къ чертямъ, ихъ знамя. Вѣдь они, — опять мотнулъ головой и слюну проглотилъ, — ихъ знамя! Пусть ахнутъ. Древко это изъ рукъ у нихъ вырвемъ! Они о немъ — грезятъ! Но и…
— Намъ тоже надо себя показать, — подхватила его мысль Пашка.
Усмѣшка красиво покривила ея полныя, обвѣтренныя, съ сухой корочкой, губы.
Онъ захотѣлъ взять губами эти губы, облизать, съѣсть, выпить.
Но она уже давно не подпускала его къ себѣ.
«Все. У насъ съ ней все кончено. И надѣяться — пустое. Отлюбили».
Горечь собралась подъ языкомъ, и онъ чуть не плюнулъ комъ этой горечи въ Пашкину грудь.
— Правду говоришь!
— Ну какъ же. Убьемъ — это значитъ покажемъ имъ кукишъ, а намъ — нашу гордость. Ну, что мы смогли это сдѣлать. Значитъ, сможемъ и все остальное. Все! Россія будетъ наша. И построимъ мы въ ней все, что хотимъ! Сами! А не что намъ навяжутъ! Ты думаешь, наши солдаты, наши рабочіе, комиссары наши — не ждутъ, что мы именно такъ и сдѣлаемъ?
— Что сдѣлаемъ?
— Раздавимъ этихъ червей!
Онъ смотрѣлъ ей въ лицо. Понималъ: все, что она говоритъ, это съ чужого голоса слова.
«Значитъ, у ней новый. Кто? Голощекинъ? Юровскій? Авдеевъ?»
«Какая чушь. Не мучь себя. И ее — не мучь».
— Ты правда такъ думаешь?
— Я такъ не думаю, Мишка. Я — такъ — живу.
— Жестокая ты! И не жалко тебѣ… дѣвчонокъ этихъ?
Пашка крѣпче затянула платочный узелъ на затылкѣ.
Подъ тѣмъ узломъ таились теплые волосы, въ нихъ онъ когда-то погружалъ носъ, пальцы, щеки, губы.
— А насъ, если мы не сдѣлаемъ этого, всѣ неправильно поймутъ.
Онъ схватилъ ее за плечи. Тряхнулъ грубо, жестоко.
— Ты! Жестокая ты тварюга!
Онъ ждалъ: изъ желѣзной арматуры она снова превратится въ теплаго, въ жалкаго человѣка.
Пашка повела головой и посмотрѣла на его руку, впившуюся ей въ плечо; и онъ разжалъ пальцы.
— Я — тварь? Тогда кто эта старуха? По ея щучьему велѣнью были убиты на войнѣ сотни тысячъ людей. Ты самъ былъ на войнѣ. Ты бы вотъ хотѣлъ, чтобы тебя тамъ — убили?
Руки его висѣли вдоль тѣла. Ноги горѣли подъ сапожной кожей.
— Насъ всѣхъ и такъ, здѣсь, убьютъ. Все равно гдѣ.
Пашка повернулась и пошла въ Домъ, и онъ глядѣлъ ей въ спину.
Когда дверь закрылась и хлопнула, дверная доска приняла очертанія Пашкиной спины и еще долго качалась передъ его глазами, ослѣпшими отъ стыдныхъ слезъ и безсильнаго, безтолковаго гнѣва.
##
Пашка знала, Голощекинъ долженъ отправить телеграмму въ Москву, самому Ленину.
Ленину! — это и ужасало, и окунало въ кипятокъ великой гордости.
Откуда она знала объ этомъ? Шая ей самъ сказалъ?
Нѣтъ. Ей сказалъ объ этомъ Юровскій.
Онъ поймалъ ее за руку въ коридорѣ. Пустой коридоръ; охрана вышла на крыльцо покурить. Два, три слова, отвернутое лицо. Сдавленный голосъ, можетъ, онъ выплевываетъ ругань, а можетъ, выбалтываетъ секреты, за которые разстрѣливаютъ на пустырѣ.
Скоро въ Москву улетитъ телеграмма. Мнѣ-то вы зачѣмъ объ этомъ говорите? Низачѣмъ. Все на волоскѣ. Я тоже хожу по канату. Меня могутъ шлепнуть въ любую минуту. Я ворочаю дѣлами, людьми и событіями, и я слишкомъ много знаю. А ты… Я поняла. Ну вотъ и хорошо, что поняла.
За руку крѣпко держалъ. Мертвой хваткой.
А кто отправитъ? Я и Голощекинъ. Или Голощекинъ и Сафаровъ. Или Сафаровъ и Бѣлобородовъ. Это все равно. Мы, каждый, замѣщаемъ другъ друга. Екатеринбургъ — подъ прицѣломъ. Или насъ разстрѣляютъ, или мы разстрѣляемъ. Кого? Всѣхъ, кто къ намъ близко подойдетъ. Что такъ смотришь? Такими круглыми глазами? Не вѣришь?
Чему это я не вѣрю?
Тому, что мы сдѣлаемъ это.
А телеграмма-то Ленину — уйдетъ. Слова на бумагѣ — это не то, что слова въ бесѣдѣ. Набрехать можно все что угодно. А слово, написанное перомъ, не вырубишь топоромъ, тебѣ извѣстно. Такъ вы что отъ меня хотите? Ничего. Недогадливая ты. Ты же сказала, что догадалась.
А что будетъ въ той телеграммѣ?
Что будетъ, это ты сама увидишь. Мнѣ важно, чтобы ты знала: телеграмма ушла.
Уже ушла?
Уйдетъ. Скоро.
Что такое «скоро»?
Скоро — это скоро, Прасковья. Запоминай, что въ ней будетъ. Уши навострила? Москва, Кремль, Свердлову, копія Ленину. Суда ждать не можемъ. Промедленіе смерти подобно. Приступаемъ къ дѣйствію. Если вы противъ, немедленно сообщите намъ по прямому проводу. Запомнила?
Запомнила.
А теперь забудь. Забыла?
Забыла.
И вспомни только тогда, когда надо будетъ.
А когда будетъ надо?
А вотъ этого мы съ тобой не знаемъ. Ни я, ни ты.
Пустите руку, больно! Пальцы затекли!
Хорошо, что не мозги. Мозги у тебя свѣжіе, молодые. Когда надо — вспомнятъ, когда надо — забудутъ. Такъ?
Ея рука оказалась на свободѣ, она шевелила измятыми въ чужомъ кулакѣ пальцами, а съ крыльца въ парадное входили бойцы, отряхивали тужурки и гимнастерки отъ табачнаго крошева, перекидывались смѣшками и матюжками, дышали шумно и трудно, какъ долго бѣжавшіе кони.
##
Что ей еще сказалъ Юровскій? Можетъ-быть, что-то еще и сказалъ; самое главное. Мысли метались, и память металась. Не было ни мыслей, ни памяти. Онъ вѣдь видѣлъ Ленина. Самого Ленина! И самъ Ленинъ давалъ распоряженіе. Ленинъ говорилъ ртомъ Юровскаго. Юровскій въ коридорѣ и говорилъ, и молчалъ. О чемъ онъ смолчалъ — знаетъ только огонь въ печи.
Пашка разжигала въ печкѣ огонь, совала и совала въ зѣвъ печи мятыя газеты, а дрова послѣ недавняго дождя отсырѣли, не хотѣли падать въ объятья пламени. Огонь вспыхивалъ, охватывалъ потемнѣлыя влажныя вѣтви и плашки старыхъ, отъ разобраннаго солдатами сарая, сѣрыхъ досокъ, а Пашка подкладывала въ печь аккуратно наколотыя березовыя дрова; дровишки тѣ нарубилъ Михаилъ намедни. Онъ такъ и всталъ передъ ея глазами — ладный, веселый, въ пропотѣвшей, съ темными полумѣсяцами подъ мышками, старой гимнастеркѣ, уже разъѣзжавшейся по швамъ, съ закатанными по локоть рукавами, съ топоромъ, что больно вспыхивалъ въ его крѣпкихъ рукахъ, мгновенно озаряя скуластое худое, съ впалыми щеками, мрачное лицо. Она словно бы впервые увидала, что онъ чуть раскосъ — какъ всѣ они, волжане, по которымъ прошлись острыя грабли чувашей, татаръ, мордвы, черемисовъ.
Ѣдкій дымъ лѣзъ въ ноздри. Пашка махала передъ носомъ рукой. Потомъ встала съ корточекъ, сдернула платокъ, плеснула на него водой изъ ковша, завязала мокрымъ платкомъ носъ и ротъ. Опять сѣла къ печкѣ. Скорчилась. Совала въ печное зѣвло березовое полѣнце, тыкала имъ въ скопленіе чадящихъ дровъ. Большой коробокъ спичекъ въ ея рукахъ дрожалъ и наконецъ упалъ на полъ. Она подняла его съ жестяного припечного фартука, и въ животѣ у нея что-то тяжко передвинулось и надавило ей на согнутыя колѣни.
Ребенокъ, зачѣмъ онъ въ такое время? А дѣти не спрашиваютъ насъ, когда имъ рождаться. Имъ — все равно, когда. Хоть война, хоть смерть, хоть дно морское.
Кому война, а кому мать родна, вспомнила старую пословицу — и представила себя рожающей, съ раскинутыми ногами и сугробнымъ вздутымъ животомъ, на полѣ брани. Вокругъ выстрѣлы, кони скачутъ, пушки бьютъ, а она — рожаетъ.
Смѣшно стало. Ну, даже еслибъ и прихватило ее въ бою рожать, такъ вѣдь нашла бы какой бивакъ, въ какую землянку упряталась бы. За брустверъ легла бы.
Всунула полѣнце въ печной огненный ротъ — и охнула, и положила руку на поясницу, и встала, еле разогнувшись.
— Крутится, вертится шарфъ голубой… крутится, вертится надъ го-ло-вой… Уничтожить царствующій домъ… всѣхъ?.. всѣхъ… или не всѣхъ?.. Крутится, вертится, хочетъ упасть… Одного царя… царя съ царицей… или дѣтей?.. Дѣтей… дѣтей… Кавалеръ барышню… хочетъ украсть…
Пламя нахально гасло. Не хотѣло рождаться. Пашка сжала зубы. Ощерилась звѣрькомъ. Побѣжала съ кухни во дворъ, набрала на локоть дровъ, прижала къ себѣ охапку, обратно въ домъ вбѣжала. Въ животѣ болѣло и тянуло.
— Ахъ ты, печь… ты наглая какая… не хочешь горѣть, и все… а дрова – не хотятъ умирать?.. сожжетесь всѣ, неправда, всѣ сдохнете… всѣ — въ огнѣ — окочуритесь… Гдѣ эта улица, гдѣ этотъ домъ!.. гдѣ эта барышня… А ты, Юровскій, гдѣ ты-то… Ты думаешь… что ты мнѣ секретъ выболталъ!.. да про этотъ секретъ… всѣ бойцы догадались!.. Гдѣ эта барышня, что я влюбленъ…
Смяла еще клокъ газеты. На газетѣ было напечатано крупно: «РЕВВОЕНСОВѢТЪ КРАСНАГО УРАЛА ПОСТАНОВИЛЪ…»
— Мы сами себѣ… все… постановили. Сами кашу будемъ расхлебывать! Вотъ эта улица… вотъ этотъ домъ…
Пашка чуть приподняла съ губъ мокрый платокъ. Дышала ртомъ. Угарный газъ неслышно струился изъ печи, отъ мокрыхъ дровъ, опьянялъ, голову крутилъ.
Она пѣла, напѣвала, бормотала, не понимая, что бормочетъ. Шерудила кочергой въ печи. Переваливала съ боку на бокъ лѣнивыя дрова. Огонь разъярился, загудѣлъ. Гулъ пошелъ по печнымъ ходамъ вверхъ, дымомъ вырывался въ трубу.
— Ахъ ты, лѣто, лѣто красное… А вѣдь поди-жъ ты, дожди и сырость… ну какъ оно безъ дождей-то, безъ нихъ совсѣмъ-то нельзя… овощъ не дозрѣетъ, ягода не нальется… Вотъ эта барышня… что я влюбленъ!
Огонь полыхалъ. Печь гудѣла. На улицѣ моросилъ дождь. На второмъ этажѣ сидѣли, нахохлившись, эти, несчастные голуби. Пашка думала: и вѣдь эта старуха когда-то рожала своихъ дѣтей! Всѣхъ пятерыхъ! И изгибалась, и животъ надувала, и тужилась, и все-все дѣлала, что бабы при родахъ творятъ. Да и орала, поди! Какъ же оно безъ крика-то!
Нарождаются въ крикахъ, а умираютъ молча.
— Врешь ты себѣ все, Пашка… и умираютъ — въ мукахъ — кричатъ… ажъ глазенки изъ-подо лба вылазятъ…
Еще запустила кочергу глубоко въ печь — поддѣла красное пламенное полѣно — вытащила кочергу, положила у печи, плотно прикрыла дверцу. На чугунной дверцѣ красовалось фигурное литье: женщина въ пышной юбкѣ стоитъ на повозкѣ, а повозку везутъ радостные кони.
— Царица, тоже, небось… владычатъ они… и празднуютъ… безконечно…
Печь гудѣла. Дождь барабанилъ по крышѣ. Мишка исчезъ. Не мучилъ ее вопросами и придирками. Можетъ, онъ спалъ въ караульной. А можетъ, стоялъ въ наружной охранѣ, у забора.
Она уже жалѣла, что сказала ему о ребенкѣ. Ну пусть бы все узналъ, когда бы срокъ подходилъ. А такъ — ломаетъ голову себѣ, что да когда, и какъ оно все будетъ. Да никакъ. Все придетъ въ свой чередъ. Если, конечно, до этого череда ее къ стѣнкѣ бѣляки не поставятъ.
— Вотъ эта улица… вотъ этотъ домъ… Ахъ, Юровскій, дрянь же ты, — сказала, оборвавъ пѣнье, громко, грубо, и засмѣялась.
Смѣхъ этотъ ея, подлецъ, звучалъ болью и пылалъ огнемъ.
##
Они оба мѣшали сахаръ въ стаканахъ чаю одинаковыми чайными ложечками.
Золочеными. Съ витыми ручками.
Еще вчерашними, буржуйскими ложечками.
А стаканы — пролетарскіе: на подстаканникахъ вытисненъ профиль орущаго мужика, а за нимъ — развѣвается знамя.
Да не сахаръ, а сахаринъ.
Да не чай, а рѣзаный вѣникъ.
Да не кипятокъ вовсе, а ужъ остылъ, пить противно.
Разогрѣть, можетъ, на спиртовкѣ?
— Подогрѣть чаю, Владиміръ Ильичъ?
Лысая круглая, тяжелая кегля головы наклонилась впередъ. Руки обхватили подстаканникъ. Грѣлъ руки объ остывающій чай.
— Бьосьте, Яковъ Михайлычъ. Хлопоты лишнія зачѣмъ. Давайте-ка лучше подумаемъ объ этомъ непьостомъ дѣлѣ.
— О какомъ, Владиміръ Ильичъ?
— О екатейинбуйгскомъ.
Руки разжались, разошлись въ стороны надъ стаканомъ, — будто надъ рѣкой развели мосты.
Человѣкъ напротивъ лысаго глядѣлся изысканнымъ аристократомъ. Волосы чернымъ дымомъ обнимаютъ красивую восточную голову. На чернаго кота похожъ, благородныхъ, заморскихъ кровей. Изящество, пріятная смуглость, сливовые глаза изъ-подъ пенснэ, нѣжно смотрятъ.
Слѣдятъ: за вздрогомъ бородки; за прищуромъ раскосыхъ хитрыхъ глазенокъ; за тѣмъ, какъ зубы кусаютъ, кусаютъ губу, и она становится красной, яркой.
И раскосые глаза слѣдятъ: за сливовыми глазами; за нѣжными руками, берущими то ложечку, то коробокъ спичекъ, то салфетку, а ногти коротко острижены, какъ у ребенка; за чернымъ пухомъ волосъ надъ смуглымъ лбомъ, надъ льдистымъ блескомъ круглыхъ, совиныхъ стеколъ пенснэ.
— И что вы думаете?
— Я? Давайте думать вмѣстѣ. Вмѣстѣ!
— Извольте. Я думаю, что дѣло дѣлать надо.
— Вотъ и я тоже думаю! Еще какъ надо!
Лысый человѣкъ отхлебнулъ чай. Черный котъ покосился.
— Сахаринчику ужъ маловато. Надо еще заказать.
— Да, надо. Не отвлекайтесь отъ главнаго, товайищъ!
Засмѣялся, но черный котъ смѣхъ не поддержалъ.
Чай — пили. Прихлебывали. Дѣлали видъ, будто — горячій.
— А вы — что думаете?
— Думаю, думаю… Голова все вьемя думаетъ, дойогой Яковъ Михайлычъ! И нѣтъ ей покоя. Думаю такъ: нельзя бѣлякамъ оставлять живое, кха-кха… — Покашлялъ. — Знамя. Живую хоюгвь! Чтобы бѣляки съ ней — въ бой пошли! Вы знаете, какъ они воодушевятся, войдя въ гойодъ и обнаюживъ тамъ эту семейку?
— Догадываюсь.
— Вы — догадываетесь, а я — знаю! Пьосто знаю! — Ложечка звенѣла въ стаканѣ уже сердито. Весь сахаринъ давно ужъ растворился въ жидкомъ, нищемъ чаѣ, а ложка все звенѣла и звенѣла. — У-нич-то-жить! Вѣдь это такъ пьосто.
Лысина блеснула въ свѣтѣ настольной лампы, и черный котъ мелькомъ глянулъ въ нее — посмотрѣлся, какъ въ зеркало.
— Нѣтъ. Не просто. Это сложно.
— Сложно, сложно! Что вы мнѣ тутъ сказки йазсказываете! Что, у насъ нѣтъ кьясноаймейцевъ?! Нѣтъ пуль?! Патьоновъ?! Нѣтъ — комиссайовъ, что отдали бы пьиказъ?!
— Есть.
Черноволосый медленно всталъ изъ-за стола, обтянутаго зеленымъ сукномъ. Ловко выхватилъ изъ-подъ руки у лысаго стаканъ. Взялъ свой. Вышелъ въ коридоръ и крикнулъ:
— Часовой! Скажи на кухнѣ, пусть горячаго нальютъ! И, если есть хлѣбъ… пару кусочковъ хорошо бы…
Вернулся. Сѣлъ за столъ. Оба не курили, а молчаніе вилось дымомъ, опьяняло.
Смуглыя щеки надъ черной бородой порозовѣли.
Лысый лобъ сморщился закатаннымъ рукавомъ гимнастерки.
Вскинули головы и внимательно, остро поглядѣли другъ на друга.
— Вы знаете, я вотъ о чемъ думаю. Думаю о томъ, какъ бы свайганить это все шито-кьито. Такъ тихо, подъ суйдинку… чтобы къ намъ не пьидьялась Евйопа. А то вѣдь, знаете, пьидеутся. Убійцами — обзовутъ.
— Могутъ. Вполнѣ. А я вотъ думаю… надо это дѣло держать подъ контролемъ, но сдѣлать такъ, чтобы не отъ насъ получили приказъ, а — сами рѣшили. Чтобы Уралсовѣтъ вынесъ рѣшеніе — и казнилъ. Но мы, мы должны быть въ курсѣ.
— О да! Несомнѣнно! Мы всегда должны быть въ куйсѣ.
— Мы не то чтобы скомандуемъ. Мы дадимъ санкціи. Мы — наблюдатели, но внимательные наблюдатели. А они — главные исполнители. Исполнитель всегда думаетъ, что онъ играетъ одинъ, что ему достается вся слава. Онъ забываетъ о дирижерѣ.
— Ха, ха! Это вы вѣйно подмѣтили, дойогой Яковъ Михайлычъ! Тетейевъ токуетъ, а охотникъ — дийижиуетъ!
— Вотъ и я думаю…
Вошелъ часовой, ремень винтовки врѣзался ему въ тусклое болотное сукно шинели. Онъ несъ два стакана съ горячимъ чаемъ.
— Кипятокъ, надѣюсь?
— Горячій, товарищъ Свердловъ! Пейте на здоровье, товарищи!
— Спасибо, товарищъ!
Чай обжегъ губы. Черный котъ едва не замяукалъ отъ блаженства.
— А хлѣба не принесли.
— Хлѣбъ, дойогой товайищъ, это нынче пейежитокъ капитализма! Вотъ настанетъ вьемя — у насъ будетъ свой хлѣбъ! Завались! Закйома!
— Такъ вы думаете, Владиміръ Ильичъ, — хлебокъ, глотокъ, смуглый кадыкъ дернулся внизъ-вверхъ, — мы должны все-таки отправить въ Уралсовѣтъ осторожный приказъ? Приказъ, и вродѣ бы не приказъ? Каковъ долженъ быть текстъ, чтобы они поняли?
— И чтобы мы поняли, что они поняли? Ха, ха, ха!
Лысый долго смѣялся, до слезъ. Утеръ узкіе монгольскіе глаза обшлагомъ.
— Именно такъ.
— Значитъ, именно такъ и поступимъ! Я самъ — текстъ телегьяммы сочиню! Вамъ — не довѣю!
Опять хорошо, тепло улыбался. И ложечка въ стаканѣ уже не подпрыгивала нервно, съ надоѣдливымъ звономъ.
…пили и говорили, говорили и смѣялись, смѣялись и молчали. Соглашались. Не соглашались. Но чаще вѣжливо соглашались, чѣмъ раздраженно возражали. Бесѣда текла неторопливо, какъ у двухъ помѣщиковъ, когда они, еще вчера, въ еще не сожженной усадьбѣ, кушали чай; только не было на зеленомъ столѣ ни рогаликовъ, ни сдобныхъ жаворонковъ, ни пирога съ вишней, ни сахарной головы, съ хищными щипцами у фарфоровой, съ золотыми павлинами, тарелки. Не было никакой старой Россіи; а то, что маячило вдали, новое и красное, дымящееся и пугающее, и такое громадное, что никакихъ рукъ не хватитъ удержать, — это новое и страшное они строили сами, и въ фундаментъ зданія надо было положить много, много русскихъ тѣлъ: сотни, тысячи, десятки тысячъ, милліоны отрубленныхъ рукъ, ногъ и головъ, выколотыхъ глазъ, выбитыхъ изъ черепа молотками мозговъ, пробитыхъ пулями легкихъ и сердецъ. Что такое человѣкъ? Матерьялъ, сказалъ великій Марксъ. Всего лишь матерьялъ! Изъ него вожди должны скроить будущее. И за свѣтлое будущее не грѣхъ расплатиться громаднымъ, грубымъ, роднымъ настоящимъ. А впрочемъ, кто тутъ кому родной? Этотъ народъ — мнѣ родной? И мнѣ, развѣ мнѣ онъ родной? Поглядите-ка внутрь себя, дорогой! Развѣ это ваша родина? Это всего лишь матерьялъ, гипсъ, глина, и вы должны размять ее въ рукахъ и слѣпить изъ нее то, что вамъ болѣе всего по нраву. А что вамъ по нраву? А ну-ка? Не стѣсняйтесь, что? Что?! Міровая революція! Да! Да! И мнѣ она тоже по нраву! И я такъ вижу будущее Земли! Хороша планета, да слишкомъ много по ней гадовъ расползлось. Русскій народъ на девяносто девять процентовъ состоитъ изъ гадовъ! Ихъ надо раздавить. Раздавить — безжалостно! А что вы хотите, дорогой, время такое!
Но какое, какое, чортъ меня возьми, великое время! Міръ перекраивается! И мы, мы взяли власть. Вы понимаете, что мы не отдадимъ верховную власть?! Понимаете?!
Еще какъ понимаю! Да вы такъ не кричите!
Я и не кричу! Я — веселюсь! Радуюсь! Просто духъ захватываетъ, какъ радуюсь! Это же такое счастье, такое! У насъ верховная власть, и это же просто чудо! Просто чудомъ все произошло, я до сихъ поръ не могу опомниться, хоть болѣе полугода прошло! Россія — наша!
Наша, наша, чаю-то попейте, а то опять остынетъ!
Ахъ, спасибо за заботу, дорогой, что бы я безъ васъ тутъ дѣлалъ! Вы тутъ одинъ — нашъ Дантонъ, нашъ Робеспьеръ! Только, умоляю, не кончите, какъ они! Да я самъ этого не позволю! Я лучше утоплю Россію въ крови, чѣмъ позволю насъ — отсюда — скинуть! Диктатура пролетаріата, а съ нею красная смерть, и всѣ станутъ черезъ годъ-другой тише воды ниже травы!
Да, смерть!
Да, смерть! Смерть — необходимое условіе революціи! А революція — необходимое условіе развитія! А развитіе — это и есть наше съ вами свѣтлое будущее, дорогой товарищъ! Скажите часовому, пусть еще чайку горячаго нальетъ! И корочку хлѣбца — въ закромахъ поищетъ! Вретъ, что нѣтъ: въ закромахъ — найдетъ!
…такъ это было или не такъ? Но именно такъ они оба, красные вожди, приснились Лямину. Онъ оторвалъ красную лохматую голову отъ вонючей, пропахшей чужимъ потомъ подушки. Наволочки не было: бойцы разорвали ее на портянки. Птичье перо прокололо наволочку и кололо щеку. Проснулся, и гадко на душѣ было. Вспомнить сонъ не могъ. Обрывки рѣчей висли въ воздухѣ, крутились около ушей, висковъ. Таяли дымомъ.
Хотѣлось заплакать.
##
Юровскій сталъ комендантомъ, а Авдеева убрали. Куда дѣвали его? Никто не зналъ.
Да незачѣмъ и спрашивать было. Никто и не спрашивалъ.
Въ революцію такъ: ты меньше знаешь — легче спасешься.
Юровскій оставилъ всѣхъ злоказовскихъ рабочихъ для внѣшней охраны, и дневной и ночной. Злоказовцы — наслѣдство Авдеева, и они несли службу исправно, и зачѣмъ ихъ было мѣнять?
А вотъ внутреннихъ всѣхъ замѣнили.
Всѣхъ, кромѣ Лямина. Юровскій, непонятно почему, оставилъ его.
Михаилъ самъ дивился.
Иныхъ внутреннихъ перекинули во внѣшніе: такъ поступили съ Сашкой Люкинымъ, съ Антономъ Бабичемъ, съ Трофимовымъ и еще съ другими. А вокругъ Лямина уже ходили-бродили незнакомцы.
Откуда Юровскій людей набралъ — Богъ вѣсть. Здѣсь были и военные, и штатскіе. И простые мужики, и народъ изъ мѣщанъ, изъ разночинцевъ. Кажется, даже студенты. Крестьяне, само собой. Всѣмъ выдали гимнастерки и солдатскіе штаны, и сапоги, и каждому — винтовку.
Еще Ляминъ увидѣлъ въ Домѣ странныхъ высоченныхъ людей. У нихъ у всѣхъ были свѣтлые, соломенные волосы, свѣтлые глаза, квадратныя скулы, неподвижныя, мощной лѣпки лица: мышцы застыли въ ледяномъ, пугающемъ спокойствіи, держали твердое лицо, какъ щитъ, передъ настоящими мыслями и чувствами. Ему сказали: это латыши, новые чекисты. Латыши всѣ какъ на подборъ, какъ братья, не отличишь. Рослые. Крѣпкіе.
«Такимъ и винтовки не нужны: медвѣди, голыми руками задушатъ, заломаютъ».
Латышей Юровскій поселилъ во всѣхъ комнатахъ перваго этажа. И въ кладовой, и въ томъ подвалѣ, куда Пашка приходила одиноко плакать. Въ той комнатенкѣ, гдѣ полосатые обои, а на стѣнѣ виситъ чья-то позабытая старая фотографія: дѣвушка съ мрачнымъ взглядомъ и бородатый мужчина, тоже печальный; бородачъ сидитъ, дѣвушка стоитъ и ему руку на плечо положила. Оба въ черномъ. Начитанный Бабичъ сказалъ Лямину: это писатель Достоевскій, а мрачная дѣвушка — его первая жена Марія.
Онъ ходилъ и повторялъ: Марія, Марія, Марія, — а въ караульной винтовокъ все прибывало, ихъ складывали въ уголъ у окна, и въ сундукъ, и на сундукъ. Солдаты шутили: у насъ здѣсь прямо оружейный складъ.
Ляминъ примѣтилъ: у водителя мотора, Сергѣя Люханова, на боку явился револьверъ въ кобурѣ.
«Ишь, и шоферу оружіе вручили. Точно бѣляковъ ждутъ. Со дня на день».
Воровство прекратилось. Охрана больше не крала у царей вещи.
Дѣвушки то-и-дѣло ощупывали себя, груди и животы и плечи; Михаилъ давно запримѣтилъ этотъ странный жестъ, будто имъ было холодно и онѣ хотѣли укутаться.
«Охватываются, язви ихъ. Можетъ, чешутся? Можетъ, клопы одолѣли? Или — комары? Или, язви ихъ, вши?»
Комары въ жару исчезали, а какъ дождь, опять вылетали откуда-то изъ-за сараевъ и садовыхъ деревьевъ сѣрыми тучами. И сѣрое небо колыхалось, какъ жидкая гречневая каша въ необъятной кастрюлѣ.
Юровскій гоголемъ ходилъ. Солдатамъ хвастался, да и царямъ тоже: это я кражи ликвидировалъ. Что, спокойно теперь вамъ всѣмъ?
Да, кивали всѣ, да, намъ спокойно. Спасибо.
Николай тоже поблагодарилъ новаго коменданта. Протянулъ ему руку и поглядѣлъ ясно, прозрачно, и небо и вода разомъ ходили, колыхались въ его глазахъ безъ дна: мы рады, больше не воруютъ, спасибо большое отъ насъ ото всѣхъ. Отъ всей семьи.
Юровскій, въ черной кожанкѣ и въ черныхъ галифэ, вѣжливо стащилъ съ руки черную перчатку и крѣпко пожалъ руку царя.
Онъ всегда, даже въ жару, ходилъ въ перчаткахъ.
Михаилъ глазъ не могъ отъ этихъ перчатокъ отвести. «Ну да, онъ медикъ, и въ хирургіи работалъ, а хирурги — они завсегда въ перчаткахъ».
«Брось, при чемъ здѣсь хирурги!»
Черный, и слишкомъ вѣжливый, и очень, очень умный.
Авдеевъ въ сравненіи съ нимъ пентюхъ пентюхомъ, да еще выпивоха.
А этотъ, будто графскій сынъ, даромъ что комиссаръ.
Подъ его началомъ новая охрана откопала въ саду, подъ яблоней-китайкой, обтянутый бархатомъ ящичекъ, въ немъ лежали двѣнадцать серебряныхъ ложекъ. Фамильное царское серебро, это Николаю подарила мать-императрица, Марья Ѳедоровна, на его восемнадцатилѣтіе. Аликсъ такъ плакала, когда онѣ пропали! И вотъ Юровскій на порогѣ, и въ рукахъ у него бархатный ящикъ, весь грязный, въ комкахъ земли, и улитка по крышкѣ ползетъ; а за нимъ охрана топчется со смущенными лицами, а Юровскій улыбается желтыми, чуть выгнутыми, заячьими зубами, торжествующе.
— Нашли ваши ложки, гражданинъ Романовъ! Вотъ. Возвращаемъ!
Царь взялъ ящикъ и низко наклонилъ голову.
Онъ — чекисту — кланялся.
Изъ глазъ Аликсъ вылетали молніи. Вмѣстѣ со слезами путались въ выцвѣтшихъ рѣсницахъ.
— Кто ихъ укралъ?! Гдѣ — нашли?!
— Кто своровалъ, не знаемъ. Я и такъ уволилъ всю прежнюю охрану внутри Дома. Теперь живите, не думая о ворахъ. Ихъ больше нѣтъ. Но вотъ есть одна загвоздка.
— Какая?
Царица стояла напротивъ Юровскаго, и по ея лицу ходили тѣни, гнѣвъ и вѣтеръ.
— Вы носите драгоцѣнности. Но вы арестанты. Мы вынуждены сдѣлать опись всѣхъ вашихъ камешковъ, всего золота… на шеяхъ и пальцахъ вашихъ женщинъ, хм, дѣвушекъ.
— Это еще зачѣмъ?! Это наше! Личное! Это интимныя вещи!
— Это все равно. Вы не должны. Временно. Потомъ, возможно… Я самъ добьюсь разрѣшенія. Но я получилъ приказъ. Прошу къ столу! — Сдѣлалъ приглашающій жестъ. — И дѣвушекъ, дѣвушекъ позовите!
Юровскій крикнулъ, вошли двое караульныхъ. Ляминъ и Никулинъ. Слѣдомъ за ними — дрожащія дѣвушки, лица ихъ то краснѣли, то рѣзко блѣднѣли, и, когда за столъ сѣла Марія, Ляминъ испугался: вдругъ въ обморокъ упадетъ. Такая бѣлая, цвѣта писчей бумаги, кожа на лицѣ у нея стала.
Дѣвушки вынимали серьги изъ ушей, стаскивали съ запястій браслеты. Снимали съ пальцевъ кольца и перстни. Клали на столъ, на разстеленный по всему столу широкій, съ кистями, платокъ.
«Съ какой-то бабы платокъ-то сняли, что ли. Или бабу — убили? Изъ-за платка?»
Онъ случайно касался платка, и ему казалось: онъ еще теплый. Дрожь отвращенья пробирала.
Напротивъ сидѣлъ чекистъ Григорій Никулинъ, новый комендантъ его съ собою привелъ, строчилъ по бумажкѣ, а Ляминъ, подъ пронзительнымъ взглядомъ Юровскаго, вертѣлъ въ рукахъ каждую осиротѣлую вещицу и выкрикивалъ, чтобы Никулинъ записалъ:
— Жемчужная низка, на шею, съ золотымъ крестикомъ! Перстенекъ съ краснымъ камнемъ!
— Не перстенекъ, а перстень, — участливо поправлялъ Юровскій, — съ краснымъ турмалиномъ. Нѣтъ, песъ его разберетъ… запиши: съ рубиномъ.
Никулинъ, высуня языкъ, скрипѣлъ перомъ по разграфленной бумагѣ.
Марія разстегивала еще одно висящее у нея на шеѣ украшеніе. Золотую цѣпочку, и на груди тихо, довѣрчиво лежала розовая жемчужина, большая, величиной съ жука бронзовку. Положила цѣпочку на платокъ. Глаза всклень слезами налиты. Вотъ-вотъ прольются.
— Это мнѣ мама… на день рожденья…
— Маша! — Голосъ старухи чистъ, холоденъ и строгъ. — Прекрати!
— Насъ хотятъ обезопасить, — самъ себѣ не вѣря, сказалъ царь.
— Вѣрно, — улыбнулся Юровскій, — правильно мыслите.
«Мыслѣте, буква такъ именуется…»
Ляминъ выкрикнулъ:
— Цѣпочка золотая! Съ жемчужинкой!
— Съ розовымъ жемчугомъ, одна штука, — вѣжливо поправилъ Юровскій.
Слезная водка вылилась разомъ изъ обѣихъ глазъ-рюмокъ. Марія встала и прикрыла глаза рукой.
«Обижается, что я видѣлъ ея слезы. Стыдно ей. Ничего тутъ не попишешь».
«Одна штука», — медленно карябалъ въ очередной графѣ Никулинъ.
За столъ сѣла Ольга. Она замѣтно дрожала. Кусала губы. Быстро, жестоко сдергивала съ себя камешки и золото. Вотъ освободилась высокая, какъ башня, шея. Вотъ осиротѣли мочки. Вотъ соскользнули съ рукъ толстые и тонкіе браслеты на мятую шерсть платка.
Ляминъ видѣлъ приставшіе къ платку сѣдые волосы.
«Со старухи стащили, съ уличной, мимохожей. Можетъ, и правда стрѣльнули?»
Юровскій вытянулъ обѣ руки и аккуратно подгребъ къ себѣ кольца, цѣпочки, браслеты.
— Мы все это у васъ забираемъ, граждане арестованные. До разрѣшенія. Вамъ все равно всего этого сейчасъ носить нельзя, а кражи могутъ и повториться. Никто не застрахованъ. Изъ вашихъ сундуковъ за это время исчезло изрядно цѣнностей. И что? Вамъ хочется, чтобы все это тоже уплыло?
— Нѣтъ. Не хочется, — сухими губами сказалъ царь.
— Отдайте мои вещи!
Ольга хотѣла крикнуть это, а вышелъ замогильный шопотъ.
— Нѣтъ, — улыбнулся Юровскій, — поздно. Мы съ вами все совершили по закону, вы сняли запрещенныя драгоцѣнности, мы сдѣлали опись. Теперь мы беремъ ваши украшенія на храненіе. Ихъ вамъ выдадутъ при первой же возможности. Мы лишь выполняемъ предписанія нашей власти. Вамъ все ясно?
— Болѣе чѣмъ, — спокойно отвѣтилъ Николай и опять низко наклонилъ голову.
Никулинъ уцѣпилъ платокъ за четыре конца и увязалъ всѣ концы въ одинъ узелъ. Чужіе сѣдые волосы смѣшались съ камнями и золотомъ, что носила эта скуластая, съ мощными плечами, сильная тѣломъ и духомъ дѣвушка. Тепло стараго тѣла, тепло молодого. Всѣ тѣла смертны. Эта великая княжна тоже умретъ. Сегодня-ли, завтра, черезъ полвѣка. Кто будетъ черезъ пятьдесятъ, сто лѣтъ носить ея украшенья? Развѣ мы знаемъ имена тѣхъ людей?
«Какъ она будетъ плакать сегодня. Юровскій же ихъ обокралъ. Самъ обокралъ, нагло и открыто. Не таясь. Эта опись — театръ. Сейчасъ выйдутъ въ коридоръ, зайдутъ въ комендантскую, и Юровскій вынетъ у Никулина изъ рукъ платокъ и заткнетъ себѣ за пазуху. И все».
Татьяна отвернулась къ бѣлому окну. Гладила мазки извести пальцемъ.
Анастасія трогала свои уши, безъ серегъ.
Мать сказала тихо, но Юровскій, Никулинъ и Ляминъ услыхали:
— Не огорчайтесь. Намъ нечего огорчаться. Подумайте о Господѣ и о томъ, какъ Онъ страдалъ.
Ляминъ вскинулъ глаза и увидѣлъ, какъ старуха улыбается.
Она улыбалась царственно, торжественно и даже торжествующе.
##
— Милый мой, милый. Ты развѣ не понялъ, что произошло?
— О, я все понялъ. А дѣти? Они — поняли?
— Клянусь тебѣ, нѣтъ. Они просто разстроились, что драгоцѣнности куда-то увезутъ, и надолго. Какъ хорошо, что мы все тщательно запрятали!
— Тише говори.
— Я и такъ бормочу. Насъ тутъ никто не слышитъ. Гляди, я не смогла снять эти два браслета, и они съ меня ихъ не стали сдергивать!
— Какіе любезные, просто страхъ.
— Тебѣ бы все шутить, родной.
Николай обнялъ жену за плечи. И вздрогнулъ: косточки торчали.
— Кто-же тебя развеселитъ, если не я?
Покрылъ ея лицо мелкими, нѣжными поцѣлуями.
— А правда, милый такой этотъ молодой помощникъ Юровскаго? Вѣжливый такой. Не ругается. И глаза у него такіе ясные, свѣтлые. И рубашечка чистая. А знаешь, какъ его имя?
— Знаю. Григорій, комендантъ окликалъ.
— Григорій! — Старуха закатила глаза подъ лобъ и такъ постояла, глядя въ потолокъ, за неимѣніемъ неба. — Григорій… какъ нашъ Другъ… Я слышала, какъ онъ говорилъ солдату Лямину въ коридорѣ: я и печи класть умѣю! Нашъ Другъ… тоже печи клалъ…
— Не плачь только, умоляю.
— Слезливая стала, darling.
…Михаилъ присматривался къ Никулину. Съ удивленіемъ обнаружилъ: онъ сталъ ревновать Юровскаго къ Никулину. Онъ всегда такъ хорошо служилъ и революціи, и ея начальникамъ!
«Думалъ, новому коменданту ты тоже правой рукой станешь? По душѣ придешься? А онъ, вонъ, видишь, съ собой своего щенка привелъ. Прикормленнаго».
«Да пусть кого угодно приводитъ. И пѣстуетъ!»
«Да онъ Никулина — сынкомъ зоветъ!»
«Сынокъ, щенокъ, какая разница. Все равно».
Никулинъ тоже понялъ, что Ляминъ тутъ, въ охранѣ, не изъ простого тѣста слѣпленъ. Сталъ къ Михаилу приближаться болѣе, чѣмъ къ остальнымъ. Можетъ, Юровскій на Лямина какъ-то особо кивнулъ; можетъ, подмигнулъ многозначительно, никто не зналъ. А только Григорій Никулинъ особо зауважалъ бойца Лямина. И баловать его гостинцами сталъ: то папиросъ изъ лавки дорогихъ принесетъ, то косушечку. Ляминъ бралъ, а что жъ отказываться. Косушку — вмѣстѣ выпивали. А что съ ней церемониться, малюсенькая же она.
Никулинъ сказалъ ему, когда на крыльцѣ курили: комендантъ вернулъ арестантамъ ихъ драгоцѣнности въ ящикѣ; приказалъ провѣрить, все ли на мѣстѣ, и самъ по описи провѣрялъ, а потомъ при арестантахъ ящикъ опечаталъ и оставилъ имъ — на храненіе. Ляминъ побагровѣлъ отъ стыда. «Вотъ, я плохо думалъ о Юровскомъ! А онъ-то, онъ — честнымъ оказался!»
Махра пахла остро и худо, козьимъ пометомъ, дымъ разъѣдалъ ноздри, и тревога глодала.
«Нѣтъ, нечисто тутъ что-то. Не можетъ быть начальникъ такимъ щедрымъ! Зачѣмъ онъ имъ золото возвернулъ? Чтобы они — ему — больше довѣряли? Чтобы — за благороднаго держали?»
Въ Домѣ, возлѣ дверей и на лѣстницѣ и у входа стояли дылды-латыши, и винтовки у нихъ за плечами торчали, какъ каменныя. И сами стояли памятниками на площади. Незыблемо. Ударь — не покачнутся. А снаружи охрана толклась все та же — изъ извѣстныхъ Лямину заводскихъ рабочихъ и бывалыхъ солдатъ, что, какъ и онъ, прошли дымы и взрывы міровой войны.
«Какъ насъ много! Зачѣмъ насъ цѣлая толпа? Зачѣмъ мы всѣ тутъ, и доколѣ?»
Додумывать плохую, черную мысль — боялся.
…Ляминъ сталъ плохо спать. Грозы шли съ запада, тучи не ползли, а отвѣсно вставали въ зенитѣ сѣрыми и синими столбами. А солнце пускало обезумѣвшіе лучи горизонтально, параллельно землѣ. Всѣ сошли съ ума, и природа тоже.
Всѣ спятили съ этой революціей, и спятилъ онъ. Двѣ дѣвушки сожгли его, изранили, изрѣзали. И Россію на-двое раздираютъ, ровно лягушку. Царей превратили въ узниковъ, еще немного — нацѣпятъ на нихъ каторжные кандалы, и погонятъ по этапу.
Онъ спятилъ, и онъ сегодня видѣлъ ихъ во снѣ, облитыхъ кровью. Проснулся въ поту, теръ глаза, теръ лобъ, стремясь вытереть, вычистить сумасшедшій мозгъ, видѣвшій то, чего видѣть никакъ нельзя.
И спятилъ онъ, потому что его ребенокъ ему тоже снился; по-всякому, то голый и орущій, на рукахъ у отчего-то тоже голой Пашки, то лежащій на землѣ, въ грязи, и солдаты бѣгутъ, они бѣгутъ не мимо, а прямо на него, и ребенокъ изгибается червякомъ, бьетъ ножками по кислой отъ безпрерывныхъ дождей землѣ, и солдаты бѣгутъ по ребенку, наступая ему на ручки и ножки, раздавливая въ красную грязь его орущую голову, и это осень, это умираніе, и завтра наступитъ зима, и она будетъ вѣчной.
За понедѣльникомъ шелъ вторникъ, за вторникомъ среда, но Ляминъ давно потерялъ счетъ днямъ. Календарь будто сожгли въ печкѣ. Пашка использовала его для розжигу. Или нѣтъ, Юровскій разодралъ его на листы, и въ каждый листъ завернулъ по царской бездѣлушкѣ.
Тамъ, въ опечатанномъ ящикѣ, хранилась и Маріина золотая цѣпочка съ розовой жемчужиной. Онъ смутно и дѣтски жалѣлъ, что не онъ ей эту жемчужину подарилъ. «А не укупилъ бы ты такое великолѣпье никогда! Даже если-бъ — самаго толстаго банкира убилъ!»
А вѣдь и правда, какъ просто: убить одного и отнять у него все, и присвоить себѣ. Богатый былъ богатъ, а теперь онъ бѣденъ и въ грязи валяется, и идетъ на разстрѣлъ, а богатый — ты. Нѣтъ, вожди революціи не хотятъ быть богатыми! Они — за міровую революцію умираютъ! За всемірное братство! Имъ — все равно!
Міръ кроится и кромсается, а тутъ, въ Екатеринбургѣ, ничего не мѣняется въ тихомъ Домѣ. Онъ тихъ и суровъ. И печаленъ. И даже эти дѣвушки, красивыя и нѣжныя, не красятъ его. Тюрьма она и есть тюрьма. Домомъ накрыли ихъ всѣхъ, какъ мышей — шапкой-ушанкой. И сидятъ они подъ шапкой тихо, тише мышей скребутся. И какъ плачутъ, не слышитъ никто.
Ночью опять накатила гроза. Тучи раскалывались надъ городомъ, тяжело переворачивались, громъ возился между тучъ бѣшенымъ медвѣдемъ, рычалъ, ревѣлъ. Молніи шли стѣной. Били безпрерывно. Тата и Ольга сидѣли на кровати, прижались тѣсно. Анастасія молилась. Мать обняла отца за шею, припала къ нему въ постели; чтобы не кричать и не выть отъ тоски, укусила его за плечо. Громъ ударилъ надъ самой крышей. Марія стояла у слѣпого окна, сжавъ руки.
Ляминъ вышелъ изъ караульной въ уборную. Услышалъ, какъ царица вскрикнула въ комнатѣ:
— Маша! Отойди отъ окна! Молнія ударитъ!
А потомъ трескъ услышалъ. Будто трещало дерево, ударенное молніей, и падало.
— Маша! Что ты дѣлаешь!
Рѣзкій стукъ. Стекольный звонъ.
— Маша! Боже! Это же запрещено!
«Открыла окно».
Изъ-подъ двери потянуло сквознякомъ.
Молніи, онѣ такъ слѣпятъ. Михаила гроза всегда притягивала. Ему хотѣлось въ гущу тучъ, подъ огненныя копья молній. Однажды, ребенкомъ, онъ такъ и бѣгалъ по двору въ грозу — ливень хлесталъ, а онъ вопилъ радостно и шлепалъ по лужамъ, и взбрасывалъ руки къ небесному огню, и весь извазюкался въ грязи. Отецъ отхлесталъ его тогда ремнемъ. И сколько еще грозъ потомъ было! Налетали, грохотали. Мучили, молніями въ душу били. Онъ однажды подумалъ: умру въ грозу, молнія въ меня ударитъ, и конецъ.
Вода съ небесъ. Небесная вода. И небесный огонь. А они всѣ на землѣ. И никогда съ земли въ небо не подняться. Только задрать голову и смотрѣть, какъ она тамъ гремитъ, небесная революція. Небесная бойня. Богъ — генералъ, тучи — его солдаты. А молніи — кони. Свѣтъ скачетъ впередъ быстрѣе всѣхъ.
##
Докторъ Боткинъ сидѣлъ за столомъ и писалъ.
Михаилъ видѣлъ доктора каждый день, и каждый день онъ сидѣлъ за столомъ и медленно, терпеливо писалъ.
«Можетъ, какой ученый трудъ пишетъ. Медицинскій. А можетъ, дневникъ; господа всегда эти свои дневники строчатъ. Что ни день, то запись. Какъ поѣлъ, какъ въ нужникъ сходилъ. Вкусная ѣда была или невкусная. Въ кого влюбился, кого разлюбилъ. И что оно такое, дневникъ? Зачѣмъ онъ?»
Смутная тревога бродила по его кровеноснымъ сосудамъ, по сердцу, когда онъ начиналъ думать о дневникѣ.
«Эхъ, вотъ я сколь бы могъ всего интереснаго, важнаго записать! Да — когда? И неграмотенъ я, такъ, какъ господа, слова въ предложенья складывать. Калякать-то еще могу. И бойко, и складно. А вотъ писать — это дѣло потруднѣе… позаковыристѣй».
Онъ много всего уже въ жизни навидался. И все это уйдетъ вмѣстѣ съ нимъ. А ну какъ онъ въ могилу скоро ляжетъ? Смерть не спрашиваетъ, когда ты хочешь ее обнять. Она сама обниметъ тебя. И все, закрылъ глаза и не помнишь ничего; и, главное, не проснешься.
Ляминъ кашлялъ въ кулакъ. Докторъ Боткинъ вздрагивалъ, лопатки его подъ шерстяной безрукавкой сдвигались нервно. Выпрямлялся, втыкалъ перо въ чернильницу. Молчалъ. Ждалъ. Спина становилась послушной и безропотной. Обреченной.
Ляминъ весело выдыхалъ:
— Работаете?
— Да, да, — невнятно отвѣчалъ докторъ и слѣпо, растерянно махалъ рукой.
И опять принимался писать.
…и сегодня писалъ. И еще какъ быстро. Перо процарапывало тонкую желтую бумагу. На почтѣ имъ покупали самую дешевую бумагу, она легко рвалась, ползла подъ руками.
Сидѣлъ въ столовой. Писалъ за обѣденнымъ столомъ. Отобѣдали уже; Пашка унесла и перемыла посуду. Въ саду громко кричали жадныя галки. Онѣ охотились за черной смородиной и малиной. Мелкія сѣверныя яблоки птицу не привлекали.
Ляминъ вошелъ въ столовую, увидѣлъ Боткина.
«Вездѣ сидитъ, куда ни глянь. И пишетъ, пишетъ. Что?»
Его разобрало любопытство.
— Гражданинъ Боткинъ.
Боткинъ молчалъ. Писалъ.
— Евгеній Сергѣичъ. Эй! Слышите!
Боткинъ оторвался отъ бумаги.
— Да? Что?
— Товарищъ комендантъ, — вралъ напропалую, — приказалъ вамъ пройти къ наслѣднику и осмотрѣть его.
— Зачѣмъ? Я осматривалъ его утромъ.
— Не знаю. — Ляминъ правдоподобно пожалъ плечами. — Приказъ коменданта.
Боткинъ тоже пожалъ плечами. Осторожно положилъ вѣчное перо на стальные рога чернильницы. Всталъ. Потянулся. Поднялъ надъ головой руки, какъ гимнастъ, повертѣлъ шеей.
— Остеохондрозъ, знаете ли. Надо больше двигаться. И меньше… говорить.
Издалъ короткій, смущенный смѣшокъ.
Вперевалку, уткой, двинулся къ двери, вышелъ.
И Ляминъ неожиданно хищно бросился къ столу. И читалъ, читалъ взахлебъ, дико и торопливо, стараясь разсмотрѣть, понять мелкія буквы, рвущіяся впередъ строчки, этотъ граціозный витіеватый почеркъ, и то, что за почеркомъ, и то, что могло быть тайной, тайной не только Боткина, но и ихъ всѣхъ. Пальцемъ по еле высохшимъ лиловымъ строкамъ — водилъ. Губами шевелилъ, вслухъ повторяя слова.
«Дорогой мой, добрый другъ Саша. Дѣлаю послѣднюю попытку писанія настоящаго письма — по крайней мѣрѣ отсюда, — хотя эта оговорка, по-моему, совершенно излишняя: не думаю, чтобы мнѣ суждено было когда-нибудь куда-нибудь откуда-нибудь писать. Мое добровольное заточеніе здѣсь настолько же временемъ не ограничено, насколько ограничено мое земное существованіе. Въ сущности, я умеръ — умеръ для своихъ дѣтей, для дѣла… Я умеръ, но еще не похороненъ или заживо погребенъ — какъ хочешь: послѣдствія почти тождественны… У дѣтей моихъ можетъ быть надежда, что мы съ ними еще свидимся когда-нибудь въ этой жизни, но я лично себя этой надеждой не балую и неприкрашенной дѣйствительности смотрю прямо въ глаза… Поясню тебѣ маленькими эпизодами, иллюстрирующими мое состояніе. Третьяго дня, когда я спокойно читалъ Салтыкова-Щедрина, которымъ зачитываюсь съ наслажденіемъ, я вдругъ увидѣлъ какъ-будто въ уменьшенномъ размѣрѣ лицо моего сына Юрія, но мертваго, въ горизонтальномъ положеніи съ закрытыми глазами. Вчера еще, за тѣмъ же чтеніемъ, я услыхалъ вдругъ какое-то слово, которое прозвучало для меня какъ „папуля“. И я чуть не разрыдался. Опять-таки это не галлюцинація, потому что слово было произнесено, голосъ похожъ, и я ни секунды не сомнѣвался, что это говоритъ моя дочь, которая должна быть въ Тобольскѣ… Я, вѣроятно, никогда не услышу этотъ милый мнѣ голосъ и эту дорогую мнѣ ласку, которой дѣтишки такъ избаловали меня…»
Палецъ оторвался отъ бумаги. Въ коридорѣ скрипнула половица. Голосъ Пашки послышался, вспыхнулъ короткимъ громкимъ смѣхомъ и погасъ. Михаилъ бездумно навалился руками, грудью на письмо, защищая его, какъ отъ собаки птенца.
«Если „вѣра безъ дѣлъ мертва есть“, то дѣла безъ вѣры могутъ существовать. И если кому изъ насъ къ дѣламъ присоединилась и вѣра, то это только по особой къ нему милости Божьей. Однимъ изъ такихъ счастливцевъ, путемъ тяжкаго испытанія, потери моего первенца, полугодовалаго сыночка Сережи, оказался и я. Съ тѣхъ поръ мой кодексъ значительно расширился и опредѣлился, и въ каждомъ дѣлѣ я заботился и о Господнемъ. Это оправдываетъ и послѣднее мое рѣшеніе, когда я не поколебался покинуть моихъ дѣтей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долгъ до конца, какъ Авраамъ не поколебался по требованію Бога принести ему въ жертву своего единственнаго сына…»
Шаги рядомъ съ дверью. Ляминъ отошелъ отъ стола. Бумага лежала такъ же, перо покоилось такъ же.
— Я выполнилъ приказъ Юровскаго. Наслѣдникъ цесаревичъ осмотрѣнъ. Состояніе у него все то же, безъ измѣненій. Ни въ худшую, ни въ лучшую сторону измѣненій не наблюдается. Температура чуть повышенная, субфебрилитетъ, тридцать семь и одна.
«Отчитывается передо мной, будто не онъ лейбъ-медикъ, а я. А онъ — мой помощникъ».
— Хорошо. Я передамъ коменданту.
Докторъ Боткинъ подходилъ къ столу, а Ляминъ медленно отходилъ отъ него.
— Вы читали мое письмо?
«Видѣлъ все старикъ».
— Заглянулъ.
— А вы знаете, что чужія письма читать нехорошо?
— Знаю, — зло выдохнулъ Михаилъ. — Вы хотѣли, чтобы я вамъ совралъ?
— Нѣтъ.
— Вы видѣли.
— Нѣтъ, не видѣлъ. У васъ такое лицо. На немъ все написано.
Боткинъ подошелъ близко къ Лямину и постучалъ пальцемъ ему по груди.
— Это хорошо или плохо?
Ляминъ кусалъ губы.
— Хорошо. Здѣсь, — опять постучалъ ему по твердо-деревянной, подъ гимнастеркой, мышцѣ, — у васъ есть сердце. Еще — есть.
Запоздало стали густо-малиновыми щеки Лямина.
— И это хорошо, вы краснѣть не разучились. Стыдъ, милый человѣкъ, это почти страхъ Божій. А безъ Божьяго страха нѣтъ и человѣка. Слышите ли! Нѣтъ.
— А кто же тогда мы всѣ безъ этого страха?
«Съ нимъ-то какъ-разъ большевики и борются, съ предразсудкомъ этимъ».
Боткинъ вздохнулъ тяжело и прерывисто.
— Нелюди, дорогой. Нелюди.
##
Рабочіе люди прикрѣпляли рѣшетку къ окну.
Окно было открыто, и они всѣ могли подойти къ раскрытымъ створкамъ и вволю подышать лѣтнимъ воздухомъ. Можетъ, это чудо. А можетъ, подвохъ. Никто не знаетъ.
Николай щурился и глядѣлъ на странный, состоящій изъ многихъ предметовъ, бѣлый свѣтъ за окномъ. Тамъ, въ открытомъ квадратѣ, шумѣли на вѣтру листья, неслись въ синевѣ облака, торчали надъ крышами трубы, грохотали по мостовой авто. Жизнь снаружи шла и проходила, и ее сегодня можно наблюдать. Какая нѣжность, до слезъ.
Рабочіе молча привинчивали за окномъ рѣшетку. Рѣшетка была тяжелая и все время валилась у рабочихъ изъ рукъ, и они ее ловили и матерились.
Чугунъ рѣшетки что-то важное зачеркивалъ въ ихъ жизни. Царь глядѣлъ на чугунные прутья, по обыкновенію чуть прищурившись. И они его пугали. А онъ испугу не поддавался.
Онъ же былъ — солдатъ.
А вотъ жена испугалась. Не на шутку! Комендантъ запретилъ имъ монастырскія подношенія: сливки, сыръ, яйца и творогъ. Аликсъ дрожала и все повторяла: какая низость, какая низость, они лишаютъ насъ послѣдней радости, они что-то задумали! Что, усмѣхался мужъ, что они могутъ задумать? Все уже не только задумано, но и сдѣлано.
Аликсъ повторяла беззвучно: нѣтъ, не все! Не все! Почему ты такой безчувственный!
И онъ послушно соглашался: нѣтъ, не все, насъ ждетъ новая пытка.
Марія смотрѣла, какъ мать сжимаетъ руку въ кулакъ. Она такъ рѣдко сжимала кулаки. И онъ былъ такой странный и жалкій, этотъ кулакъ: маленькій, какъ у ребенка, съ истончившейся кожей, съ коричневыми плоскими пятнами, будто въ бородавкахъ. Пестрый, желточерный, что яйцо перепелки.
Послѣ утренняго чая царица ложилась и не вставала. У нея сильно болѣла голова.
Марія клала ей на лобъ, какъ всегда, вымоченное въ холодной водѣ полотенце.
Алексѣя изъ столовой отецъ несъ на рукахъ. Укладывалъ въ постель. Алексѣй говорилъ: спасибо, папа, — и тутъ же поворачивался лицомъ къ стѣнѣ.
И не хотѣлъ ни смотрѣть, ни говорить.
Подъ кѣмъ молча жилъ городъ? Подъ бѣлыми или подъ красными? А ни подъ кѣмъ. Затишье. И надо лежать лицомъ къ стѣнѣ и ни о чемъ не думать. И даже молиться безполезно. Теперь уже все равно.
##
Въ домъ привезли раненаго.
Великія княжны рано утромъ, еще чуть свѣтало, услыхали возню и ворчанье въ коридорѣ.
И кто-то громко, тяжело и безконечно стоналъ.
Внутри стоновъ иногда возникала пустота молчанья; а потомъ человѣкъ начиналъ стонать опять, длинно и жутко.
Ольга и Марія одновременно сбросили ноги съ кровати.
— Оличка… кто-то стонетъ…
— Машинька. Я слышу.
Оглянулась. У Татьяны и Анастасіи открыты глаза. Слышатъ всѣ.
— И папа и мама тоже слышатъ. И Бэби.
Человѣкъ стоналъ все сильнѣе.
— Раненый, — очень тихо, едва слыхать, сказала Марія.
Ольга уже быстро напяливала поверхъ ночной сорочки платье, подпоясывалась на-спѣхъ, всовывала ноги въ домашнія туфли.
— Идемъ!
Марія и Татьяна поняли ее безъ словъ. Одѣвались такъ же поспѣшно. Сонная Анастасія поднялась съ койки и шатнулась, и чуть не упала. Марія подхватила ее.
— Настинька… Ты спи. Вѣдь еще очень рано. Пѣтухи еще первые поютъ…
Далеко, за Ипатьевскимъ домомъ, за заборами и мостовыми, гдѣ-то въ другой, славной и сладкой жизни, и правда пѣли мирные, давніе пѣтухи.
Онѣ выбѣжали въ коридоръ, все трое. Пробѣжали коридоромъ, въ свѣтлыхъ холщовыхъ платьяхъ, Марія — въ широкой бѣлой блузѣ поверхъ платья, похожія на ожившихъ, слетѣвшихъ съ церковной фрески ангеловъ. Остановились передъ комнатой, откуда раздавались стоны. Сестры опустили глаза. Онѣ увидѣли ноги Маріи.
— Машка! Ты же босая!
Она сама смотрѣла на свои ноги.
— Ну и что! Босая такъ босая!
Стояла босикомъ на грязномъ, заплеванномъ, въ окуркахъ, неряшливо крашенномъ полу.
Вздернула кулакъ и крѣпко въ дверь постучала.
— Откройте! Это сестры Романовы. Мы можемъ оказать первую помощь!
Затрещали половицы подъ шагами. Дверь открылъ Сашка Люкинъ.
Глаза на-выкатѣ. Голова побрита, какъ у каторжнаго. Измѣрилъ дѣвушекъ глазами, плюнулъ — безъ слюны — вбокъ, досадливо.
— Вамъ-то што тутъ надоть? Спать ступайте!
Марія сжимала руки передъ грудью.
— Мы можемъ перевязать! Вѣдь у васъ раненый!
— Онъ можетъ умереть! — крикнула Татьяна.
Она стояла блѣднѣе всѣхъ; щеки крахмальной наволочки бѣлѣе. И глаза бѣгаютъ, и губы дрожатъ.
За спиной Люкина, на порогѣ, появились еще двое, потомъ трое, потомъ пятеро солдатъ, потомъ вся комната гудѣла и кишѣла солдатами, — или это у нихъ въ глазахъ двоилось. Отъ слезъ.
Солдаты кричали:
— А, эти!
— Што не спицца барышнямъ?!
— Явились, вотъ те разъ!
— На кровь поглядѣть?!
— По-жа-лѣ-е-е-еть?!
— А ну давай шуруй отседа! Шуруй, шуруй! А не то мы щасъ васъ всѣхъ…
Пальцами прищелкивали. Зубоскалили.
Кое-кто и свистѣлъ даже — кольцомъ пальцы сложилъ и въ ротъ засунулъ, и свистнулъ.
Стоны не стихали. Марія шагнула впередъ. За порогъ.
Она переступила порогъ, и сестры съ ужасомъ глядѣли на нее.
— Машка… — Татьяна округлила темные вишни-глаза. — Они же тебя сейчасъ… схватятъ…
Люкинъ и правда весело вцѣпился Маріи въ круглыя, подъ кружевной блузой, плечи.
— Ишь ты! Какая! Самая средь ихъ сдобная! Сдобна булочка-пирогъ, закатись-ка за порогъ!
Марія сняла съ плечъ сначала одну руку Люкина — обѣими своими руками, потомъ другую.
— Вы не поняли. — Губы ея слегка вздрагивали. Широкія скулы рдѣли. — Мы хотимъ помочь.
— Помо-о-о-очь?
— Ну да. Да! Мы же работали въ войну въ госпиталяхъ! Мы — экзамены сдавали!
— Мы — операціи дѣлали! И хирургамъ ассистировали! — отчаянно, высоко крикнула Татьяна.
Ольга молчала. Переводила взглядъ на одного, на другого, на третьяго солдата.
— Гдѣ раненый? — тихо и строго спросила.
— Не твое дѣло!
— Мы можемъ его перевязать. Пулевое раненіе? Осколочное? Ножевое? Сквозное? Куда? Въ конечность? Въ животъ? Въ голову? Въ позвоночникъ?
Ольга задавала вопросы, какъ настоящій хирургъ. Бойцы притихли.
— Она… и вправду знаетъ…
— Ищо чево… отъ рукъ гадюки царской спасенье принимать… пусть проваливатъ…
Татьяна безпомощно озиралась. Губы кусала.
Схватила Марію за подолъ, тащила назадъ, вонъ изъ комнаты.
— Машка, Машка… Маруся… Руся… да выйди ты оттуда…
Марія смотрѣла въ лицо Люкину.
Раненый опять застоналъ, дико, протяжно, а потомъ и заоралъ.
— И вамъ не стыдно вести время?
Люкинъ жадно поймалъ губами воздухъ, донесшійся изъ губъ Маріи.
Почмокалъ и сощурился.
— Не стыдно. Щасъ все сами перевяжемъ! Што мы, не воевали! Брысь, курочки! Разойдися!
По коридору шумѣли шаги.
Пашка подошла и грубо, зло оттолкнула отъ порога Марію.
Марія уступила Пашкѣ дорогу.
Пашка переступила высокій порогъ, растолкала стрѣлковъ и подошла къ койкѣ. На койкѣ лежалъ раненый боецъ и корчился.
— Эхъ, солдатъ, солдатъ, — сказала Пашка ровно и угрюмо. — Мало ты воевалъ. Вотъ бы повоевать еще бы.
Обернула ко всѣмъ бѣлое, желтое отъ злости лицо.
— Бинты есть?!
Марія слушала, какъ Пашка кричитъ.
Ольга и Татьяна заткнули уши.
— Пашка, кончай орать… откудова у насъ бинты?!
— Доктора трясите!
Люкинъ, грохоча сапогами по коридору, бѣжалъ къ доктору Боткину.
И тутъ откуда-то изъ табачной тьмы голой, грязной комнаты явился Ляминъ.
Безъ фуражки. Гимнастерка не заправлена въ штаны, полы висятъ поверхъ ремня. Рожа рыжая, какъ и спутанный рыжій овинъ волосъ — будто взяли и испекли его въ печкѣ: такъ обгорѣлъ на солнцѣ.
— Что за шумъ, а драки нѣтъ?
— А ты што, дрыхъ?
— Не возбраняется, если не въ караулѣ.
Ляминъ молча подошелъ къ Маріи.
— Идите отсюда… иди… Не надо тутъ…
Люкинъ бѣжалъ по коридору съ рулонами бинтовъ и пакетами марли.
— Вотъ! Валяй, Пашка! Дохтуръ ты таковскій, Паня, всѣмъ дохтурамъ дохтуръ!
Пашка взяла изъ рукъ Люкина бинты. Подошла къ койкѣ. Раненый пересталъ стонать, поднялъ вѣки, искалъ вокругъ красными, воспаленными глазами, нашелъ Пашку съ призраками бѣлыхъ бинтовъ, какъ бѣлыхъ голубей, въ рукахъ.
Пашка бросила бинты прямо на грязный полъ. Взяла одинъ, разорвала зубами тесемку, сѣла на край койки.
— Разнагишайте мнѣ его!
Бойцы раздѣли раненаго, стащили съ него гимнастерку, пропитанную кровью, тяжелую, влажную, темную; раненый вскрикивалъ и скрежеталъ зубами.
— Раненіе сквозное, пулевое, — беззвучными, ледяными губами сказала Марія, — легкое пробито… летальный исходъ возможенъ…
Пашка не слышала этого бормотанья цесаревны. Она сложила кусокъ марли вчетверо, притиснула къ ранѣ. Крикнула:
— Эй, кто-нибудь! Руку ему поднимите! И набокъ… поверните!
Бойцы выполняли ея приказы. Цесаревны стояли и безпомощно смотрѣли. Онѣ смотрѣли, какъ Пашка грубо, неловко, но все сильнѣе и ловчѣй и ухватистѣй, перевязываетъ раненаго — стиснувъ губы, сжавъ зубы, мотокъ за моткомъ, витокъ за виткомъ страшной, зимней бѣлизны. Зимняя гора росла на груди бойца и подъ мышкой. Онъ стоналъ все тише. То ли полегчало, то ли умиралъ.
Ляминъ стоялъ въ дверномъ проемѣ. Онъ смотрѣлъ на босыя ноги Маріи.
«Вотъ бы — на колѣни… И — ноги эти — нѣжно — губами… щеками…»
Марія повернулась первой — уходить. И первая пошла. Сестры за ней.
Онѣ, трое, шли по коридору и плакали, каждая другой не показывая, изо всѣхъ силъ скрывая слезы.
##
Царей выгуливали.
Семья ходила кругами по двору: сначала въ одну сторону, потомъ въ другую. Сестры брали другъ дружку подъ ручки. Ляминъ стоялъ на караулѣ около забора. Подъ его сапогами приминалась мягкая, свѣжая трава.
«Туда-сюда бродятъ. Тюрьма, она и есть тюрьма. Ужъ лучше бы въ настоящую помѣстили».
Царь вдругъ отдѣлился отъ гуляющаго семейства и подошелъ къ Лямину.
— Товарищъ Ляминъ…
Михаилъ видѣлъ глаза царя. Плыло зеленое небо, и дрожало зеленое, синее болото. Смѣщалась земля, падала въ широкіе зрачки.
— Что вамъ?
— Вотъ вы мнѣ скажите… одну вещь.
Ляминъ покосился на скамейку возлѣ подвальныхъ оконъ.
— Можетъ, присядемъ?
— Давайте. Не откажусь.
Оба пошли къ скамейкѣ. Ляминъ медлилъ садиться. Царь сѣлъ осторожно, будто на ежа. Въ жару, въ холодъ, всегда — въ полковничьей этой фуражкѣ. Фуражку смущенно поправилъ, уставился на Лямина.
Ляминъ — ждал.
— Товарищъ Ляминъ, вы газеты читаете?
— А какъ же. Читаю. Чтобы знать, что въ Россіи творится.
— Вы мнѣ… пересказать не можете?
Михаилъ растерялся.
— Пере… сказать? Что? Я не знаю. Много всего происходитъ.
— Вы мнѣ — про Ленина разскажите.
— Про… Ленина?
Растерялся еще больше. Царь глядѣлъ кротко, прозрачно, бездонно.
— А что жъ вамъ такого про Ленина-то? Ну, власть у него… ну, командуетъ. Война вѣдь идетъ! И насъ… хотятъ затоптать… Антанта хочетъ, бѣляки… надо ихъ къ ногтю…
Самому казалось: лепеталъ дѣтски, смѣшно.
— Гражданинъ Романовъ! Не умѣю я говорить про это!
Повернулся, чтобы итти, и тутъ царь странно, стыдно схватилъ его за руку и сжалъ эту руку. Держалъ его, и крѣпко.
Ляминъ смотрѣлъ на царя сверху внизъ и видѣлъ: прозрачные, болотные глаза его метались, будто вода изъ нихъ хлестала; будто плакалъ, только безъ слезъ.
— А что онъ дѣлаетъ со страной? Что онъ — съ Россіей дѣлаетъ? Вѣдь это невозможно! Вѣдь это нельзя такъ!
Ляминъ, озираясь, нехотя на лавку — сѣлъ. На самый краешекъ. Вотъ-вотъ вскочитъ и уйдетъ.
— Почему — нельзя? Ленинъ все дѣлаетъ правильно. На насъ нападаютъ — мы должны защищаться! Насъ хотятъ умертвить, уничтожить — такъ мы жъ убьемъ тѣхъ, кто на насъ полѣзетъ! И Ленинъ, онъ вѣрные приказы отдаетъ! По всей Россіи война идетъ, гражданинъ Романовъ. Вонъ какъ Сибирь зажглась! А бѣлоказаки что творятъ! Начисто села вырѣзаютъ! Заимки поджигаютъ! Да разгромить этихъ бѣляковъ къ…
Сжалъ кулакъ и отчего-то показалъ его царю.
Будто царь былъ главный виновникъ огненной русской смуты.
И царь поглядѣлъ на этотъ кулакъ холодно, отрѣшенно.
Опять водяные глаза на Лямина вскинулъ. Никуда отъ этихъ глазъ не уйти.
— А Ленинъ? Что про Ленина пишутъ? Что онъ тамъ… — Наконецъ насилу выговорилъ. — Про насъ — думаетъ? Ничего не пишутъ? Ничего?
— Не до этого Ленину, — мрачно выдохнулъ Михаилъ. — Не до васъ. Вы всѣ тутъ… вотъ… живете… а мы васъ сторожимъ. Пока такъ вотъ. Дальше — что прикажутъ.
— А приказа… — Царь сглотнулъ, усы его дрогнули. Чуть прикрылъ глаза, и Лямину стало легче. — Приказа никакого не было отъ Ленина? Насчетъ насъ? Въ газетахъ — не печатали?
— Нѣтъ, не было приказа.
Ляминъ глядѣлъ себѣ подъ ноги. По сапогу ползла малая букашка.
— И… комендантъ приказа никакого не получалъ?
Мишка разсердился.
— Да съ чего вы взяли! Вы меня просто пытаете! Все! Отставить разговоры!
Поднялся. И царь всталъ со скамейки, поправилъ ремень. Глаза его, подъ козырькомъ фуражки, внезапно и страшно ввалились вглубь черепа, подглазья потемнѣли, обвисли, и онъ разомъ постарѣлъ на добрый десятокъ лѣтъ.
##
…я хотѣлъ его, солдата этого, разспросить объ ихъ вождѣ, я его, видимо, недооцѣнивалъ все это время, Ленинъ не такъ недалекъ и глупъ, какимъ я его себѣ представлялъ, нѣтъ, онъ уменъ, хитеръ и дальновиденъ, но онъ очень, очень жестокъ, такими жестокими не могутъ быть люди. Говорятъ, онъ на смерть самъ отправляетъ людей въ темные подвалы, и тамъ палачи ихъ казнятъ разными страшными способами. Но вѣдь это хуже средневѣковья! Да, это хуже средневѣковья, въ тысячу разъ хуже. И мы живемъ въ этомъ времени. И еще будемъ жить. Легче умереть! О нѣтъ, умирать не надо. Господь самъ возьметъ насъ, когда Ему будетъ угодно. Все же назначено. Вспомни Серафимушку. Вспомни бумагу монаха Авеля изъ той, въ Саровѣ, шкатулки. Ленинъ страшный человѣкъ, и онъ, можетъ-быть, даже и не человѣкъ, а тотъ, кому теперь имени нѣтъ, но онъ теперь главный, онъ командиръ, да что тамъ, самъ себѣ признайся, — онъ царь, онъ просто занялъ твое мѣсто, взялъ твою власть и топитъ твою страну въ крови твоихъ, твоихъ людей. Да! Моихъ людей! Которыхъ я любилъ и люблю!
…которыхъ ты задавилъ въ орущихъ толпахъ Ходынки; разстрѣлялъ на крейсерахъ японскими торпедами; вздернулъ на висѣлицы за малую, ничтожную провинность; перебилъ въ то несчастное, будь оно проклято, воскресенье, и народъ самъ назвалъ его Кровавымъ; послалъ на жуткую войну, гдѣ они падали подъ снарядами, корчились подъ пулями, задыхались, окутанные ядовитыми газами; которыхъ ты, ты, да, ты, великій царь, самъ велъ на смерть, и сейчасъ они, твои люди, продолжаютъ итти на смерть — изъ-за тебя, за тебя!
…за тебя… за тебя… поютъ народы…
…за тебя… за тебя… всѣ эти долгіе годы, и дѣти выросли, и у нихъ могутъ народиться свои дѣти…
…а этотъ Ленинъ? Да, этотъ Ленинъ? Маленькій лысый человѣчекъ? Ты думалъ — онъ кукленокъ, игрушечный рождественскій поросенокъ. А онъ оказался настоящимъ вождемъ, и держитъ твою Россію въ кулакѣ — и давитъ, давитъ изъ нея сокъ и кровь! — и тебя держитъ въ тюрьмѣ, вѣдь этотъ домъ — тюрьма, и этотъ дворъ — тюрьма, и ты знаешь, что скоро Ленинъ прикажетъ съ тобой сдѣлать? Да, знаю! Знаю! Все въ пророческихъ пергаментахъ написано! Ага, знаешь. Знаешь, такъ молчи. Что жъ возстаешь? Что плачешь и кричишь? Никому не хочется гибнуть. А за свою страну? Такъ вѣдь умеръ бы! За Россію! За матушку! На брустверъ вражескій пошелъ бы! Подъ пушечное ядро! Я же солдатъ! Солдатъ! Солдатъ! А меня держатъ тутъ! Въ тюремномъ домѣ! На хлѣбѣ и водѣ, на клейкой гречневой кашѣ! А я, можетъ, я хочу воевать! Съ тобой, чертенокъ Ленинъ! Да, съ тобой! Потому что я — настоящій царь, а ты — гадкій самозванецъ! Ты собачій сынъ! А я — сынъ императора! Я царь Россіи, и Великія и Малыя и Бѣлыя… Руси…
…за тебя… за тебя… царь мой… я молюсь…
…она молится… слышишь… и они — молятся… и еще — будутъ впредь молиться…
##
Откуда, какъ Ляминъ это услышалъ? Но вѣдь услышалъ же.
…сегодня, нынче, вотъ сейчасъ, рожденье Маріи; у нея именины; и надо сдѣлать праздникъ, а дѣвочки уже просили у охраны и у коменданта, чтобы разрѣшилъ имъ сдѣлать сегодня фотографическіе снимки, и Марія надѣла такое красивое бѣлое, съ кружевами и оборками, платье, онъ самъ уже видѣлъ. Воспользоваться фотографическимъ аппаратомъ имъ отказали. И это Ляминъ слышалъ.
Онъ видѣлъ и слышалъ теперь много всего, зрѣніе, нюхъ и слухъ у него странно, какъ у звѣря, обострились. Чѣмъ бы обрадовать ее? И всѣхъ? Къ лѣшему всѣхъ, ему надо — ее.
Только — ее.
…онъ никогда, никогда не хотѣлъ сдѣлать Пашкѣ праздникъ. А вотъ Маріи — захотѣлъ; до боли подъ ложечкой, до сухости во рту.
Что придумать? Куда побѣжать? Что купить, на какія деньги?
Побренчалъ въ карманѣ штановъ монетами. Негусто.
Мысль прошибла веселая, яркая.
Слава Тебѣ Господи, нынче онъ не стоялъ въ караулѣ. Свободенъ — бѣги по улицамъ, слоняйся, гуляй!
…Онъ побѣжалъ, такъ быстро еще никогда не бѣгалъ, и сапоги его топали, гремѣли по деревяннымъ тротуарамъ, по булыжной мостовой, и этотъ топотъ и стукъ оставался позади него, за его лопатками.
«У нея именины. У нея именины!»
Слова бились въ головѣ, текли сладкимъ, терпкимъ, краснымъ сиропомъ.
Гудѣли авто: шоферы, веселясь, пугали стремглавъ бѣгущаго по улицамъ рыжаго молодого солдата. Можетъ, укралъ у кого-то въ кабакѣ часы или портсигаръ, и теперь уноситъ ноги?
…Увидалъ вывѣску: «КОНДИТЕРСКАЯ». Влетѣлъ. Застылъ на порогѣ. Кондитеръ поманилъ толстымъ пальцемъ. Михаилъ, стыдясь, подошелъ къ прилавку. Торты, пирожныя, пирожки, кулебяки. Разстегаи, слойки, горы конфектъ въ стеклянныхъ вазочкахъ. Варенье въ стальныхъ смѣшныхъ бочонкахъ. «Вотъ какъ они, богатые, у кого денежки, живутъ. Намъ — такъ — никогда не жить! А — хочется!»
— Чѣмъ могу служить? — согнулся пухлый кондитеръ въ поклонѣ.
— Да я не знаю, — откровенно сказалъ Мишка.
— Ухъ вы и рыжіе, товарищъ, такіе рыжіе! Страсть! — сказалъ кондитеръ и разогнулся. И смѣялся. Во рту блестѣли золотые вставные зубы.
Михаилъ разсердился.
— Мнѣ… что-нибудь… вкусненькое.
— Для себя, къ столу чайному? Или по какому случаю?
Толстый кондитеръ игралъ золотой цѣпочкой брегета на затянутомъ въ бѣлый атласъ жилетки, кругломъ брюхѣ.
— По… случаю. Ко дню рожденья подарокъ. Барышнѣ… одной.
— О, дѣвицѣ? Дѣвицы сладкое-то любятъ! Лю-у-у-убятъ! — Кондитеръ расплылся въ приторной улыбкѣ. — Возьмите тортикъ! Съ розочками! Невѣроятный! Съ начинкой изъ орѣховъ и безе! Только сейчасъ изъ Парижа рецептъ доставили!
— Я… невѣстѣ.
— А! Невѣстѣ! Невѣстушкѣ! Такъ вѣдь такой пирогъ! Только для невѣстъ, нарошно, и выпекаемъ!
— Сколько… стоитъ?
Кондитеръ, скаля золотые зубы, назвалъ цѣну. Мишка вытащилъ изъ кармана деньги. Сосредоточенно считалъ.
— Разъ, два… пять… восемь… Еще пять гривенниковъ и рубль… Нѣтъ, не хватитъ. Давайте что другое. Подешевше.
— Хм, другое. Понятно, дѣвицѣ, да… А вотъ пирогъ возьмите! Свѣжій, еще теплый, горячій!
— Съ чѣмъ пирогъ?
— Съ вареньемъ! Съ малиновымъ, сударь… пардонъ, товарищъ! Пальчики оближешь, какой пирогъ!
— Покажите.
Кондитеръ ловко выдернулъ, на деревянной дощечкѣ, пирогъ съ полки и брякнулъ о прилавокъ. Отъ пирога понесся сладкій малиновый духъ. Корочка румянилась, блестѣла, смазанная яйцомъ.
— Божественный пирогъ! Амброзія! Нектаръ!
Кондитеръ закатывалъ глаза. Золото зубовъ блестѣло, брегетъ изъ кармана жилетки валился на полъ. На пирогъ у Лямина денегъ хватило.
Ссыпалъ всѣ деньги, монеты и бумаги, въ готовно подставленную пригоршню торговца.
Выбѣгалъ изъ кондитерской прочь, а толстякъ кричалъ вослѣдъ:
— Довольнешенька ваша невѣста будетъ! Еще за однимъ — васъ пошлетъ!
…Несъ въ Ипатьевскій домъ, прижимая къ животу, чтобы пирогъ не растерялъ тепло.
Взлетѣлъ по лѣстницѣ, какъ на небо вознесся. Въ гостиной услышалъ веселые голоса. Около двери въ гостиную стояла на караулѣ Пашка. Увидѣла Лямина со сверткомъ въ рукахъ.
Сдернула съ плеча винтовку и заслонила ею дверь.
— Куда?!
— Пашка, — онъ старался и говорить, и дышать спокойно, — не сходи съ ума.
— Куда тебѣ, зачѣмъ туда? Ступай въ комендантскую! Тамъ тебя Юровскій ищетъ!
Онъ видѣлъ, что она вретъ.
Озлился.
— Ты. Не прогоняй меня. Я тебѣ не вещь, не отшвырнешь.
Крѣпко взялся за винтовку и рванулъ къ себѣ. Пашка откатилась отъ двери вмѣстѣ съ винтовкой, отбѣжала, зло крестила его льдистыми глазами.
— Подарочекъ пришелъ дарить? Да?!
Уже въ открытыхъ дверяхъ онъ обернулся къ ней и рѣзко крикнулъ:
— Да!
И вошелъ въ гостиную.
…они всѣ не стояли на мѣстѣ, всѣ двигались, поворачивались, разводили руками, стискивали руки, смѣялись, о чемъ-то оживленно, свѣтло и ласково переговаривались, тамъ и сямъ вспыхивали огни смѣха и тутъ же гасли, блестѣли чисто вымытые локоны, блестѣли натѣльные крестики въ вырѣзахъ платьевъ, улыбались веселые юные рты, а, вотъ и старуха тутъ, старуха, да она сегодня вовсе не старуха, принарядилась, умѣло причесалась — и вотъ, глядишь, уже не старуха, а молодуха, глаза горятъ, зубы въ улыбкѣ блестятъ, уже мелкіе, желтые, старые лисьи зубки, закусала ими Россію, нѣмчура, да не прокусила насквозь, не удалось, мы, красные, опередили, — а они всѣ гомонили, веселились, къ кому-то все время живо и весело поворачивались, кого-то крѣпко обнимали, — и онъ понималъ, кого, онъ догадывался, кого, да только не видѣлъ ее, за кѣмъ и отъ кого она прячется, она скользитъ и исчезаетъ, то ли это бѣлое платье ее метелью заметаетъ, то ли бѣлое, слѣпо замазанное окно мертво глядитъ въ залу вмѣсто нея, а она — за створками двери, за гардиной, она играетъ въ прятки — съ кѣмъ? съ нимъ? — ну погоди, дѣвчонка, онъ тебя настигнетъ, онъ ужъ тебѣ покажетъ!
Онъ шелъ къ столу, какъ слѣпой, держа пирогъ въ вытянутыхъ рукахъ впереди себя, и шелъ къ столу цѣлый вѣкъ, и ноги вязли во вдругъ ставшемъ мягкомъ и ледяномъ паркетѣ, и шея не гнулась, онъ не могъ обернуться и поглядѣть, какъ надъ нимъ смѣются и объ немъ судачатъ.
Онъ подошелъ къ праздничному столу, и всѣ вразъ замолкли и замерли.
И смотрѣли на него. На одного его.
Въ молчаніи было слыхать, какъ мѣрно, мѣдно клацаетъ надъ головами маятникъ петроградскихъ настѣнныхъ часовъ «Фридрихъ Винтеръ».
— Вотъ, — онъ не узналъ свой хриплый голосъ. Онъ доносился не изъ горла, а откуда-то извнѣ, вродѣ какъ съ потолка. — Поздравляю. Съ имянинами! Марью Николавну! Пирогъ вотъ… имянинный…
Искалъ, все искалъ ее глазами.
И — нашелъ.
Она стояла здѣсь-же, у стола, и — вотъ чудо — рядомъ съ нимъ. И отъ нея къ нему доносилось тепло, какъ отъ пирога. И онъ такъ же, крѣпко, нѣжно, какъ давеча пирогъ, хотѣлъ прижать ее къ своей груди, къ животу. И нести, унести куда-то, давно забылъ куда, но далеко, далеко.
На праздничномъ столѣ стояли: стаканы съ чаемъ, тонко нарѣзанный ржаной, бѣлые сухари, тарелки съ вѣчной гречневой кашей, вареныя яйца на бѣломъ фаянсовомъ блюдцѣ, вродѣ какъ въ Пасху, и что-то бѣлѣло въ сахарницѣ, можетъ, сахаръ, а можетъ, сахаринъ, а можетъ, сметана. Не разобрать. Михаилъ протянулъ руки и сталъ медленно разворачивать пирогъ, выпрастывать изъ промасленной бумаги, слой за слоемъ.
Вынулъ. Бумага на полъ со стола сползла. Шуршала подъ ногами. На бумагу наступали, не видя ее. Видѣли только пирогъ. И восклицали, и кричали, всплескивая веселыми руками:
— Мама! Папа! Глядите! Какой прелестный пирогъ! Настоящій именинный пирогъ! Какое чудо! Да это же чудо! Настоящее чудо! Солдатъ Ляминъ, какое чудо, чудо вы намъ принесли!
Марія смотрѣла на него. Онъ смотрѣлъ на нее и чувствовалъ запахъ, исходящій отъ нея.
— Ну такъ давайте разрѣжемъ. На всѣхъ, — сказала Марія, не отрывая глазъ отъ глазъ Лямина, и протянула руку къ сестрамъ — чтобы вложили въ руку ножъ.
Ножъ ей дали. Она крѣпко сжала въ рукѣ ножъ.
…столовое семейное серебро. Еще въ Царскомъ Селѣ тѣ ножи рѣзали мясо и отрѣзали куски отъ масла, и намазывали на хлѣбъ черную икру, и вонзались въ арбузы и дыни.
…а можетъ, бывалый солдатскій ножъ, и Пашка его вытащила со дна вещевого мѣшка, и свалила въ кучу со щербатыми вилками и обгрызенными деревянными ложками, въ чанъ съ кипяткомъ, гдѣ мыла посуду, мисками грохотала.
Марія взмахнула ножомъ, воткнула его въ пирогъ и стала рѣзать. И еще воткнула, и — отрѣзала кусокъ.
Тата подсунула ей тарелку. Марія, орудуя ножомъ, положила на тарелку кусокъ пирога. Изъ пирога на бѣлый фаянсъ вытекало красное варенье. Текло и застывало.
Марія протянула тарелку Лямину.
— Возьмите, товарищъ Ляминъ. Угощайтесь.
Онъ взялъ. Тарелка обжигала руки. Стоялъ и кусалъ губы, потомъ засмѣялся.
— Спасибо. Съ днемъ рожденья, Марья…
— Вы ѣшьте! А я сейчасъ на всѣхъ разрѣжу.
— Нѣтъ, я только послѣ васъ.
— Нѣтъ! Я приказываю вамъ!
Она топнула ногой, и всѣ вокругъ засмѣялись.
Онъ поднесъ пирогъ ко рту, откусилъ, и тутъ дверь распахнулась, грубо хлопнула створкой, и вошли караульные, съ ними Пашка, Юровскій и Никулинъ.
Мишка жевалъ пирогъ. Кусокъ у него чуть поперекъ горла не всталъ.
— Это еще что такое?!
Никулинъ, бѣсясь, дергаясь лицомъ, брезгливо указалъ пальцемъ на пирогъ на столѣ.
— Пирогъ, товарищъ командиръ!
Ляминъ дожевывалъ, глоталъ, выпрямлялся, руки по швамъ.
— Кто принесъ?!
— Я, товарищъ командиръ.
— Вы? Кому?!
— Я… въ подарокъ…
— Въ по-да-рокъ?!
«Донесла, сука».
Пашка стояла за спинами солдатъ и гадко усмѣхалась.
— Отставить въ подарокъ! Пирогъ — изъять! Въ пирогѣ можно спрятать все что угодно! Запечь въ него — сами знаете что! Нѣтъ! Даже не знаете! Дураки вы всѣ! Боецъ Ляминъ! Трое сутокъ ночного дежурства возлѣ воротъ! И дневного — возлѣ нужника! Нѣтъ, пятеро! Не спи пять ночей! Узнаешь тогда пироги!
Юровскій стоялъ, молчалъ. Сложилъ руки на животѣ и перебиралъ большими пальцами. Никулинъ бросилъ кричать, развернулся и вышелъ. Караульные — за нимъ. Пашка вразвалку подошла къ столу, наклонилась, подобрала съ пола промасленную кондитерскую бумагу, хищно завернула въ бумагу пирогъ.
— Будетъ чѣмъ водочку закусить.
Подмигнула — и пошла къ двери.
Всѣ стояли молча, не шевелились; и Ляминъ не шевелился.
Будто тотъ толстый кондитеръ его самого выпекъ изъ тѣста — и поставилъ въ этой залѣ, и сейчасъ его, еще теплаго, случайно уронятъ на полъ, ахая, поднимутъ, взгромоздятъ на столъ, положатъ на тарелку, разрѣжутъ и съѣдятъ.
Всѣ красные вышли вонъ. А они, бѣлые, всѣ въ бѣлыхъ платьяхъ, — остались.
Даже на царѣ былъ нынче бѣлый китель.
Марія изъ призрака праздника, изъ слѣпоты, изъ бѣлизны подняла на мать огромные глаза.
— Машка… — Царица сглотнула и дернула губой. — Что смотришь своими… синими блюдцами…
— Мама, — твердо, съ напоромъ сказала Марія, — я выйду замужъ за солдата. Я выйду замужъ только за солдата. И я рожу ему двадцать дѣтей.
##
— Мишка, эй. Слухай.
— Ну что?
Крѣпкій вѣтеръ гналъ по небу мощныя, пухлыя облака, сметалъ птицъ со стрѣхъ, вертѣлъ вѣтки китайской яблони. Ляминъ и Люкинъ стояли подъ яблоней, Михаилъ обрывалъ листья и мялъ ихъ въ пальцахъ.
— Юровскій сболтнулъ…
— Что? Не томи.
Видно было, какъ Сашка боялся это выдавить.
— Уралсовѣтъ рѣшеніе принялъ.
— Ну и что?
— О томъ, штобы энтихъ…
Люкинъ не успѣлъ рѣзануть себя пальцемъ по горлу.
Къ яблонѣ подходилъ Юровскій. Кажется, онъ не видѣлъ ихъ.
Или сдѣлалъ видъ, что — не видитъ.
Подошелъ ближе. Завозился. Повернулся къ нимъ задомъ. О землю, о палые листья зашуршала струя. Бойцы едва дышали, а Люкинъ прижалъ руку къ губамъ, чтобы не расхохотаться, стоялъ какъ изъ чугуна вылитый. Юровскій застегнулъ портки и пошелъ прочь. Когда уже всходилъ на крыльцо — Люкинъ заклокоталъ хриплымъ, похожимъ на бульканье кипящаго супа смѣхомъ.
— Охъ, охъ! Облегчилъ душу грѣшную!
Михаилъ посмотрѣлъ на пальцы, обзелененные мятой листвой.
— Всѣ мы грѣшники, Сашка.
— Не безъ того.
— Такъ что тамъ съ Уралсовѣтомъ?
Похоже, Люкинъ раздумалъ говорить.
— Да такъ, вретъ онъ все. Небылицы въ лицахъ плететъ! Мы съ тобой на томъ Совѣтѣ не были, да и не будемъ. Чхать на ихъ. Мы несемъ свою службу, и будетъ съ ихъ!
— Это ты правъ.
Ляминъ вздохнулъ.
Оба пошли черезъ садъ къ Дому. Сашка шелъ, какъ пьяный, нога за ногу. Когда подбрели къ подъѣзду, Сашка вдругъ разразился гнѣвной рѣчью. Какъ съ трибуны оралъ.
— А палачъ онъ! Да и палачи всѣ они! Судъ-то на ихъ нуженъ! Да ищо какой, всенародный! И я вѣрю, будетъ тотъ судъ! Полъ-Расеи людей изничтожилъ, сгубилъ! А самъ — живетъ! Козявка коронованная! Ну погоди, отольюцца кошкѣ… Да все въ мірѣ погано! И справедливость сама не явицца! А справедливость — мы сами дѣламъ, люди!
Ляминъ чуть не захохоталъ.
— Охолонь, Сашка. Для кого орешь? Чтобъ кто — услышалъ?
— Да всѣ штобъ и слыхали! У всѣхъ у ихъ уши — есть!
Сѣли на крыльцо. Курить не хотѣлось. Облака бѣжали шибко, то-и-дѣло заслоняя бѣлое веселое солнце.
Въ воротахъ показались пятеро: троихъ бойцы хорошо знали. Голощекинъ, Бѣлобородовъ, Сафаровъ. Очкастый Сафаровъ подслѣповато щурился на блестѣвшія на солнцѣ оконныя стекла. Все время поправлялъ очки, тыкалъ въ переносицу большимъ пальцемъ. Голощекинъ одѣтъ какъ обычно: кожанка, сапоги. Бѣлобородовъ въ крестьянской косовороткѣ навыпускъ, штаны шарами надуваются надъ колѣнями, будто паруса. Двое — неизвѣстные. Лица непроницаемыя.
«Чекисты, точно. Ихъ за версту видать».
Ляминъ и Люкинъ быстро встали. Отдали честь.
— Вольно, бойцы, — весело сказалъ Голощекинъ, — а комендантъ гдѣ?
Навстрѣчу уже бодро, пружинящимъ военнымъ шагомъ, шелъ Юровскій.
##
Они межъ собой говорили часто, много, обо всемъ — что было дѣлать вечерами тѣмъ, кто не стоялъ на стражѣ вокругъ дома, кто не маячилъ возлѣ комнатъ, гдѣ цари почивали?
Толковали обо всемъ; сыпали, что на умъ придетъ, и дѣлились тайнымъ, драгоцѣннымъ; взрывались нежданнымъ и страшнымъ признаньемъ — и, слово за слово, вытягивали другъ изъ друга то, что и на исповѣди-то люди боятся высказать.
Они говорили о томъ, что жгло и мучило. И о радости говорили тоже.
А кто-то молчалъ, не сронивъ ни слова.
…крестьяне хотѣли — къ землѣ; рабочіе — на заводъ. Да вотъ бѣда, не знали они, чья теперь земля и чьи заводы.
Здѣсь, въ охранѣ, они были всѣ странно равны передъ униженными и оплеванными царями; и ихъ давній трудъ, трудъ ихъ семей и родовъ, отсюда, изъ мглы застывшаго въ ночи Ипатьевскаго дома, видѣлся имъ единственной правильной жизнью, ихъ потеряннымъ райскимъ садомъ; они забывали липкіе отъ грязи полы горячихъ цеховъ, гдѣ гнули спину съ разсвѣта дотемна, забывали тяжесть сохи и торчащія ребра голодныхъ лошадей, и воду изъ горячаго отъ солнца кувшина, воду вмѣсто молока на пашнѣ; забывали, какъ въ проходной завода мяли, зло перебирали въ карманѣ рубли и копейки, выданные за сгорающую на кострахъ сажи и желѣза жизнь.
Они повторяли лишь одно: земля, землю, къ землѣ.
А еще: заводъ, родные цеха, родныя проходныя, скорѣй бы.
Они хотѣли это все, прежде — чужое, хозяйское, — отнять у господъ, присвоить и межъ собою раздѣлить. Завѣтная мечта, и красный флагъ вымоченъ въ крови — за эту мечту!
А можетъ, и мечты-то давно уже нѣтъ. А они все повторяютъ, повторяютъ ея слова. Все ее вспоминаютъ.
И о ней — говорятъ.
Нѣтъ, не можетъ такъ быть, чтобы такія огромныя горы бѣднаго народу стронулись, загудѣли и пошли, двинулись на богатыхъ, — поплыли, навалились, чтобы навѣкъ уничтожить тѣхъ, кто жировалъ и пировалъ на ихъ бѣдняцкихъ жизняхъ, подстеливъ ихъ, еще живыхъ, измотанныхъ, себѣ на широкіе обѣденные столы, какъ скатерть. Кто заносилъ надъ ними ножи и вилки, аккуратно разрѣзая ихъ на золоченомъ блюдѣ, — и ужъ, конечно, великолѣпно зная, что, хоть они и бѣдные, зато настоящіе на вкусъ: настоящая горечь, настоящая сладость.
Народъ тронулся — повалилъ, посыпалъ снѣгомъ, задулъ вѣтромъ, сметалъ съ земли все то, что самъ же и построилъ, и не жаль ему было ничего: ни церквей вѣковыхъ, ни кораблей и пароходовъ, ни садовъ и парковъ, ни громадныхъ домовъ, въ которыхъ жили мелкіе, слабые люди. Народъ понималъ такъ: если это не наше — пусть никому и не достанется! Ни имъ, ни намъ!
Выжигали свою землю. Разбивали молотками головы своихъ людей. Въ подвалахъ, гдѣ ярились красные комиссары, полы были завалены, залиты человѣчьими мозгами. Выколотые глаза сгребались лопатой въ уголъ, какъ тухлыя яйца. Били себя, себя убивали, — а думали, бьютъ и убиваютъ другого.
Нѣтъ, многіе такъ и знали, что — себя; и тѣмъ слаще было самоубійство, тѣмъ отраднѣй было думать: пусть мы погибнемъ — а на нашей крови взойдутъ новые, чудовищно прекрасные цвѣты!
Другъ друга пытали: ну, какъ ты пришелъ сюда, въ охрану царя? Въ Красную Армію? Кто тебя надоумилъ? Кто тебя подтолкнулъ? Или приказъ получилъ? Или — случаемъ, невзначай, непогодой, вѣтромъ залетнымъ?
И кто что отвѣчалъ. Сквозь курево; сквозь видѣнія безбрежныхъ толпъ, что кричали и бурлили за спиной. Спина, живая, твоя — единственное, что заслоняло отъ черной надвигающейся народной тьмы. Тьма народу, это значитъ, много. Слишкомъ его много. Слишкомъ много людей на Руси; и поубавить бы малость. Ничего, вотъ революція и война, братъ на брата, все это и спишетъ изъ реестровъ, все освободитъ, разсѣетъ, разсупонитъ.
Бѣлочехи идутъ; генералъ Дитерихсъ войска собираетъ; Врангель, Дроздовскій, Лукомскій, Кутеповъ, Семеновъ, и несть имъ числа — ведутъ, ведутъ народъ за собой. Да какой это народъ? Шваль бродяжья! Э, нѣтъ, братъ, шалишь. Это они думаютъ: мы — шваль бродяжья. Мы съ тобой, братъ. Зубы не скаль.
Вотъ мы, красные, въ Екатеринбургѣ засѣли; а о чемъ это говоритъ? Ни о чемъ. Бѣлые двинутся, войдутъ, займутъ. Всѣхъ перестрѣляютъ, перевѣшаютъ. Мы имъ глаза выкалывали — а они намъ повыколютъ.
Да это мы, мы жъ сами себѣ — и повыколемъ!
А ты что, всерьезъ считаешь, что они — это мы?
Да такіе жъ русскіе люди!
Врешь, ой вре-о-о-ошь. Не русскіе. Нерусскіе.
Да какъ же нерусскіе, когда — православные, и крестятся справа налѣво!
Нѣтъ. Они только родились здѣсь. А защищаютъ они — тѣхъ, кто насъ, насъ съ тобой на широкихъ, накрытыхъ камчатными скатертями столахъ — жралъ. И косточки хрустѣли.
Хочешь, чтобы тебя опять сожрали?! Хочешь, да?!
Да вѣдь такъ и такъ сожрутъ. Все едино — сожрутъ. Съ костями. Съ потрохами.
Сейчасъ смерть гуляетъ. Это намъ кажется, что на улицѣ день. А на самомъ дѣлѣ — ночь. Ночью — ночь, и днемъ — ночь.
А ты вотъ на фронтъ пойдешь? Потомъ? Опосля?
Когда это — опосля?
Ну, послѣ того, какъ…
Не договаривали. Было и такъ ясно. Опять закуривали. Головами вертѣли, бѣлки глазъ блестѣли въ угрюмомъ табачномъ дыму.
А то. Пойду. Конечно, пойду. Биться за лучшую жизнь. За счастливую.
И я — пойду. Надоѣло быть подстилкой. И я не хочу, чтобы меня опять жрали, грызли. Лучше я пойду и самъ ихъ загрызу. Врангелевцевъ. Дроздовцевъ. Семеновцевъ. Да всѣхъ ихъ. Они, небось, въ моемъ селѣ всѣхъ къ стѣнкѣ поставили. И бабу, и мать, и ребятокъ. А я тутъ!.. царей этихъ… обихаживаю…
Скоро имъ конецъ-то? Ай нѣтъ?
Никто не знаетъ. Всему на свѣтѣ будетъ конецъ. И войнѣ этой.
А Россіи? Россіи, слышь, будетъ конецъ?
Россіи? Эка загнулъ.
А — народу? Народу, народу русскому, слышь ты, будетъ конецъ?!
Народу — нѣтъ, не будетъ.
Иди ты!
Самъ иди.
##
Они жили, все такъ же молясь по утрамъ и благословляя жизнь, и умоляя Господа: да будетъ воля Твоя, — видя, что Онъ волю Свою творитъ руками чужихъ, темныхъ и страшныхъ людей. Нѣтъ, это были, конечно, обычные люди, и они боролись за что-то свое, имъ безмѣрно дорогое. Но вотъ за что? Они не понимали. И — смирились съ этимъ.
Алексѣя впервые послѣ Тобольска искупали въ ваннѣ. Когда отецъ опускалъ его въ ванну на ослабшихъ, въ безсильно вздувшихся мышцахъ, худыхъ рукахъ — сына, тоже исхудалаго, блѣднаго, тонкаго, какъ былинка, — слезы сами потекли, и отецъ, посадивъ сына въ теплую воду, быстро вытеръ лицо руками и прошепталъ: жарко здѣсь, я вспотѣлъ, хорошо натопили. На что Алексѣй такъ же быстро и тихо сказалъ: папа, не плачь, это все напрасно.
И отецъ поцѣловалъ сына въ горячее темя, въ русый завитокъ.
Онъ смотрѣлъ на колѣно мальчика: все такое же распухшее, но надо его обмануть, порадоваться, сказать, что онъ поправляется. Святая ложь! Они всѣ поняли, что она существуетъ. Съ неизлѣчимо больными всегда она рядомъ. Безъ нея просто не проживешь. Вотъ и сейчасъ нельзя ее упустить. И быстро, торопясь, а то ложь взмахнетъ крыльями и улетитъ, и больше никто и никогда ему не повѣритъ, говорилъ отецъ, намыливая мочалку, сыпалъ какъ изъ пулемета: охъ, Алешинька, какъ прекрасно, колѣночка-то гораздо лучше, гляди-ка, опухоль спадаетъ, ну все, пошелъ на поправку, скоро будешь бѣгать, прыгать, мой родной, золотой!
Это тонкое, длинное, нѣжное тѣло. Тѣло отрока, подростка. Его холили, гладили, окатывали то холодной, то горячей водой, чтобы закалилось; къ нему прикладывали компрессы и въ него вкалывали иглы уколовъ, его обливали слезами и покрывали поцѣлуями, и они обжигали хлеще кипятка. Милое, ласковое, сыновье тѣло! Отецъ склонялся все ниже, ниже и теръ мочаломъ худенькую спину, тощія лопатки, и все смотрѣлъ, не пробиваются-ли сквозь кожу крылья. Ангелъ мой! Хорошо-ли тебѣ? О да, папа, мнѣ такъ хорошо! Я какъ въ раю!
Кожа краснѣла подъ липовой мочалкой, пахло запареннымъ лыкомъ и немного медомъ, и, можетъ, весеннимъ медомъ пахло отъ этого бѣднаго, слабаго тѣла подростка, подранка. Отецъ, охотникъ, зналъ, когда, подстрѣленная, умираетъ дичь. Жизнь — хорошій стрѣлокъ, а еще лучше жизни стрѣляетъ смерть. Онъ поливалъ сына водой изъ ковша, и вода стекала стальнымъ покрываломъ съ его затылка по его лицу и плечамъ, и сквозь прозрачный миражъ воды онъ видѣлъ улыбку ангела. И страшно становилось ему.
А когда онъ намылъ его всего и напослѣдокъ окатилъ его чистой водой, и вынулъ изъ ванны, подхвативъ на руки, на чистое полотенце, онъ не удержался и заплакалъ, уткнувшись сыну во влажную ключицу, туда, гдѣ вдохъ и выдохъ то-и-дѣло мѣнялись мѣстами. И мальчикъ все понялъ, не сталъ утѣшать отца, а только крѣпко обхватилъ его за шею и всѣмъ чистымъ, теплымъ и влажнымъ тѣломъ прижался къ нему.
И такъ отецъ, съ сыномъ на рукахъ, вышелъ изъ купальной комнаты на первомъ этажѣ, и прошелъ мимо кладовой, гдѣ, межъ сваленныхъ въ кучу иконъ, сидѣла эта кухонная баба, Пашка, и рыдала, царапая себѣ грудь подъ изстиранной вконецъ, до нитяной паутинной сѣтки, старой льняной гимнастеркой.
А сынъ отвернулъ вбокъ голову, и тихо, сдавленно сказалъ: папа, мнѣ и правда лучше, нога почти не болитъ, пусти меня, я самъ пойду.
…Онъ больше ничего не записывалъ въ дневникъ. Докторъ Боткинъ еще писалъ, все что-то писалъ; онъ однажды спросилъ доктора, что-же такое онъ все пишетъ и пишетъ, — а докторъ слабо махнулъ рукой и сказалъ, не ему, въ воздухъ и вѣтеръ: да хотѣлъ письмо другу послать, учились вмѣстѣ, хорошій мой другъ, вотъ началъ, да не могу закончить, и чую, что не отправлю, а что получается вмѣсто письма, не знаю; теперь уже все равно. Онъ гладилъ доктора по рукаву и тоже махалъ рукой, безъ слов: да идите, идите! Пишите! Можетъ, такъ легче! Подходилъ къ столу. На столѣ, раскрытый, лежалъ его дневникъ. Жена тоже вела дневникъ. Она писала въ дневникъ всегда, сколько онъ ее помнилъ; и праздничной принцессой въ Кобургскомъ замкѣ, и обезумѣвшей отъ горя матерью надъ кроватью умирающаго сына. Жена, какъ и Боткинъ, еще что-то могла писать. Онъ глядѣлъ на пустыя страницы. Онъ самъ ихъ пронумеровалъ, проставилъ всѣ цифры до конца тетради, и нигдѣ разсѣянно не ошибся.
Пустая страница номеръ… А кому это будетъ такъ важно? Дневникъ сожгутъ въ печи, какъ только его не станетъ. И ихъ портреты сожгутъ; и ихъ одежды, платья и бѣлье, плащи и шляпы. Зачѣмъ тогда черкать стальнымъ узкимъ перомъ по снѣгу страницъ, кровавя ихъ стылыми чернилами?
Бралъ ручку, замиралъ надъ тетрадью. Тетрадь разстилалась бѣлымъ полемъ.
Широко наше бѣлое поле, широкъ Сѣверъ, тамъ и сейчасъ, въ іюлѣ, лежатъ снѣга.
И цвѣтной, неизреченной, яростной красоты сіяніе играетъ въ зенитѣ надъ снѣгами, переливаетъ небесное вино изъ черной ночной бутыли въ земной нищій, снѣжный кувшинъ.
Бумага молчала. И онъ тихо клалъ перо и крестился.
На нѣтъ и суда нѣтъ, говаривалъ его отецъ, императоръ Александръ.
…Били артиллерійскія орудія. Шли черезъ городъ солдаты. Окно открывали нечасто, и они не могли видѣть, красные это солдаты или бѣлые. Когда окно растворяли, они видѣли чугунную рѣшетку и переглядывались. Каждый утѣшалъ другого обманными глазами: рѣшетка это нарочно, это чтобы намъ жить въ безопасности, это защита, и вообще, можетъ, это все не съ нами, и рѣшетка намъ только снится.
Шли и конные, былъ слышенъ цокотъ копытъ и грубые окрики, и снова непонятно было, чья это кавалерія. Однажды послышалась громкая духовая музыка; маршировалъ духовой оркестръ, а за нимъ топали бойцы, и царица вздрогнула — она услыхала нѣмецкую рѣчь. Это, наши, наши, наши! — кричала она, схвативъ мужа за обшлага, это наши вошли въ городъ!
Потомъ имъ Ляминъ сказалъ: ну что волнуетесь, успокойтесь, это всего-на-всего плѣнные австріяки, мы захватили ихъ полки въ плѣнъ еще годъ назадъ, и мы хотимъ выпустить ихъ сражаться съ чехами, что идутъ изъ Сибири и приближаются къ намъ.
И они всѣ такъ оживились, обступили Лямина и хватали его за рукава, за локти, и трясли, и обнимали порывисто, и забрасывали вопросами: какъ! правда чехи идутъ? они приближаются? они уже скоро здѣсь будутъ? скажите, когда? завтра? черезъ недѣлю? ну хотя бы дней черезъ десять — будутъ? это правда, они уже недалеко? гдѣ идутъ сраженья? какъ они продвигаются? ну скажите, скажите!
Они словно забыли, что онъ врагъ, красный; такъ велико было ихъ нетерпѣніе узнать и жажда скорѣй встрѣтить спасителей. Вернуть ихъ мертвый міръ! Вотъ что для нихъ превыше всего. А все остальное хоть сгори въ огнѣ. Ляминъ двигалъ подъ кожей желваками. Они трясли его и ворковали надъ нимъ, и причитали, и смѣялись, и чуть не плакали. А онъ молчалъ. Наконецъ они поняли свое неприличіе, отступили, и сами смолкли, какъ птицы, когда на солнце наползаетъ тѣнь. Алексѣй самъ поднялся съ кровати, съ трудомъ распрямился и стоялъ — какъ журавль, на одной ногѣ. Держался руками за гнутую спинку вѣнскаго стула.
И къ ночи солнце смѣнялось дождемъ, и дождь настойчиво стучалъ по кривымъ стрѣхамъ, и далеко стрѣляли, а потомъ стрѣляли близко, совсѣмъ рядомъ, подъ окномъ.
##
У царицы болѣли голова, спина и ноги. Докторъ Боткинъ ничего не могъ сдѣлать. Безпомощно улыбаясь, онъ разводилъ руками: это возрастъ, ваше величество, думаю такъ, это уже возрастныя измѣненія въ позвоночномъ столбѣ. Есть много новѣйшихъ способовъ лѣченія, къ примѣру, спинномозговая пункція, изобрѣтеніе доктора Квинке, но ее дѣлаютъ только въ условіяхъ хорошей клиники и только очень опытные невропатологи; я, если бы и въ операціонную зазвали, не рѣшился бы. И потомъ, процедура небезопасная, иные больные послѣ нея и… Не договаривалъ. Щеки царицы бѣлѣли, она вздергивала носъ и высокомѣрно доканчивала: умираютъ!
И докторъ согласно наклонялъ голову.
Въ воскресенье имъ разрѣшено было служить обѣдню, и пригласили батюшку, только не стараго, а молоденькаго. Батюшка привелъ съ собой дьякона, ну, опять праздникъ! Они всѣ батюшку знали: отецъ Іоаннъ Сторожевъ пришелъ, какая радость! Всѣ, поочередно, подходили ему къ ручкѣ — благословляться. Онъ всѣхъ старательно, нѣжно благословилъ. Юровскій дернулъ священника за рукавъ: идите переоблачаться въ комендантскую!
…Батюшка брезгливо оглядывалъ военную комнатенку. Всюду грязь, мусоръ, мятыя бумаги на полу. Никто не выметаетъ. Рояль запыленный. Крышка отогнута. Клавиши раскрыты. На крышкѣ вповалку — ружья, револьверы, бомбы, гранаты. Священникъ не задрожалъ при видѣ оружія, а вздрогнулъ отъ зычнаго храпа. Оглянулся: это храпѣлъ Никулинъ, крѣпко спалъ послѣ ночного дежурства, пускалъ на подушку слюну. Дьяконъ мялся, потиралъ руки, щипалъ козлиную тощую бороду. Юровскій съ шумомъ пододвинулъ стулъ къ неприбранному столу, усѣлся плотно, отрѣзалъ кусъ ржаного, намазалъ масломъ и широко, мощно кусалъ. Жевалъ. Запивалъ холоднымъ чаемъ изъ граненаго стакана.
— Что ждете? — спросилъ, не оборачиваясь. — Насъ разсматриваете? Время, время!
Священникъ сталъ рѣзко, быстро скидывать съ себя одежду. Раздѣвался и глядѣлъ въ затылокъ Юровскому. Дьяконъ обнажался, смущаясь, какъ дѣвица. Накидывали другъ на друга подрясники, рясы. Батюшка то-и-дѣло кашлялъ, подносилъ руки ко рту, грѣлъ ихъ дыханьемъ. Дьяконъ поправлялъ на спинѣ у батюшки воротъ рясы, одергивалъ раструбы рукавовъ. На очередной кашель Юровскій обернулся. Къ губѣ у него прилипла крупная ржаная крошка.
— Кто изъ васъ кашляетъ?
— Я.
— Не нравится мнѣ вашъ кашель.
— Я все время мерзну, — извиняющимся голосомъ сказалъ батюшка и опять погрѣлъ выдохомъ пальцы, и поежился.
— Лѣто на дворѣ, а вы будто съ мороза.
Юровскій всталъ изъ-за стола и подошелъ къ священнику.
— Э, милый человѣкъ, у васъ типичное лицо чахоточнаго. Блѣдное, бѣлое, и румянецъ лихорадочный.
— Товарищъ… да… у меня плевритъ.
— А! — торжествующе вскрикнулъ Юровскій, — ну я же говорилъ! Я же все-таки хорошій діагностъ. У меня, кстати, тоже былъ процессъ въ правомъ легкомъ! И — ничего! Какъ новенькій, видите!
Отецъ Іоаннъ стоялъ передъ Юровскимъ уже въ полномъ церковномъ облаченіи. Хоть и молодой, а какъ рясу надѣлъ — такъ увеличился, погрознѣлъ. Нависъ надъ кожанымъ большевикомъ угрюмой грозовой тучей, и вотъ-вотъ зажметъ въ рукѣ пукъ молній — и этими молніями прямо въ кожаную грудь — съ размаху ударитъ.
— У васъ былъ хорошій врачъ?
Священникъ пригладилъ и безъ того масленые волосы.
— Я самъ себѣ врачъ!
Юровскій разсмѣялся. Дьяконъ, дрожа, отвернулся отъ этого смѣха, будто на его глазахъ жгли икону или насиловали дѣвушку.
— Вотъ какъ? Вы докторъ?
— Въ прошломъ. Вы знаете, что я вамъ посовѣтую? Въ первую очередь, при любомъ легочномъ процессѣ, будь то плевритъ, бронхитъ, бронхоаденитъ или туберкулезная каверна, нужно приготовить себѣ вотъ такую адскую смѣсь. Слушайте и запоминайте. Въ равныхъ пропорціяхъ взять медъ, сокъ алоэ и коньякъ…
— Коньякъ? Да гдѣ жъ теперь его взять? — Священникъ взмахнулъ руками, черные рукава упали до локтей.
— Тамъ же, гдѣ и вашъ кагоръ для причастій!
— Да мы, — батюшка задохнулся, — причащаемъ нынче… вареньемъ, разбавленнымъ еще довоенной водкой, акцизной…
— Ну, значитъ, тамъ, гдѣ водку берете! Итакъ, коньякъ, медъ и алоэ, и все тщательно перемѣшать…
Юровскій говорилъ и любовался собой, и священникъ это понималъ. Опускалъ глаза, чтобы скрыть отвращеніе и презрѣніе, это были плохія, совсѣмъ не христианскія чувства. Кивалъ: да-да, я запомнилъ, и по столовой ложкѣ три раза въ день, передъ ѣдой, да. Голова у него раскачивалась кадиломъ. Дьяконъ зажалъ носъ: спящій Никулинъ на койкѣ громко, вонюче рыгнулъ.
Юровскій стоялъ передъ батюшкой, раскачиваясь на каблукахъ сапогъ, и неуловимое, побѣдное торжество просвѣчивало, какъ раскаленная пружина, черезъ его невозмутимое лицо и черную чортову кожу тужурки.
— Вы запомните, что я вамъ сказалъ! Я лучшій въ мірѣ докторъ!
— Не сомнѣваюсь.
Отецъ Іоаннъ хотѣлъ поклониться — и чуть не плюнулъ въ лицо этому заносчивому еврею. А если начать говорить о Богѣ? Ему — объ алоэ, а онъ — о Христѣ.
И никто, ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ, не знаетъ, что сегодня эта служба у царей — послѣдняя; а ты, ты-то почемъ знаешь? Тебѣ-то кто сказалъ? Господь? Не возомни о себѣ слишкомъ много. Это страшная гордыня. Просто иди и служи, и молись. Вмѣстѣ со всѣми.
…Нынче обѣдню служили не въ спальнѣ царицы — въ столовой. Будто бы Пасха, да только куличей нѣтъ. Батюшка сразу прошелъ къ иконамъ — дѣвица Демидова и Боткинъ развѣсили ихъ сегодня рано утромъ на стѣнѣ столовой, заколотивъ въ стѣну тонкіе маленькіе гвозди и привѣсивъ иконы за атласныя ленты. Дьяконъ всталъ рядомъ. Они, двое, были гребцы, и гребли и выгребали въ старой лодкѣ стараго міра къ свѣту, а лодка дала течь, и дьяконъ старательно вычерпывалъ воду, а батюшка, задыхаясь отъ плеврита, все гребъ и гребъ, напрягая мускулы.
Христосъ тоже былъ сильный и мускулистый. Онъ былъ сыномъ плотника и самъ плотничалъ. И ведра съ водой носилъ, и бревна таскалъ. Онъ былъ сильный, какъ мужикъ или солдатъ, а Его на иконахъ часто малюютъ — нѣжнаго такого, благостнаго, тощенькаго, со слабой всепрощающей улыбкой. А кто же тогда, подъявъ жестокую плеть, изгналъ подлыхъ торжниковъ изъ храма?
Алексѣй, сидя въ креслѣ-каталкѣ, пытался улыбнуться и не могъ. Мать смотрѣла на его блѣдное лицо, и ея глаза округлялись отъ страданія. Служба шла, отецъ Іоаннъ пѣлъ, дьяконъ подпѣвалъ, и пѣли они всѣ, умиленно складывая руки на груди. Какіе выстрѣлы! Какая кровь! Войны умирали сами собой. А оставалась лишь вотъ эта любовь, эта, съ блескомъ золотыхъ и сѣдыхъ волосъ, съ блескомъ глазъ, и радостнымъ и слезнымъ, съ блескомъ зубовъ межъ губъ въ слабыхъ и счастливыхъ улыбкахъ, оставалась вотъ эта жизнь, которой они еще не знали, а она уже шла на нихъ, надвигалась, и надо было привѣтствовать ее нѣжными пѣснопѣньями, знакомыми съ дѣтства, счастливыми стихирами, ирмосами и кондаками.
Царица устала стоять и тихо попятилась, и сѣла на стулъ рядомъ съ сыномъ. Положила руку на огромное колесо каталки. На ея руку тихо положилъ руку Алексѣй. Такъ сидѣли.
Дѣвица Демидова зажгла на столѣ и передъ иконами толстыя хозяйственныя свѣчи, и онѣ чадили, испускали черный печальный, пахучій дымъ. Фитили съеживались. Пламя то краснѣло, то бѣлѣло. Докторъ Боткинъ, стоя передъ иконой Распятія, крестился медленно и жестко, будто впечатывалъ въ лобъ и плечи сургучъ. Онъ бросилъ креститься и молиться и оглянулся на царя.
Николай стоялъ близко отъ него. Рядомъ. Царица сзади смотрѣла на мужа: зеленыя брюки повытерлись на швахъ и подъ колѣнками, онъ глубоко заправилъ ихъ въ сапоги, но онѣ все равно вздувались надъ голенищами. Сапоги всегда чистые, черно блестящіе. Онъ самъ ихъ ваксилъ по утрамъ, послѣ умыванья. Боткинъ смотрѣлъ на царя сбоку: четкій профиль, спокойный взглядъ. Царь глядѣлъ на икону. Нѣтъ, онъ глядѣлъ внутрь себя.
А вокругъ него стояли его дѣвочки и смотрѣли на него, и онъ для нихъ былъ иконой — отецъ, царь, любимый. А мать ихъ учила: ничего земного нѣтъ вѣчнаго, не привязывайтесь къ земному, на небесахъ — Царь нашъ и Отецъ нашъ небесный! Все тамъ! И указывала рукой. Такъ что же сейчасъ она сидитъ рядомъ съ каталкой сына, и держитъ руку мальчика въ своей, а другой крестится и быстро, неловко смахиваетъ соль любви съ морщинистыхъ щекъ?
Слуги крестились. Крестился парнишка, поваренокъ Ленька Сѣдневъ. Накладывали крестное знаменіе священникъ и дьяконъ. Царь повелъ плечомъ, будто рука затекла. Дрогнулъ спиной. Цесаревичъ пріоткрылъ ротъ. Старуха на стулѣ, какъ на тронѣ, глядѣла гордо, повелительно. Отецъ Іоаннъ махнулъ кадиломъ. Изъ дырокъ кадила вылетѣлъ ладанный дымъ и небеснымъ прибоемъ брызнулъ въ лица, въ сердца.
Дьяконъ глубоко, какъ въ оперѣ, вздохнулъ и запѣлъ:
— Со святыми упокой!
Отецъ Іоаннъ вздергивалъ и трясъ кадиломъ, оно тихо позванивало, сладко дымило, и глядѣлъ на иконы.
Первыми на колѣни опустились дочери. Потомъ встала мать и тоже колѣни подогнула. Отецъ обернулся къ сыну. Подхватилъ его подъ мышки.
— Осторожнѣй, сыночекъ… вотъ такъ, такъ, давай…
Алексѣй, морщась, согнулъ больную ногу. На колѣни — всталъ.
Отецъ всталъ на колѣни рядомъ съ нимъ.
Они всѣ стояли на колѣняхъ и пѣли заупокойную молитву, и дѣвушки, въ бѣлыхъ кофтахъ и темныхъ юбкахъ, подносили щепоть ко лбу, и тихо переливались русыми и сливовыми, парчовыми нитями ихъ отросшіе волосы въ красномъ, невѣрномъ свѣчномъ свѣтѣ; и царь въ старой рубахѣ и старыхъ штанахъ, и старая его жена, и слуги, и врачъ, и малый поваренокъ, — и цесаревичъ, блѣдный и гордый, и, чѣмъ сильнѣе толкалась боль въ его ногѣ, тѣмъ выше онъ поднималъ голову — вѣдь его такъ училъ отецъ: тебѣ больно, а ты терпи и не подавай виду! Онъ и не подавалъ. А молитва плыла и томилась, и она была сейчасъ на весь міръ одной, единственной. Страшной.
А что не страшно? Кто не страшенъ?
Страшенъ міръ. Страшны люди въ немъ.
— Идеже несть ни болѣзнь… ни печаль, ни воздыханіе!..
Морозъ шелъ по кожѣ у Лямина. Онъ неслышно всталъ позади слугъ. Видѣлъ, какъ вьются колечки кудрей на потной шеѣ у дѣвицы Демидовой. Слышалъ общее дыханіе, нестройное, тревожное. У кого хриплое, у кого чистое. Люди, люди. Перекачиваютъ воздухъ черезъ легкія, и больныя и здоровыя. А все равно всѣ — подъ кожей — скелеты. И станутъ скелетами. Все равно.
— Но жизнь… безконе-е-е-ечная-а-а-а…
Лямину захотѣлось броситься на шею Маріи. Крикнуть: дѣвчонка! Ты свѣтлая! Чистая! И я тебя люблю! Такъ люблю!
Тутъ же криво, кособоко усмѣхнулся надъ собой. Изматерилъ себя.
«Дурень, въ бога душу…»
Священникъ взялъ высокую ноту и закашлялся. И кашлялъ надрывно, надсадно. Плохо, влажно. Хрипѣлъ. Дьяконъ за него — вдвое громче пѣлъ.
Царь, на колѣняхъ, стоялъ по лѣвую руку отъ сына, царица — по правую.
У нихъ стали иныя лица. Отъ всѣхъ нихъ, отъ рукъ и глазъ, отъ задранныхъ къ иконамъ лицъ пошелъ странный, тихій свѣтъ.
Свѣте тихій, съ ужасомъ и восторгомъ подумалъ священникъ, осѣняя всѣхъ, стоящихъ на колѣняхъ, широкимъ крестомъ.
Марія перекрестилась. Волосы вились у нея за ушами. Ляминъ стоялъ въ дверяхъ и костерилъ себя на чемъ свѣтъ стоитъ.
«Ты что, остолопъ, стать на колѣни уже не можешь?! Уже все, безбожникомъ сталъ, какъ всѣ?!»
«Кто — всѣ? Они же вотъ — не стали!»
Марія обернулась. Сквознякъ медленно текъ сквозь ея тонкое платье, тонко, неслышно пошевеливая его.
Ляминъ опускался на колѣни медленно и мучительно, стыдно.
«Стыдно мнѣ. Стыдно. Забылъ, какъ это оно все бываетъ!»
И все-таки перекрестился — крюча пальцы, ломая душу.
##
…За чаемъ царь и докторъ Боткинъ — странно, запальчиво и страстно разговорились.
Александра, чтобы не мѣшать, быстро допила чай и ушла, шелестя юбками; дѣвочки тоже ускользнули, одна Нюта Демидова угрюмо и услужливо собирала со стола чашки и тарелки, относила на кухню. Да и Нюта исчезла.
Царь видѣлъ: докторъ Боткинъ немало нервничалъ. У него руки мелко тряслись, какъ у пьяницы.
— Вотъ скажите, ваше величество, вы ведете дневникъ?
Царь поднялъ плечи, потомъ опустилъ медленно и тяжело.
— Веду, Евгеній Сергѣичъ. Какъ всегда. Въ тетрадь пишу. А что?
— А то, что ваши писанія — отберутъ у васъ и сожгутъ, и — въ печку!
— Да кто отберетъ? — Подергалъ усъ. — А впрочемъ, кто-нибудь да отберетъ.
— Теперь ничего нельзя писать. Ничего, вы понимаете, ни-че-го! Не дай Богъ вы запишете то, что будетъ этимъ… противъ шерсти. Вы знаете, одного мальчонку, гимназиста, разстрѣляли лишь потому, что въ его тетрадкѣ — по логикѣ ли, по ариѳметикѣ, Богъ вѣсть — нашли стихи: «Лучше намъ царя съ свининой, нежли Ленина съ кониной!» И взяли мальчонку, и — къ стѣнкѣ…
— Кто вамъ это разсказалъ?
Глаза царя глядѣли скорбно, лучисто, невѣряще.
А руки сжимались въ кулаки: руки — вѣрили.
— Да кто угодно! Да это и неважно! Важно то, что это — правда! Видите, сколько смертей вокругъ! Красные — сѣятели смерти. И вы прекрасно видите, чѣмъ они эту всеобщую смерть оправдываютъ.
— Ну, чѣмъ? Чѣмъ?
Царь разсѣянно взялъ со стола пустой стаканъ и грѣлъ объ него, уже остывшій и пустой, растерянныя руки.
— Своими дурацкими лозунгами! Припомните-ка ихъ воззванія. Ихъ рѣчевки. Ножъ въ спину великой революціи! Отрубимъ головы контрреволюціонной гидрѣ! Сотремъ въ порошокъ приспѣшниковъ имперіализма! Задушимъ ненавистныхъ буржуа! И это, это ихъ коронное… знаменитое!.. миръ хижинамъ, война дворцамъ…
Царь прижалъ пустой стаканъ къ щекѣ, будто у него болѣлъ зубъ.
— Милый, я это все знаю и безъ васъ.
— Комиссары говорятъ солдатамъ: голодъ, голодъ, кричите вы, голодъ! Развѣ это голодъ? Вы хлѣбъ жрете, водку пьете. Голодъ — это когда несчастная мать сходитъ съ ума, убиваетъ своего ребенка, рѣжетъ его на куски, варитъ и ѣстъ! Вотъ это — голодъ!
Царь темнѣлъ лицомъ.
— Жизнь потеряла цѣнность! Жизнь — обезцѣнилась! Любая! И любого, самаго жалкаго и нищаго крестьянина, и солдата, и слесаря, и моя, и ваша! Да, ваша! Ваша! Ваше величество, они всѣ — истерики! Они науськиваютъ толпу. Они брызгаютъ злобной слюной! Они обратились не къ добру человѣческому, а — къ пороку, къ дьяволу въ человѣкѣ. Они поняли: дьяволъ въ человѣкѣ близко сидитъ, ближе, чѣмъ Богъ. И давай къ дьяволу взывать! И давай кричать: убивай, грабь, это правильно, это — хорошо! И всѣ, всѣ… повѣрили…
Стекла очковъ доктора Боткина запотѣли. Онъ сдернулъ ихъ съ носа и нервно, крѣпко протиралъ великанскимъ фуляромъ.
— Зачѣмъ вы мнѣ все это сейчасъ-то говорите?
Голосъ царя тоже нервно, невольно подскочилъ до крика.
— Простите, ваше величество. Простите! Но я больше не могу молчать. Не могу молчать! Они врутъ, что они хотѣли для страны — хорошо! Для нихъ, тамъ, наверху, народъ — вродѣ мотыги, лопаты! Имъ они сгребаютъ навозъ! Они убиваютъ офицеровъ. Они срубаютъ башки крестьянамъ. Они устраиваютъ облавы по городамъ… да, по городамъ… и тянутъ въ свои адскія конторы женъ и дѣтей тѣхъ, кто нынче въ Бѣлой Гвардіи… и — подъ ножъ! подъ топоръ! подъ пулю! И хорошо еще, если — подъ пулю. А то — пытаютъ. Я знаю!
— Откуда вы знаете?
— Знаю!
— Пытаютъ…
— Наслаждаются! Вы знаете, что самое, самое наслажденіе для черни — видѣть невыносимыя страданія ближняго!
— Чернь… У меня была не чернь. У меня былъ — народъ!
— Народъ?! Значитъ, вы не знали своего народа, ваше величество, не знали! А ѣда? Что вы ѣдите на завтракъ, обѣдъ, ваше величество?! Что — мы всѣ — ѣдимъ?!
— Какъ — что? Ѣду!
— И это — ѣда?! Этотъ ржаной, клеклый, кислый хлѣбъ, съ опилками, съ мусоромъ, да туда намѣшаны жмыхъ, солома, куриный пометъ, я не знаю что… А вѣдь по деревнямъ — хлѣбъ — есть! У насъ такіе урожаи были въ послѣдніе годы передъ этой… красной чумой! На Вяткѣ, на Волгѣ, на Камѣ…
— Внизъ по Волгѣ-рѣкѣ, съ Нижня-Новгорода… — тихо вышептали губы царя.
— Куда они дѣли хлѣбъ?! Мясо?! Всѣ подъ красными — перешли на фунтовый паекъ! А заводы? Кто сейчасъ работаетъ на заводахъ? Да никто! Всѣ рабочіе — поразбѣжались! Кто въ деревню… кто поденщикомъ… кто въ эту Красную Армію… кто куда…
— Милый докторъ, другъ мой, — губы царя подъ сѣдымъ сѣномъ усовъ едва подрагивали, — да откуда у васъ всѣ эти свѣдѣнія?
— Ваше величество… мнѣ — братъ пишетъ…
— И письма — не люстрируютъ? Странно.
— Можетъ, и вскрываютъ конвертъ! Но мнѣ — даютъ читать.
— Навѣрняка вскрываютъ. Боже, гдѣ законъ?
Царь щелкалъ ногтемъ по пустому стакану.
— Гдѣ законъ Божій, лучше сказать. Не человѣческій, но Боговъ! Да вотъ бѣда, Бога-то теперь — нѣту!
— Какъ такъ — нѣтъ?
— Нѣтъ, и все! И все!
На вискахъ доктора показались мелкія прозрачныя капли. Онъ промокалъ ихъ шелковымъ фуляромъ.
— Но для насъ Онъ есть навсегда.
— Для насъ — да. Но мы, ваше величество, мы — уже не Россія.
— А что такое — мы?
И тутъ Боткинъ, тяжело, какъ на бѣгу, дышавшій, сталъ опускать голову. Опускалъ, опускалъ ее — и опустилъ: царь видѣлъ лишь его блѣдный мокрый лобъ и лысѣющее темя. И выжалъ изъ себя, выкряхтѣлъ:
— Мы… уже ни здѣсь, ни тамъ… мы — нигдѣ…
— Но вѣдь въ нигдѣ человѣкъ не можетъ быть, — сказалъ царь, прекратилъ стучать ногтемъ по стакану — и улыбнулся.
Хороша всегда была эта его улыбка. Ясная. Истинно праздничная. И вмѣстѣ печальная. Смиренная. Онъ улыбался и ясно смотрѣлъ на Боткина. Потомъ отвелъ глаза къ окну, и улыбка голубемъ слетѣла съ его лица и улетѣла.
— Можетъ, государь.
Голосъ Боткина былъ тяжелъ, какъ молотъ, а воздухъ вокругъ отзванивалъ призрачной наковальней.
##
Тучи. Онѣ опять налетѣли.
Они всѣ боялись непогоды такъ же, какъ предстоящаго сраженія бѣлыхъ и красныхъ. Сюда идутъ бѣлые, красные начинаютъ бояться, ура! Но и они боялись; они воображали себѣ битву, и пулеметный огонь, и крики, и кровь, и себя въ этой гущѣ смертей. Выживутъ ли? Освободятъ ли ихъ? Сквозь тучи пучками били солнечные лучи — въ лица, въ крыши. Имъ опять открыли окно, и они столпились и видѣли лишь рѣшетку. Пристально разсматривали ее. Пашка привела съ собою трехъ бабъ, и онѣ вчетверомъ мыли полы, почти не отжимая тряпки и размазывая воду по всему дому, и вода затекала подъ шкапы, подъ кресла, подъ кровати. Пашка накручивала тряпку на швабру и съ тихими проклятьями совала швабру подъ кровати царей. Александра Ѳедоровна чувствовала себя какъ въ госпиталѣ. Только не она ухаживала за ранеными, а за ней, раненной въ сердце, и рана на-вылетъ, ходили чужіе злые люди.
Алексѣй кричалъ:
— Папа, тучи! Я вижу ихъ за этой бѣлой краской! Вижу!
— Ничего, на Балтикѣ вонъ сколько тучъ лѣтомъ летаетъ. Полетаютъ и улетятъ.
Прислушивались, не грохочетъ ли канонада. Всѣ отдавали себѣ отчетъ: въ бойнѣ они могутъ погибнуть. Алексѣй гордился: это будетъ славная смерть!
— Папа, я тоже буду сражаться, если наши воины придутъ!
— Мы всѣ будемъ.
Онъ не спорилъ съ сыномъ. И не переубѣждалъ его.
Полы вымыли, и солнце залило Домъ. Царица сѣла въ кресло, Марія усѣлась у ея ногъ на маленькую скамеечку съ Писаніемъ въ рукахъ. Сегодня она читала Второе посланіе къ Коринѳянамъ святаго апостола Павла.
— Любовь долготерпитъ, милосердствуетъ, не ищетъ неправды, но сорадуется истинѣ. Мама, ну что ты!
Ловила и согрѣвала руками ледяныя руки матери. Взглядомъ искала въ ея глазахъ слезы.
— Ты замерзла! Ты заболѣла!
— Нѣтъ, доченька. Я здорова.
— Тебѣ нужно горячаго чаю!
Побѣжала на кухню. Тамъ у холодной плиты стояла Пашка. Злобно глядѣла на печную дверцу. Не успѣли отзавтракать, и скоро обѣдъ. Опять дрова, опять топить. Кухонная баба — послѣ всѣхъ сраженій, послѣ Галиціи и Польши! Такъ вотъ чѣмъ все заканчивается! Грязными тарелками!
Сзади вздохнули. Пашка обернулась. А, эта пышногрудая стервозная княжна! Мишкина мечта. Близокъ локотокъ, да не укусишь.
— Ну что?
Въ животѣ боль повернулась, и еще, и еще разъ, хитро затихла.
Подумала смутно: только бы не закровянило.
Сберечь хотѣла ребенка? Выкинуть? Еще сама не знала. А только страшно стало.
— Ничего. Что вы мнѣ грубите!
— А что съ тобой церемониться.
Другъ противъ друга, молодыя, крѣпкія, красивыя. И обѣ — будто крестьянки изъ одного села.
— Разогрѣйте кипятку!
— Сама грѣй. Вонъ чайникъ, вонъ вода въ ведрѣ.
Кивнула на ковшъ и ведро.
— Да огня нѣтъ!
— А ты растопи.
Уже, не стѣсняясь, растягивала потрескавшійся большой ротъ въ побѣдной улыбкѣ.
Марія побѣжала за дровами. Принесла вязанку, придерживая обѣими руками у груди. Грязныя полѣнья тѣсно прижимались къ шелковому платью, къ кружевному переднику. Пашка смотрѣла, какъ Марія присѣдаетъ у печки, какъ умѣло, знающе сначала суетъ въ нее вѣтки и щепки, зажигаетъ спичку, поджигаетъ пустую коробку изъ-подъ папиросъ, что валялась рядомъ съ кочергой. Какъ дуетъ на пламя. Осторожно подкладываетъ дрова.
Огонь завылъ. Застоналъ. Пашка нагло похлопала цесаревну по плечу.
— Вижу. Умѣешь. Ну и откуда ты такая умѣха?
— Насъ всему папа училъ. У насъ въ Зимнемъ дворцѣ и въ Царскомъ Селѣ тоже были печи. Мы же не на облакахъ жили.
Встала съ корточекъ. Прямо и гордо глядѣла на Пашку.
— Вонъ какъ! У нихъ во дворцахъ! А у насъ, значитъ, въ избенкахъ!
— Я и въ госпиталяхъ печи топила.
Пашка не выдержала. У нея сорвалось это.
— Скоро на облакахъ будете жить!
Съ наслажденьемъ смотрѣла на бѣлѣющее лицо этой крѣпкой, сильной дѣвчонки.
— Это мы еще посмотримъ, кто гдѣ будетъ! Городъ — скоро — отъ васъ освободятъ!
Пашка, не помня себя, схватила кочергу.
— Катись отсюда шибче!
Марія повернулась, взяла чайникъ, налила въ него ковшомъ воды изъ ведра и поставила чайникъ на плиту. Посмотрѣла на Пашку, будто взрѣзала ея лицо стерильнымъ, презрительнымъ скальпелемъ. Еще легко присѣла передъ печью, открыла дверцу, глянула на гудящій красный огонь. И только тогда ушла.
Пашка размахнулась и бросила кочергу въ уголъ. Она зазвенѣла. Отъ печной кладки отвалился кирпичъ и бухнулъ объ полъ.
… — Мама, я поставила чайникъ на огонь. Онъ очень большой, но я налила мало воды, сейчасъ она закипитъ.
— Спасибо, голубушка.
Тата подошла и спросила:
— Мама, тебѣ почитать изъ «Дѣяній апостоловъ»?
Мать шевелила губами, и шопотъ мерцалъ:
— Если я обладаю всѣми сокровищами міра, а любви не имѣю… то я мѣдь звенящая или кимвалъ бряцающій…
Тата сѣла на кровать, погладила лежащую на кровати Библію, какъ любимаго звѣрька.
Она пошуршала желтыми, заляпанными воскомъ страницами, легла на кровать на животъ и стала читать, и мать смотрѣла, какая у нея узкая гибкая спина и широкія бедра, и прикидывала: легко будетъ рожать. Да, она думала о каждой изъ дочерей, какъ она будетъ ихъ замужъ выдавать, и какъ онѣ понесутъ и будутъ рожать. Четыре дочки, шутка ли, внуковъ будетъ — цѣлый полкъ! Ну, дѣдъ-полковникъ у нихъ уже есть. Только бы бѣлые офицеры освободили ихъ! Только бы чехи пришли и согнули бы, растоптали этихъ красныхъ, краснорожихъ!
— Мама, а кто такой Ермаковъ?
Тата замолчала. Водила глазами по святой страницѣ. Мать пожала плечами.
— Солдатъ?
— Комиссаръ. — Марія сидѣла на скамеечкѣ, обхватила себя руками за плечи. — Я помню его. Онъ былъ у насъ нѣсколько разъ. У него лицо юродиваго.
…Цесаревичъ принялъ ванну опять. Онъ уже самъ влѣзалъ и вылѣзалъ изъ нея. Гулъ ветхозавѣтныхъ строкъ висѣлъ въ воздухѣ, какъ самолетный гулъ. Артиллерійскіе выстрѣлы сотрясали ночи. Во дворѣ караульные тоже стрѣляли: или веселились, или выслѣдили врага. Юровскій появлялся, лицо у него чернѣло, будто обугленное: безсонное. Рядомъ съ нимъ мотался человѣкъ дикаго вида, съ волосами, торчащими вокругъ лица торчкомъ и ползущими по щекамъ черными и сѣрыми змѣями, съ выпученными бѣлыми глазами; Юровскій называлъ его: «Товарищъ Петръ». Они оба то уходили, то приходили. Вотъ опять ушли; и вновь отворилась парадная дверь, и голосъ Юровскаго рѣзко взлетѣлъ вверхъ по лѣстницѣ: «Мы поѣхали въ Коптяки!» Потомъ дверь хлопнула, и все стихло.
Опять приходили бабы, ими командовала Пашка; тащили ведра, тряпки и швабры, на сей разъ мыли полы аккуратно, воду не лили, тряпки отжимали тщательно. Пахло содой и хлоркой, какъ въ госпиталѣ. Царица крестилась. Пришелъ мастеръ и выворачивалъ перегорѣвшія лампочки, и вворачивалъ новыя. Въ караульную привезли ящикъ папиросъ и ящикъ водки. Тата и Марія подходили къ Юровскому и просили его: разрѣшите намъ попользоваться фотографическимъ аппаратомъ, мы хотимъ снять другъ друга на фонѣ яблони-китайки въ саду! Юровскій рѣзко сказалъ: забудьте разъ и навсегда про аппаратъ и не приставайте ко мнѣ съ глупыми просьбами! И отвернулся, и курилъ передъ открытой форточкой.
…Юровскій почистилъ щеткой сапоги, ею же почистилъ тужурку. Ляминъ спросилъ его: куда вы, товарищъ комендантъ? Онъ отвѣтилъ: въ «Американскую гостиницу». А что тамъ? Любопытство свое прибереги, оно тебѣ еще понадобится, огрызнулся Юровскій. Такъ же, какъ и храбрость. А впрочемъ, давай сопровождай меня въ гостиницу. У меня тамъ въ номерѣ совѣщаніе. Есть, товарищъ комендантъ.
И пошли. Вечеръ, уже звѣзды. Далеко стрѣляютъ. Это уже чехи? Нѣтъ, это еще не чехи. Это наши отряды отбиваются отъ царскихъ сволочей. Не дрейфь, мы все равно побѣдимъ. Все равно!
А зачѣмъ мы такъ поздно идемъ въ эту гостиницу? Юровскій долго думалъ, отвѣчать или нѣтъ. Я тебя на шухерѣ хочу поставить. Мы будемъ обсуждать, кто хочетъ принять участіе въ… ну самъ знаешь въ чемъ. Не знаю. Не прикидывайся полнымъ дуракомъ. Ты, вотъ ты, да, хочешь самъ разстрѣлять царя?
Царя? Да, царя. Не знаю. А долженъ знать. Тѣ, кто на совѣщаніе придетъ, они уже знаютъ. Это тѣ, кто хочетъ. Самъ хочетъ, подчеркиваю. Мы не неволимъ. Но слишкомъ тяжелъ его кровавый шлейфъ, слишкомъ долго тянется по землѣ. По всей землѣ, не только по Россіи. Вы приговорили его? Развѣ былъ судъ? А развѣ сама революція — это не справедливый судъ? Я вотъ буду стрѣлять. Я не могу его не разстрѣлять. Я буду стрѣлять ему прямо въ сердце. Чтобы не мучился. И каждый возьметъ на себя кого-то. Мы ихъ распредѣлимъ другъ по другу. Назначимъ, кто — кому.
Ляминъ изо всѣхъ силъ держался, чтобы не упасть. Сильно кружилась голова.
И дѣвочекъ распредѣлите? Какихъ дѣвочекъ? Дочерей кровопійцъ? Пока онѣ свои мѣха и алмазы на себѣ таскали, по баламъ вертѣлись, народъ — на плаху — жизни клалъ? Голодалъ? Мерзъ? Трясся въ окопахъ? Погибалъ подъ пулями, подъ ядовитымъ газомъ? Пока этого гнилого мальчонку икрой да устрицами кормили, въ сливкахъ и въ шампанскомъ купали — крестьянскіе дѣти подыхали на лавкахъ, шубами прикрытые, подъ себя ходили, скелеты?! О чемъ ты говоришь, Ляминъ! Тебѣ — жалко?
Нѣтъ. Нѣтъ. Мнѣ — не жалко.
Вралъ себѣ. Вралъ Юровскому. Ночь, хорошо, спасибо ей, обнимала лицо, фонари почти всѣ погашены, и можно кусать губы и даже кусать руку, чтобы не заорать. Зачѣмъ объ руку зубы чешешь, Ляминъ? Что ты какъ волкъ! Комаръ укусилъ, товарищъ комендантъ.
Смутно видѣлъ, сквозь дымъ то ли табака, то ли сна, а можетъ, ужаса, номеръ въ гостиницѣ. Тужурку Юровскаго, скинутую и брошенную на неряшливую кровать. Кричали: я царя возьму! Я! Орали: да, въ сердце, въ сердце! Человѣкъ съ выпученными глазами, лохматый, какъ паршивая собака, по-собачьи трясъ башкой и восклицалъ: нѣтъ, мнѣ его! Мнѣ! Онъ — мой личный врагъ! Онъ — меня на каторгу услалъ! Мнѣ его дайте! Дымъ вился и заслонялъ лица. Оставались только орущіе голоса. Голоса схлестывались и падали на полъ. Разбивались, какъ плохіе, съ трещиной, стаканы. Откуда-то явилась водка, ее наливали въ кружку, а кое-кто сложенныя ладони подставлялъ. Хлебали какъ воду. Закусывали своими матерками. А гдѣ мы захоронимъ трупы? Эту задачу мы рѣшимъ! Она непростая. Юровскій, а ты кого возьмешь? Старуху. Въ сердце ей? Да, въ сердце! А я думалъ, ты ее хочешь помучить. За Распутина. Да за то, что она, сука, евреевъ не пускала дальше огненной черты. Нѣмка дерьмовая. А ты знаешь, что ни нѣмцевъ, ни евреевъ, ни русскихъ, ни украинцевъ нѣтъ, а есть только міровой пролетаріатъ и дерьмовые цари? Знаю. Я все знаю!
Григорій, а ты кого? Я — цесаревича. Медвѣдевъ! Кого ты! Я — Марію. Она, это, такая, ну, самая видная! Рослая дѣвушка! Хорошая мишень! Эхъ, зачѣмъ мы ихъ всѣхъ перестрѣляемъ! Стариковъ — да, надо, а дѣвокъ-то?! Лучше ихъ въ лѣсъ увезти… въ твои Коптяки.. и тамъ… А ужъ потомъ…
Пространство вокругъ Лямина обратилось въ скопище летучихъ мышей и сѣрыхъ, съ синими пятнами на спинѣ, проворныхъ гадюкъ. Изъ стѣнъ вылетѣли черные вороны и стали клевать людей въ глаза, въ затылки. По лбамъ, по шеямъ полилась кровь. Люди кричали и отмахивались отъ птицъ. Снимали сапоги и швыряли ихъ въ напирающую ниоткуда гадость. Дымъ заволакивалъ міръ, и дымъ застывалъ, какъ чья-то сѣдая, чудовищная, мраморная борода. Крючили хвосты раки, облѣпленные жутко пахнущей тиной. Человѣкъ напротивъ, смѣясь, курилъ, а по его рукѣ ползъ хамелеонъ, такихъ тварей Ляминъ видѣлъ въ дѣтствѣ въ самарскомъ бродячемъ циркѣ. Черви лѣзли изъ ушей и изо ртовъ, черви падали сквозь дымъ и шлепались у ногъ, и обвивали щиколотки, и сапоги раздавливали ихъ и скользили по сукровицѣ, по лиловымъ ошметкамъ мигъ назадъ еще живого.
Сгинь, пропади, — хотѣлъ крикнуть Ляминъ, а вмѣсто этого неожиданно выкрикнулъ: Марію — мнѣ! Я! Мнѣ оставьте! Его двинули по плечу и выкричали въ отвѣтъ: а что! И сможешь! Съ кулака, толкнувшаго его въ плечо, посыпались крошечные змѣиные дѣтки. Змѣеныши ползли по плечамъ Лямина, по рукавамъ, заползали подъ обшлага. Онъ закричалъ очумѣло: чортъ! Куда вы лѣзете! Прочь, прыгайте вонъ съ меня, вонъ! И стряхивалъ съ себя гадовъ, будто предсмертно обирался. А вокругъ зычно, гортанно хохотали: ты, упился съ одного стакана, да развѣ жъ ты силачъ, ты же слабакъ, а — какъ тамъ?! Тамъ-то какъ?! Завтра?!
А развѣ уже все завтра, растерянно бормоталъ Ляминъ, развѣ все уже завтра будетъ? Да, орали ему, да, завтра! А онъ все стряхивалъ съ себя змѣенышей и вопилъ: прочь, вонъ, вонъ отсюда! Я не вашъ! Я самъ свой! Я ни съ кѣмъ!
Смѣялись вокругъ: ты не такой?! Да ты же точно такой! Точно такой же, гадкій и скользкій, ты приспособился, чтобы выжить въ заварухѣ, и весь міръ стоитъ на кровавыхъ кишкахъ, и ты тоже змѣенышъ и вырастешь и станешь змѣемъ, дай срокъ, вотъ застрѣлимъ одного змѣя и его змѣенышей — и будемъ такіе, какъ они!
А гады все ползли и падали, шевелились и расползались по полу, и люди стояли и качались на волнахъ, на морѣ нечисти, ноздри залѣпляло погаными запахами, и Ляминъ только повторялъ одно, какъ спятившій: «Я — Марію! Я! Я — Марію! Мнѣ — Марію!» — и люди вокругъ него стали медленно обращаться въ чудищъ, у нихъ изъ лицъ полѣзли длинные, какъ змѣи, носы, и пальцы вились змѣями, и волосы тоже, и ноги росли, утоньшались и змѣями изгибались, — и они стали ложиться на полъ, обползать вокругъ Лямина, чудовищныя, огромныя, людскія змѣи, онѣ ложились штабелями и живыми черными, синими срубами, его запирали, какъ въ тюрьму, въ срубъ изъ змѣй, и онъ заоралъ дико: «Нѣтъ! Я никогда не буду такимъ! Марія! Лучше я самъ тебя убью!» — а сквозь дымъ протягивались змѣи рукъ, змѣи выползали изъ глазъ и протыкали дымъ насквозь, и Ляминъ не выдержалъ этого, змѣиный дымъ забилъ ему носъ и ротъ и легкія, и онъ упалъ на полъ, плывя по волнамъ гадкихъ узкихъ спинъ, переплывая море ужаса, и зналъ, что — не выплыть ему.
##
…царь, въ постели лежа, по привычкѣ думалъ вслухъ, и жена навостряла уши: вотъ Боткинъ сказалъ — чернь, и правда — чернь, власть черни, власть не народа, а самой настоящей черни, вѣдь они все врутъ, они кричатъ: свобода печати! — и закрываютъ сотни, тысячи прежнихъ газетъ, они вопятъ: долой смертную казнь! — а сами косятъ изъ ружей, изъ нагановъ, изъ пулеметовъ людей направо и налѣво; они хрипятъ: долой войну! — а сами развязали такую войну, жутче которой нѣтъ никакой въ цѣломъ свѣтѣ: гражданскую, и Россію устилаютъ трупы, и не построишь изъ тѣхъ труповъ ни дворца, ни храма, ни зиккурата, ни мавзолея. А труповъ столько, что изъ нихъ можно сложить мертвый городъ; мертвую крѣпостную стѣну, отгораживающую насъ отъ Европы или, можетъ, Китая. И трупы будутъ гнить, и смердѣть, и ни одинъ человѣкъ къ той ужасной стѣнѣ не подойдетъ. И такъ, родная, мы будемъ жить долго. Долго.
А что будетъ потомъ, родной?
А потомъ мы пойдемъ съ тобою работать на заводъ, Sunny. Просто — на заводъ. На Злоказовскій, на Путиловскій. И встанемъ къ станку. И надъ нами будетъ стоять надзиратель, и у него въ одной рукѣ будетъ плетка, въ другой — наганъ. И, если мы замѣшкаемся и будемъ отлынивать отъ работы, онъ сначала ударитъ, потомъ — выстрѣлитъ. Ибо кто не работаетъ, тотъ не ѣстъ, сказалъ апостолъ Павелъ.
А это апостолъ Павелъ сказалъ?
Или ихъ попугай Ленинъ. Да не все ли теперь равно.
Царица заплетала жидкіе волосы въ косу, а царь продолжалъ тихо, размѣренно говорить: гдѣ наши холмогорскія коровы? Гдѣ наши орловскіе рысаки, владимірскіе тяжеловозы? Знаешь, darling, они запрягаютъ орловскихъ рысаковъ въ телѣги, телѣги нагружаютъ неподъемно, хлещутъ благородныхъ лошадей по бокамъ не кнутомъ, нѣтъ, — палками, жердями, — и забиваютъ до смерти. Я бы самъ сталъ этой лошадью! Самъ! Чтобы смотрѣть на людей, бьющихъ меня, ея влажнымъ, кроткимъ глазомъ. Гдѣ наше молоко, родная? Гдѣ бочки со сливочнымъ вологодскимъ масломъ? Съ архангельской семгой? Съ каспійской осетровой икрой? Господи! Господи! Евгеній Сергѣичъ получилъ намедни письмо. Ему пишутъ изъ Петрограда: въ Гатчинѣ въ звѣринецъ явились красные люди, наставили на безвинныхъ звѣрей ружья и всѣхъ — всѣхъ до единаго, слышишь — перебили. И это — свобода? Это — новые люди? Гнусность это, а не люди! Мерзость! И они же — насъ — мерзостью старой, отжившей — считаютъ… плюютъ намъ вослѣдъ, когда мы — по коридору — въ нужникъ идемъ…
Царица блѣднѣла, краснѣла. Клала ладонь на лобъ.
А царь все говорилъ, размѣренно и мѣрно, какъ священникъ съ амвона, будто этими рѣчами и вправду могъ облегчить себѣ душу: я вижу, вижу, родная, что все сбывается, всѣ — намъ — предсказанія, всѣ пророчества исполняются, и намъ не надо бояться, хотя я понимаю, страшно, страшно, да. Но кто не страшился? И кто не плакалъ въ ночи? Они всѣ сволочь. И мы для нихъ — сволочь. Мы — сволочь другъ для друга. Какъ бы они ни прикрывались маской любви, это всего лишь маска. Они говорятъ: пройдетъ десять, двадцать, тридцать лѣтъ, и Россія станетъ великой державой! Какъ будто она не была, уже не была великой державой. А они — и черезъ тридцать, сорокъ, пятьдесятъ лѣтъ всѣ будутъ — сволочь. Сволочь всегда остается сволочью, она не перекраивается. Если ихъ метлою погонятъ съ нашей земли, они еще ожесточатся. Они должны дорѣзать недорѣзанное. И — доворовать недоворованное. Они начали съ разбоя — а закончатъ разбоемъ еще большимъ, ужаснѣйшимъ. Если Добровольческая Гвардія ихъ побѣдитъ — уходя, они споютъ такую осанну смерти, какую еще не слыхалъ міръ.
Царица медленно поворачивала къ царю голову на подушкѣ и тихо говорила: хватитъ, будетъ, довольно, успокойся, не бойся.
И онъ поворачивалъ лицо къ ней, улыбался и шепталъ ей: не бойся.
И она шептала: обними меня.
И онъ, улыбаясь, сотрясаясь всею спиной, всѣмъ нутромъ отъ сухихъ, безслезныхъ рыданій, крѣпко, крѣпко обнималъ ее.
##
…Княжонъ и слугъ разобрали. Каждый — по себѣ. Павелъ Ереминъ на собраніи тоже былъ. Мрачно молчалъ. Всѣ говорили, а онъ молчалъ, и надъ бровями у него блестѣлъ мелкій потъ, какъ приклеенныя къ картонному Дѣду Морозу елочныя стеклянныя блестки.
Ему кричали: а ты кого?! Онъ молчалъ. Потерявшаго разумъ Лямина оттащили на диванъ, водки больше не давали, натирали виски гвоздичной мазью — у фельдшера Юровскаго въ безсмѣнномъ портфелѣ нашлась, таскалъ съ собою еще съ медицинскихъ временъ. А кто еще будетъ, кромѣ насъ? Латыши изъ ЧеКа. Ну это хорошо, все подмога. А ты что, не мѣткій стрѣлокъ? Мнѣ ихъ всѣхъ въ рядъ поставь — всѣхъ изъ одного револьвера положу!
Всѣхъ не положишь, въ револьверѣ шесть патроновъ, а ихъ — семеро.
Юровскій подобрался и сжался. Слушали внимательно. Запоминали все до слова. Въ полночь во дворъ въѣдетъ грузовое авто. Въ немъ будетъ сидѣть товарищъ Петръ. Ермаковъ, ты слышишь? Да. Ты отпустишь шофера. Да. За руль сядетъ Люхановъ. Да. Мы разстрѣляемъ ихъ и на грузовикѣ увеземъ въ лѣсъ ихъ трупы.
Да.
Какъ мы будемъ возвращаться? Городъ опасенъ. Насъ подстрѣлятъ. Ты трусъ. Вы всѣ сами трусы. Вы хотите, чтобы насъ убили, и все рухнуло къ чертямъ? Нѣтъ. Расходимся поодиночкѣ. Движемся окольными улицами. Разсчитываемъ время. Встрѣчаемся всѣ въ караульной.
А гдѣ все это будетъ, товарищъ комендантъ? Что? Ну, это. А, это. Я самъ еще думаю. Я все скажу вамъ завтра. Въ послѣдній моментъ! Врешь. Послѣдній моментъ — это когда твой послѣдній мигъ наступаетъ. Наверьхъ вы, товарищи, усѣ по мѣстамъ! Послѣдній парадъ наступаитъ! Не кривляйся. Хватитъ калякать. Все уяснили. Всѣ запомнили? Да. Врагу не сдаецца… нашъ гордый «Варягъ»!.. пощады… нихто… не жала-итъ…
И онъ подалъ съ дивана слабый, игрушечный, ненастоящій голосъ:
— Пощады… никто не желаетъ…
— Эхъ ты, а Мишка-то пробудился! Твоя, Мишка, казнь — стаканъ водки, ему больше не наливать! Ну, попробуй только промажь!
Михаилъ закрылъ глаза. Теперь онъ искусно, хитро притворился спящимъ. И даже чуть захрапѣлъ.
«Пусть имъ будетъ все равно, тутъ я или нѣтъ меня».
##
ИНТЕРЛЮДІЯ
Ну что жъ, давай поговоримъ, дорогой.
Ты задумалъ снова дѣлать революцію.
Богатые мѣшаютъ тебѣ?
Это ты самъ хочешь быть богатымъ и такъ же распоряжаться деньгами, домами, машинами, яхтами, одеждами, сигаретами, винами и всѣми земными благами, какими распоряжаются въ мірѣ богатые.
Ты говоришь: частная собственность — гиль. Народъ долженъ владѣть заводами, фабриками, нефтью и газомъ, золотомъ и углемъ. Долой толстопузаго банкира! Долой магната — денежный мѣшокъ! Ты повторяешь, какъ попугай, то-и-дѣло, безконечно, день за днемъ, годъ за годомъ: отобрать и подѣлить, отобрать и подѣлить. Отобрать богатства у богатыхъ и подѣлить ихъ поровну между всѣми. Вотъ оно, вожделѣнное равенство!
Хорошо. Отобрать. Подѣлить. А что ты еще, дорогой, предлагаешь?
Ты съ готовностью открываешь ротъ. Ты не молчишь. О, ты еще тотъ краснобай. Ты вдохновенно декламируешь: «Великая имперія отъ Владивостока до Гибралтара на базѣ русской цивилизаціи!» Ты тутъ же выпаливаешь: «Мы ненавидимъ лютой ненавистью безчеловѣчную троицу: капитализмъ, либерализмъ и демократію!» Вотъ ты уже встаешь передо мной. Вотъ ты уже кричишь, и я гляжу на твою крупную, хорошей правильной формы, большую голову, на гладкую, какъ зеркало, лысину, на лицо крупной лѣпки — хорошій скульпторъ могъ бы высѣчь его изъ мрамора, отлить изъ бронзы: «Мы видимъ свою миссію на этой землѣ въ разрушеніи государственной системы до основанія!»
Милый, гдѣ-то я это уже слышала. Кто-то эту пѣсню уже пѣлъ. Стройный, мощный, слитно звучащій хоръ.
Весь міръ насилья мы разрушимъ
До основанья, а затѣмъ…
Я не спрашиваю тебя, что будетъ потомъ, когда вы разожжете революцію и возьмете власть.
Я и такъ это знаю.
Сначала вы будете убивать тѣхъ, кто не съ вами. Кто — противъ васъ.
Да даже и тѣхъ, кто — не противъ, а просто молчитъ.
Вы будете убивать ихъ долго, долго, потому что вездѣ вамъ будутъ чудиться ваши враги.
Ну, а потомъ вы будете строить новую іерархію. Ибо, какъ извѣстно, нѣтъ общества безъ іерархіи. Ибо всѣ неравны. Не правда ли, дорогой?
Ты поднимаешь рюмку водки, мигаешь мнѣ, усмѣхаешься и быстро водку выпиваешь. Слегка морщишься. Ты привыкъ хорошо выпивать и хорошо закусывать. Это все получилось потому, что твоя родина дала тебѣ возможность заработать денегъ. Хотя, ты помнишь, въ твоей жизни были времена, когда ты, твоя жена и дѣти ѣли на завтракъ, обѣдъ и ужинъ только жаренную на салѣ картошку. Только жареную картошку, и безъ хлѣба. Да, такіе тяжелые были годы, не хочется вспоминать.
Соленый свѣжій вѣтеръ рветъ и гнетъ салфетки въ хрустальной вазѣ на столѣ.
Ты говоришь мнѣ: я пью за тебя, и за то, чтобы тебѣ въ новой Россіи, съ нами, когда мы сдѣлаемъ нашу революцію, было хорошо и привольно!
Рядомъ съ моей фарфоровой ресторанной тарелкой тоже стоитъ рюмка, и въ ней — ледяная водка. Но я не поднимаю рюмку. Я смотрю поверхъ тарелки, поверхъ холодной рюмки на тебя.
Ты весь холодный, прозрачный, увѣренный, мощный, чистый, честный, какъ эта чистая тарелка, какъ эта горькая рюмка.
Ты немного мнѣ нравишься. Не такъ, какъ женщинѣ нравится мужчина. Ты нравишься мнѣ, какъ матери — ея родной ребенокъ: своей чистотой, сіяніемъ прозрачныхъ, чуть на-выкатѣ, глазъ. Своей увѣренностью въ вашей побѣдѣ.
Ты серьезно настроенъ выгнать поганой метлой теперешнюю власть, взять ее, какъ кота, за шкирку.
Кого посадить на тронъ? Себя?
«Да нѣтъ, зачѣмъ себя. У насъ есть много умныхъ людей, которые будутъ править много лучше, чѣмъ я».
Ты берешь съ тарелки устрицу, высасываешь ее изъ панцыря. Опять чуть морщишься. Наливаешь себѣ водки изъ запотѣлаго графина. Хорошо жить. Хорошо имѣть деньги въ карманѣ. Эй, офиціантъ! Еще графинчикъ! Хорошая водочка у васъ тутъ!
И къ водочкѣ — можетъ-быть, черная икорка найдется? Нѣтъ? Ну красная точно найдется? Точно! Я такъ и зналъ! Тащи.
Офиціантъ несетъ на подносѣ водку и закуски. Все въ мірѣ повторяется. Это все уже было когда-то. И еще будетъ. Съ другими, непонятными нами. Въ другихъ вѣкахъ.
Я знаю, дорогой, что ты мнѣ сейчасъ скажешь.
Я знаю все до слова.
Болѣе того: я знаю, почему ты скажешь мнѣ именно это.
«Пытать и вѣшать, вѣшать и пытать, — говоришь ты мнѣ съ очаровательной улыбкой, она такъ по-дѣтски морщитъ твои красивыя губы. — Посадить и разстрѣлять! Буржуемъ быть опасно, Россія будетъ красной! Для насъ навсегда: серпъ и молотъ, и звѣзда! Застрѣли буржуя въ спину! Онъ не лучше, чѣмъ скотина! Сегодня — съ листовкой, завтра — съ винтовкой! Вставай, проклятьемъ заклейменный! Ленинъ возвращается, краснознаменный! Вооружайтесь, насъ трогать не смѣть! Вооружайтесь, капитализму — смерть! Скоро, скоро выстрѣлитъ „Аврора“! Вставай, поднимайся на бой! Революція придетъ за тобой!»
Я понимаю: я должна все это прекратить.
Но я какъ во снѣ. Я не могу раскрыть ротъ, чтобы крикнуть тебѣ: хватитъ! Довольно!
Я ничего не могу сказать.
И, можетъ, уже никогда не смогу.
И тогда я встаю. И беру со стола графинъ, полный холодной водки. И размахиваюсь, и бросаю его за бѣлую, мраморную балюстраду ресторана. Веранда ресторана нависаетъ надъ моремъ, и графинъ весело летитъ въ тяжелую, съ бѣлыми гребнями, соленую синеву.
И я беру фарфоровую тарелку съ устрицами и швыряю ее вслѣдъ за графиномъ.
Я обрѣтаю даръ рѣчи.
Я говорю тебѣ съ милой улыбкой: море тоже хочетъ выпить. Отобрать и подѣлить, такъ? Устрицы тоже хотятъ свободы. Онѣ не хотятъ, чтобы ихъ жадно сожрали подъ водку. Буржуемъ быть опасно. Но Россія не будетъ красной. Она это слишкомъ долго проходила и слишкомъ хорошо затвердила. Заучила, дорогой, наизусть. Записала кровью у себя на ладоняхъ.
##
…Юровскій пришелъ въ Домъ первымъ. Его руки стали жить отдѣльно отъ него: шевелиться, когда не надо, дергаться, вертѣться, то шалить, то отчаянно, больно ломаться. Онъ не понималъ, что у него съ руками. Даже спросилъ ихъ: руки, что такое съ вами?
Руки молчали. Имъ нечего было сказать.
Щелкнулъ выключателемъ. Мертвый свѣтъ полился изъ-подъ потолка. Столъ въ комендантской былъ заваленъ оружіемъ. Винтовки и револьверы лежали на роялѣ. Лежали на полу. Громоздились въ деревянныхъ ящикахъ. Они слишкомъ долго готовились къ этой ночи, чтобы можно было поскупиться на оружіе.
Послѣдняя ихъ война со старымъ міромъ. Эта казнь неизбѣжна. И ему, эй, руки, ему очень жалко дѣвочекъ. И этого больного мальчишку. Очень, руки, не дергайтесь! Надо выпить успокаивающихъ капель. Никакая водка не помогаетъ. Вонъ ея цѣлый ящикъ стоитъ подъ роялемъ. Но — солдатамъ — только послѣ исполненія приговора. Иначе, косые и веселые, они въ лампу попадутъ, въ подоконникъ, окна пулями разобьютъ, а въ лобъ и въ сердце — никому. Жизнь! Вотъ такъ она заканчивается. Что вы бѣситесь, руки? Какого чорта вы такъ разгулялись?
Чернильница на столѣ сама брызнула чернилами. По стѣнѣ проползъ огромный паукъ, на спинѣ у него мерцалъ чудовищный крестъ. Гдѣ ты это все сотворишь? И сотворилъ Богъ небо и землю, а въ какой тамъ день? Не все ли равно.
Есть одна комнатенка. Рѣшетка на ея окнѣ. Она рядомъ съ кладовой. Кладовая, тамъ складъ вещей прежнихъ хозяевъ, и тамъ очень много, онъ заглядывалъ, этихъ православныхъ сладкихъ иконъ. У иныхъ изъ нихъ такіе жуткіе глаза! Круглые, громадные, страшные. Поглядитъ такая на тебя — и вмѣсто души у тебя — водки стаканъ. А какъ Лямина-то развезло. Изъ гостиницы онъ — подъ ручку съ Ереминымъ пойдетъ. Ереминъ самъ вызвался съ нимъ итти.
Ночной городъ. Медленные шаги. Тьма. А если враги все прознали про ихъ планъ? И всѣхъ — поодиночкѣ — пока они, змѣи, черви, ползутъ до Дома — ухлопаютъ, всѣхъ до одного? Не наклади въ штаны, комендантъ Юровскій. У тебя есть еще латыши. Много латышей. За тобой вся ЧеКа. За тобой — на томъ концѣ прямого провода — товарищъ Ленинъ и товарищъ Свердловъ. Они видятъ: ты выбираешь мѣсто казни. Они видятъ сквозь пространство и время, потому что они — геніи. Лбище Ленина! Острый взглядъ товарища Якова! Они видятъ — будущее. Не твое, нѣтъ, сдался ты имъ. Они видятъ будущее цѣлой страны, и во имя его надо пожертвовать этими нѣжными дѣвочками. Этой старой матерью, старой сукой, выкормившей столько нѣжныхъ породистыхъ щенятъ.
Руки, прекратите эту пляску. Руки, да вы что! Никогда съ вами такого не случалось. Комната, кажется, выбрана. Имъ самимъ. Имъ однимъ. Комната, лучше не придумаешь. Почти подвалъ. Почти земля. Зажжемъ свѣтъ, а его не видать. Будемъ выпускать пули — а ихъ не слыхать. То, что надо! Заплотъ у насъ высокій. Деревья… вѣтви густыя…
А что они у меня будутъ наутро жрать, руки? А? Вся эта солдатня! Вся разстрѣльная команда. Голодные мужики. Голодные и, возможно, пьяные. До водки они все одно доберутся. Нужна ѣда. Кровь изъ носу, нужна ѣда! Придется опять послать къ монашкамъ. За молокомъ и за яйцами. Пусть наложатъ цѣлую корзину яицъ. И пусть несутъ осторожно, не побьютъ. Руки! Цыцъ!
И ноги тоже задрожали. Выбрыкивали. Выкидывали колѣнца. Это признакъ пляски святого Витта, малой хореи. Зачѣмъ она у меня? Ну-ка поди вонъ! Капельки, давайте, капайте.
Юровскій взялъ стаканъ и добылъ изъ шкапа пузырекъ капель съ опіемъ. Онѣ утишаютъ боль. А эта боль его — особаго свойства. Онъ же не чудовище. И не желѣзный рельсъ. И не безмозглый камень. Онъ живой, и онъ понимаетъ: завтра онъ убьетъ живыхъ людей.
Сколько онъ уже убилъ! Но здѣсь особь статья. Здѣсь — царь, и его жена, и дѣти. Онъ убиваетъ цѣлый міръ. Онъ одинъ.
Гордость захлестнула его. Дьявольская, неистовая гордость и радость.
Такое бываетъ — разъ въ тысячу лѣтъ! Съ людьми! Со временемъ!
Половицы въ коридорѣ проскрипѣли. Онъ думалъ — кто-то первый до Дома добрался. Залпомъ выпилъ опій, шагнулъ къ двери, открылъ.
Пашкина спина качалась въ ночи, въ дыму.
— Эй! Стой!
Она остановилась. Не оборачивалась.
— Ты куда?
Пашка все стояла, ея глаза упирались въ стѣну.
Юровскій самъ подошелъ къ ней.
— Что молчишь?
Взялъ ее за плечо.
— А вы что тутъ ночуете?
Повернулась къ нему лицомъ. Скулы ея ярко горѣли. Какъ двѣ тусклыхъ электрическихъ лампы.
— Ничего. Нельзя, что ли?
— Гдѣ боецъ Ляминъ?
— Зачѣмъ спросила? Живъ твой Ляминъ, здоровъ. Да пошелъ онъ.
— Злой вы сегодня.
— Да и ты не добрѣе.
Пашка тряхнула плечомъ, чтобы сбросить руку. Юровскій плечо не отпускалъ. Рука дергалась.
— Что у васъ руки дергаются?
— Не твое дѣло.
Зубы тоже стали выбивать дробь.
Онъ положилъ другую руку ей на другое плечо. И эта рука дрожала.
И тогда Пашка поняла.
Ноги ея онѣмѣли и налились дикой тяжестью. Губы плыли, пытаясь улыбнуться и ободрить. Такъ стояли долго. Коридоръ молчалъ. Бойцы все не шли изъ далекой, словно во снѣ приснилась, прокуренной дешевой гостиницы. Юровскій сильнѣе вцѣпился въ плечи Пашки и рывкомъ притиснулъ ее къ себѣ.
Потянулъ ее за локоть. Она вся была какъ ватная. Оба вошли въ комендантскую, и Юровскій повернулъ съ жесткимъ лязгомъ ключъ въ замкѣ.
##
Михаилу будто что-то рѣзко стукнуло въ голову, и онъ проснулся.
Гостиница, сговоръ въ табачномъ дыму, гады и змѣи чудились ночнымъ кошмаромъ.
Шесть утра, какъ всегда. Онъ всегда открывалъ глаза въ шесть утра, даже если ложился въ пять. Подремать часокъ, а потомъ въ шесть ноги скинуть съ койки.
«Въ Буянѣ вставали и того раньше. Отецъ подымался въ четыре. Софья сразу за нимъ. Къ скотинѣ бѣжали, Софья — за водой. Бѣдная Софья! Какъ она тамъ? Голодуетъ? Какъ выживаетъ? Да — жива ли? Можетъ, надругались надъ ней? Разодрали ее, какъ лягушку злые дѣти. — Представилъ себѣ ее лежащую, испоганенную, и какъ надъ ней мужики, похохатывая, ширинки застегиваютъ. — Коли такъ — пусть сгорятъ твари въ аду! Адъ… Да есть ли онъ?»
Ляминъ уже сомнѣвался въ существованіи ада. Можетъ-быть, міры перевернулись и, играючи, помѣнялись мѣстами, и вмѣсто ада теперь рай, а земля, оказавшись въ сѣрой пустотѣ, сама стала адомъ? Чтобы хоть чѣмъ-то быть, остаться.
Часы въ гостиной пробили шесть разъ. Ледяной звонъ медленно плылъ по дому, проникая въ самые тайные, жучиные, крысиные и мышиные углы.
Мицкевичъ, Мошкинъ, Логиновъ и Корякинъ спали. По двое на койкахъ. У окна, на двухъ разстеленныхъ ветхихъ одѣялахъ, спалъ Сашка Люкинъ. Чмокалъ во снѣ. Всегда такъ сладко спалъ, что тебѣ младенецъ, пушкой не добудишься.
Дверь, хищно проскрипѣвъ, отворилась, и вошла Пашка. Не въ кухонной юбкѣ — въ своихъ старыхъ, съ лампасами, военныхъ галифэ. Отъ нея пахло мыломъ.
— Проснулся? Ну вотъ и гоже. А я готова.
— Куда готова?
У Пашки былъ странный, ровный и выцвѣтшій голосъ. Слишкомъ спокойный.
Онъ сидѣлъ на койкѣ босой, ноги еще портянками не обмоталъ. «Мнѣ повезло, на койкѣ сплю. А иные тутъ, въ домѣ, спятъ на чердакѣ, въ сараѣ и въ подвалѣ этомъ затхломъ, на полу, безъ матраца. Ребра упражняютъ». Смѣшокъ воробьемъ вылетѣлъ изо рта.
— Надо мной хихикаешь? — Пашка подняла плечо. Черезъ плечо глядѣла. — Досмѣешься.
— Паша, ты опять. Ну будетъ тебѣ. Я надъ своимъ. Вотъ радуюсь, какъ человѣкъ сплю. Какъ господа.
Пашка одернула гимнастерку.
— Теперь нѣтъ господъ. Забудь про господъ.
— Забылъ. — Вскочилъ съ койки, шагнулъ къ ней.
Обнялъ, съ утреннимъ привѣтомъ, а она стоитъ какъ статуя. Эта, господская, мраморная, у книжнаго шкапа въ гостиной.
«Статуя голая, а Пашка одѣтая».
Пашка придирчиво обвела комнату острыми лисьими зрачками.
— А гдѣ Летеминъ и Клещевъ? И Дерябинъ? И Бабичъ? Въ церковь, что-ли, побѣжали?
Ляминъ обкручивалъ портянками ноги. Голыя лытки отсвѣчивали синимъ. «Какъ у замороженнаго въ погребицѣ цыпленка. Раздѣлывать меня можно. Порубить и въ супъ». Опять хохотнулъ.
— Что ты ржешь, какъ конь, съ утра? Водки, можетъ, дать?
Огрызалась уже зло. Ляминъ осторожно всунулъ обмотанную портянкой ногу въ сапогъ.
— А у тебя есть?
— Есть.
— Пей сама.
— И выпью.
Пашка добыла изъ кармана штановъ съ лампасами початую сороковку, отодрала пробку и на глазахъ у Лямина крупно, соблазнительно глотнула.
«И не закусываетъ вѣдь, стервь. У мужиковъ научилась. Да она сама давно ужъ какъ мужикъ стала».
Разсматривалъ ее, словно камень съ дыркой, куринаго бога. Развернулъ другую портянку.
— Поторапливайся. Возишься. Я кашу ячневую на всѣхъ сварила.
— Ахъ ты наша повариха.
Напялилъ другой сапогъ и поморщился: слишкомъ туго портянку намоталъ. Пальцами поигралъ въ сапогѣ. «Ничего, расхожусь».
— Гдѣ накрыла?
— Въ столовой.
— А развѣ не будемъ ждать, когда эти проснутся? — Кивнулъ на дверь. — Мы же всегда съ ними столуемся.
— Сегодня Юровскій велѣлъ намъ пораньше управиться. Все? Обулся?
Ляминъ всталъ на ноги и потопалъ, утрамбовывая ноги въ сапоги. Улыбнулся Пашкѣ, уже хорошо, свѣтло. Ей одной.
— Пашуль, да что ты мрачная какая?
— А что веселиться.
Лицо ея было слишкомъ блѣдно, выпито. Будто ночь провела безъ сна, то ли цѣловальную, то ли за молитвой, у кіота. «Пашка, кошка, всегда надъ Богомъ смѣется! Смѣлѣе Пашки только красные генералы, что войско въ бой ведутъ! Ей бы до генерала дослужиться — цѣны бы ей не было! Жаль, бабъ въ генералы не берутъ».
Чувствовалъ: у ней какая-то мысль въ головѣ копошится, вредная вошь. Свербитъ.
«Но не скажетъ никогда, хоть упросись. Сама скажетъ, потомъ».
— Въ рукомойникѣ вода есть?
— Есть, я нанесла.
Пошелъ умываться и долго фыркалъ. Черезъ открытую дверь видѣлъ — въ комнатѣ товарищи завозились, стали вставать, одѣваться. Люкинъ спалъ одѣтый, ему легче всѣхъ: всталъ, ладонями растерся и побѣжалъ. На Люкина иногда находило: растѣлешится до пояса, выйдетъ во дворъ, хлещетъ на себя колодезной водой изъ ведра и чиститъ зубы господскимъ мѣловымъ порошкомъ. «Гдѣ взялъ порошокъ-то?» — «А у дѣвчонокъ укралъ». — «Ну и какъ на вкусъ?» — «А ты попробуй!» — «А чѣмъ дѣвки зубешки чистятъ?» — «Ничѣмъ! Онѣ и такъ хорошо пахнутъ».
Никакихъ полотенецъ давно не водилось. Ляминъ промокнулъ лицо рукавомъ. Будто водку мануфактурой занюхалъ.
— Все? Готовъ? Идемъ.
Въ столовую уже стекались красноармейцы. Вся охрана: и наружная, и внутренняя.
«Господи, какъ насъ много, — съ изумленьемъ думалъ Ляминъ, — и такую прорву народу Пашка одна кормитъ! Медаль ей».
Сперва похохатывали, разсаживаясь, гремя стульями; потомъ притихли. Пашка взгромоздила на столъ кастрюлю съ кашей и гору тарелокъ. Брякнула связкой ложекъ. Ложки, тарелки солдаты вмигъ расхватали.
— Ложки не у всѣхъ! — крикнулъ молоденькій Антонъ Бабичъ.
— Не цари! Перебьетесь.
— А што, черезъ край хлебать?
— Черезъ край!
Пашка зачерпывала половникомъ кашу и бухала въ подставленныя тарелки. Бойцы ѣли; кто сосредоточенно, кто сонно, кто жадно, кто нехотя, кто — перекидываясь шуточками.
Другъ другу — пустыя тарелки передавали.
— Соли мало!
— А ты вспотѣй да каплями полей, вотъ и солено станетъ.
— Или сбрызни чѣмъ другимъ!
— Мокрелью своей, што ли?
— А што, и сыму штаны!
— Слезками, слезками!
— Ищо наплачемси.
— Ты, весельчакъ! Все слопалъ? Быстро же!
— А долго ли умѣючи.
Охранникъ Ваня Шулинъ обернулъ искромсанное шашкой лицо къ Пашкѣ:
— Безъ царей скушно. Съ ними весело. У нихъ изъ тарелки можно попробовать! А то и подъѣсть.
— А что, оголодалъ?
Пашка стукнула Шулина поварешкой по крутому бычьему лбу.
— А бывшіе-то когда встанутъ?
Павелъ Ереминъ и Костя Добрынинъ, изъ наружной охраны, ѣли, то-и-дѣло пихая другъ друга локтями въ бока.
«Какъ дѣти. Мы тутъ всѣ дѣти. Еще не наигрались. Гдѣ наши цацки?»
Пашка собирала со стола грязныя тарелки, ловко складывала въ неряшливую фаянсовую горку.
— Какъ обычно. Въ восемь, въ девять. Внутренняя охрана — быть всѣмъ на своихъ мѣстахъ! Стоять передъ комнатами, арестованныхъ сопровождать къ завтраку!
«Ого, Пашка, какъ фельдфебель оретъ. Красный командиръ! Нѣтъ, сдѣлаетъ баба армейскую карьеру».
Думалъ о ней отрѣшенно, ледяно и пусто. Вдругъ ощутилъ боль и жженье ниже кишокъ.
«А болитъ у меня по ней. Ноетъ. Хочу ее. Все равно».
«Да хочешь ее, потому что больше рядомъ никого нѣтъ!»
И холодный голосъ откуда-то изъ-подъ потолка прозвенѣлъ еле слышно, какъ далекіе часы:
«И не будетъ».
— Расходись на посты!
«А меня-то что безпокоитъ? Кошмары снились».
Когда понялъ, что гостиница и сговоръ не приснились ему — изъ его лица наружу, какъ изъ печи, стало вырываться тяжко гудящее пламя.
Изъ спальни царей донеслась еле слышная Херувимская пѣснь. Быстро смолкла.
Видно, тихо, шопотомъ молились.
…Ляминъ прошелъ вмѣстѣ съ Бабичемъ, Мошкинымъ и Лодей Логиновымъ къ царской спальнѣ. Бабичъ нахально отворилъ дверь. Не совсѣмъ, а такъ, немного, чтобы видно было, что внутри творится. Семья стояла на колѣняхъ, вся. Царь истово крестился передъ кіотомъ, клалъ земные поклоны. Съ его лица съ остроугольными, выпирающими подъ кожей скулами обильно текъ потъ. Онъ его не отиралъ. Старуха тяжело опустила голову, шарила глазами по половицамъ, губы ея медленно шевелились. Дѣвушки крестились быстро-быстро, будто сейчасъ не успѣютъ — и все, и грѣшницы навѣкъ. Мальчонка, наоборотъ, держалъ головенку прямо, слишкомъ гордо. «Заносчивый. Даромъ что отца развѣнчали. Этому дай власть — и онъ ее возьметъ и крѣпко удержитъ».
«Какая власть, окстись! Дитя. И больной весь насквозь. Пашка сказала, это болячка такая, до свадьбы не доживетъ».
— Молются, — прошепталъ Бабичъ.
— Антошка, а ты чо, никогда не молился?
— Я и щасъ молюсь.
— Ну вотъ видишь.
…Сапоги застучали внизу. Ляминъ перегнулся черезъ перила.
— Юровскій идетъ.
— Стража! На кра-улъ! — Пашка гаркнула, чтобы Юровскому было слыхать: тутъ у насъ дисциплина.
Юровскій поднимался по лѣстницѣ. Сапоги его были мокры, къ нимъ прилипли грязь и тополиные листья. Онъ поймалъ низкій, ползущій по полу взглядъ Лямина.
— У насъ надъ домами дождь прошумѣлъ, товарищъ Ляминъ. Слѣпой! Солнце горитъ, а дождикъ трещитъ. Вотъ, весь вымочился. — Потрепалъ себя по мокрой головѣ. — Зато бодритъ. Охрана поѣла?
— Такъ точно, товарищъ комендантъ.
— Ну вотъ и славно. А… арестованные?
— Нѣтъ еще, товарищъ комендантъ.
— Такъ кормите ихъ!
— У нихъ свои повара. И подавальщики свои.
— Однакоже вы вмѣстѣ съ ними все лѣто столовались.
— Такъ точно, товарищъ…
Михаилъ поймалъ слово.
«Столовались. Онъ говоритъ о нихъ въ прошедшемъ времени. Въ прошломъ».
Потъ влажно обвернулъ его лобъ и шею. Онъ облизнулъ губы, и губы тоже стали влажными.
— Дѣйствуйте. Пусть пьютъ свой чай, сколько хотятъ. И дайте имъ погулять.
— Такъ мы даемъ!
— Вволю погулять, вволю.
Юровскій отодвинулъ рукой стоящаго прямѣе штыка Лодьку Логинова и шагнулъ черезъ порогъ, въ спальню. На него пахнуло смѣшаннымъ, тревожащимъ запахомъ духовъ, смятыхъ постелей, старушьей лаванды, что клали въ шкапы отъ моли, сердечныхъ капель, сиропа, ландыша, ржаного хлѣба, прибереженнаго въ ящикѣ — а вдругъ завтра голодъ.
Ляминъ глядѣлъ въ спину Юровскому.
Пустая бутылка изъ-подъ французскаго коньяка стояла на комодѣ. Въ бутылкѣ торчали засохшія вѣтки сирени. Рядомъ, въ баночкѣ изъ-подъ кольдкрема, раскрывалъ цвѣты ландышъ.
— Духота тутъ у васъ! — твердо, скорѣе весело, чѣмъ разсерженно, сказалъ Юровскій. — Кончайте ваши молитвы!
Дѣвочки быстро повставали съ колѣнъ. Николай тяжело поднялъ съ пола Александру. Онъ поднималъ ее медленно, постепенно, будто толстую баржу тащилъ за собой маленькій тощенькій буксиръ. Наслѣдникъ такъ и стоялъ на колѣняхъ. И головы не повелъ въ сторону Юровскаго.
«Экій гордецъ. Тяжело ему придется… смерть принимать».
Юровскій остановился напротивъ цесаревича и чуть не пнулъ его ногой.
— Гражданинъ Алексѣй Романовъ, встать, когда въ помѣщеніи комендантъ!
Алексѣй съ трудомъ всталъ и отряхнулъ колѣни. Молчалъ.
«Будто ждетъ удара. А Юровскій и ударить бы радъ».
— Всѣ здѣсь?!
— Всѣ, — Аликсъ сдѣлала книксенъ, не изъ вѣжливости: у нея подгибались ноги. — Дочери, сынъ. Мы.
Положила руку себѣ на грудь. Юровскій разсматривалъ кружева у нея на груди.
Ляминъ тоже косился.
«Чистенькія кружева. На насъ, солдатъ, стираетъ Пашка, въ подмогу себѣ беретъ мѣстныхъ бабъ, когда идетъ на Исеть. А на нихъ кто настирываетъ? Дѣвица Демидова?»
Ляминъ съ внезапной жалостью увидѣлъ: кожа на груди царицы — въ треугольномъ вырѣзѣ — сморщенная и висячая, будто слоновая, а кружева-то желтыя, съ грязнинкой по краямъ.
— Не вѣрю, — Юровскій приложилъ палецъ къ ноздрѣ, будто хотѣлъ высморкаться. — И слуги всѣ? Кого-то я точно недосчитываюсь.
Развернулся на каблукахъ, вышелъ за порогъ. И вдругъ опять вошелъ. Взялъ мальчика за подбородокъ. Царицыно оплывшее тѣло все пошло одной крупной волной, но она устояла, не ринулась защитить.
— Ты, ребенокъ, — раздѣльно, хорошо выговаривая всѣ согласные, сказалъ Юровскій. — Ты уже не ребенокъ. А ты знаешь, что бога нѣтъ? Вашего — бога — нѣтъ? А если онъ и былъ, то мы его уничтожили. На радость будущимъ поколѣніямъ.
Ляминъ глядѣлъ, какъ выступаютъ капли пота подъ коротко стриженными волосами Алексѣя. «А у него на носу веснушки. У Маріи тоже. И у этой ихъ… младшенькой…»
— Богъ… есть, — такъ же жестко, внятно, раздѣливъ пропастью ледяной паузы оба слова, отвѣтилъ цесаревичъ.
Юровскій засмѣялся. Смѣхъ залязгалъ въ полной тишинѣ.
— Ну, вѣрь, вѣрь. Вѣрьте всѣ!
Снова вышелъ. Не оборачиваясь, сказалъ, и голосъ ударился о стѣну въ полосатыхъ обояхъ:
— Пріятнаго аппетита.
Еще шагнулъ: одинъ, другой шагъ. Ляминъ снялъ фуражку и вытеръ потъ. На него цесаревичъ смотрѣлъ такъ пристально и прозрачно, всѣ потроха просвѣчивалъ, разглядывалъ внутри Лямина сердце, печень, легкія, селезенку. Юровскій шелъ по коридору. Цари смотрѣли ему вслѣдъ черезъ открытую дверь. Уже далеко отъ спальни Юровскій опять остановился, и теперь уже кинулъ черезъ плечо, черезъ воздухъ и духоту, какъ обсосанную кость — семи приблуднымъ собакамъ:
— И счастливо прогуляться.
…Юровскій ходилъ по дому и открывалъ каждую дверь. Если дверь была закрыта, приказывал найти и принести ключъ. Охранники бѣгали по коридору туда-сюда.
Цари шли въ столовую — завтракать. Старуха пріосанилась. Вела за руку сына. Онъ еле шелъ — нынче самъ шелъ; сильно хромалъ. Николай, блѣднѣе обычнаго, вздувалъ на скулахъ желваки. Его волосы, зачесанные на-бокъ, сивѣли и сѣдѣли день ото дня. Борода, цвѣта селедочныхъ молокъ, неряшливо топорщилась въ разныя стороны.
— Ники, у тебя отросла борода. Надо подстричь, darling.
— My Sunny, я подстригу. Сегодня же. Спасибо, что сказала.
— Ты совсѣмъ не смотришься въ зеркало.
— Я смотрю на иконы, любимая.
…Въ столовой разсѣлись, какъ всегда: царь и Александра Ѳедоровна рядомъ, два голубя; по правую руку отъ царя — Ольга, по лѣвую руку отъ царицы — Анастасія. Татьяна слѣва отъ младшей. Цесаревичъ справа отъ старшей. И праворучь отъ Алексѣя — Марія.
«Маша, Маша, что за каша? Приготовила мамаша. Маша, Маша, жизня наша — то ли щи, а то ли каша!» Онъ глупо напѣвалъ внутри себя нелѣпыя, дѣтскія, простыя слова. Слова время отъ времени приходили, наваливались и мучили его. А иногда радовали, но радость гостила недолго.
Кашу, овсяную и жидкую, разливала дѣвица Демидова. Въ бѣломъ фартукѣ, съ вѣчнымъ испуганнымъ выраженіемъ испитого лица. Будто ей исподтишка, изъ-подъ скатерти, взяли да и показали крупную длиннозубую крысу. И пообѣщали: тебѣ на голый животъ посадимъ, и тазомъ прикроемъ.
— Нюта, спасибо, мнѣ много! Я столько не съѣмъ.
— Съѣшьте, ваше величество.
— Нюточка, и мнѣ чуть-чуть.
— Ваше высочество, надо ѣсть кашку по утрамъ.
Демидова, разливая сопливую кашу, кажется, глотала слезы.
«Что они всѣ? Что нынче въ воздухѣ виситъ? Вѣрно, изъ-за Исети гроза идетъ. Чортъ, а птицы высоко летаютъ!»
— А гдѣ поваренокъ Леничка Сѣдневъ? Онъ всегда завтракаетъ и обѣдаетъ вмѣстѣ съ нами!
Цесаревичъ вспыхнулъ и поугрюмѣлъ.
— Его забрали отъ насъ. Онъ приходилъ ко мнѣ прощаться. Нынче, передъ завтракомъ.
Они всѣ слышали, какъ по всему дому открываютъ и закрываютъ двери. Гдѣ дверныя пружины были тугія — дверь рѣзко хлопала, издавая звукъ выстрѣла. Дѣвочки вздрагивали, а мальчикъ — нѣтъ. Онъ старательно ѣлъ кашу, съѣлъ, взялъ кусокъ ржаного, отломилъ корку и сталъ ею возить по тарелкѣ, собирая овсяную слизь. Затолкалъ корку въ ротъ и жевалъ, жевалъ. Потомъ сморщилъ ротъ и схватился за колѣно.
— Что, солнышко?!
Старуха выронила ложку, и она выпачкала кашею скатерть. Демидова вынула изъ кармана салфетку и быстро вытерла за царицей.
— Ни… чего, — кряхтя, пытался улыбнуться цесаревичъ, — просто… больно…
Марія наклонилась надъ ногами брата. Отогнула скатерть. Колѣно замѣтно, толсто выпирало изъ штанины.
— Мама, у него опять все опухло.
— О, donnerwetter!
Мать пощупала колѣно мальчика. Ея рука превратилась въ шелкъ, въ льющееся молоко еле сдерживаемой ласки.
— Милый, ты только не волнуйся.
— Я не волнуюсь. Я привыкъ. Я инвалидъ. Я все знаю.
— Ты не инвалидъ! Ты хорошій здоровый мальчикъ. Только ты пока долженъ немного поберечься. Слышишь?
Демидова унесла на кухню пустую кастрюлю.
— Мама, а почему съ нами сегодня не завтракаютъ солдаты?
Вопросъ Маріи повисъ въ жаркой пыльной пустотѣ. Всѣ молчали. Вытирали салфетками несытые, пустые рты.
— Мама! — Анастасія повысила голосъ, будто бы мать оглохла и не слышала ее. — А почему намъ сегодня не принесли яицъ? И молока?
Старуха сжимала пальцами ручку подстаканника. По пальцамъ, по запястьямъ бѣжали морщины, какъ мелкіе муравьи, сливаясь въ темныя дорожки.
— Ich weiß nicht, mein Schatz.
Дѣвица Демидова вошла въ столовую. Она держала передъ собой, какъ колючаго ежа, крынку. По выгибу крынки сверху внизъ сползала бѣлая капля. За Демидовой семенила маленькая, какъ дѣвочка или старушка, монахиня въ круглыхъ смѣшныхъ очкахъ съ плоскими стеклами. На одномъ стеклѣ очковъ сидѣлъ крошечный черный жукъ. Монахиня выпятила нижнюю губу и сдула жука съ линзы. Большая корзина оттягивала ей руку.
— Яйца! Яйца! — захлопала въ ладоши Татьяна. — И молоко! — Обернулась къ Анастасіи. — Что, съѣла!
— Сейчасъ съѣмъ, — нашлась сестра. Всѣ за столомъ захохотали. Перевели духъ.
— Благодарю, милая! — Царица обернулась къ монашкѣ и схватила ее за руку, и чуть не поцѣловала эту руку, и сама себя испугалась. — Молитесь тамъ за насъ!
— Ужъ молимся, ваше величество…
Царь заглянулъ въ корзину. Приподнялъ бѣлую бязь.
— Ого-го! Да тутъ яицъ на цѣлую роту! — Улыбнулся, зубы желто блеснули. — Давайте угостимъ охрану.
— Съ ума сошелъ! — Царица грудью легла на столъ и глядѣла на мужа, какъ на несмышленыша. — Это же все намъ принесли! Монахини тогда откажутся ихъ намъ носить! Простите, — она подняла обрюзглое лицо къ монашкѣ, — великодушно!
Монашка перекрестилась и поклонилась.
— Да развѣ я вольна васъ прощать, это вы можете прощать меня, а не я васъ.
— Папа, я хочу сырое яйцо! — весело крикнула Татьяна.
— Я тоже! — выкрикнула Анастасія.
— Всѣмъ раздайте по яйцу! — крикнулъ царь.
Ляминъ смотрѣлъ, какъ Демидова ходитъ вокругъ стола и кладетъ на скатерть яйца.
— Дѣти, вы можете разбить яйцо и взболтать его въ стаканѣ! — крикнула царица.
— А сколько еще осталось въ корзинѣ? — Ольга заглянула туда.
Марія сидѣла передъ своимъ яйцомъ и угрюмо смотрѣла на него. Потомъ стала крутить его на скатерти. Яйцо вращалось медленно, трудно.
— Намъ хватитъ на цѣлую недѣлю!
— Ну скажешь тоже…
— Мама, вели Нютѣ ихъ спрятать!
— Надо на холодъ, на жарѣ они протухнутъ…
— Молочко-то пейте, не жалѣйте, — тонко пропѣла монахиня, — я еще двѣ бутыли принесла!
Демидова пригладила и безъ того зализанные жирные волосы обѣими руками.
— Прошу всѣхъ подставить стаканы!
Дѣти подставляли пустые стаканы, и Демидова наливала въ нихъ молоко изъ крынки. Тугая струя перевивалась въ воздухѣ, бѣлизна отсвѣчивала небесной синью.
— Бываетъ молоко желтоватое, а бываетъ синеватое. А бываетъ розовое.
— Анастази, ты это серьезно?
— Дѣти, не препирайтесь, а пейте. Когда я ѣмъ, я глухъ и нѣмъ!
Они пили, припавъ губами къ стаканамъ.
Они пили, а Ляминъ глоталъ.
Онъ такъ давно не пилъ молока.
«Надо бы Пашкѣ сказать, пусть на рынокъ сходитъ. Я ей даже крынку пустую найду. Въ кладовой. Тамъ много вещей Ипатьева лежитъ. Тамъ даже есть корыто. И дѣтская ванночка. И три баташовскихъ самовара, съ клеймами, мѣдныхъ, позеленѣлыхъ. И крынки стоятъ, еще какія крѣпкія. Какъ пушечные снаряды. Въ трехдюймовку заложи — и выстрѣлитъ, и полетитъ. И еще цѣль поразитъ. Молока хочу! Молока!»
Слюни текли, какъ у пса. Анастасія первой выпила свой стаканъ и засмѣялась. Монашка погладила ее по головѣ.
— Допейте, ваше высочество, тутъ на донышкѣ осталось.
Цесаревичъ выпилъ молоко, съ трудомъ, морщась отъ боли, всталъ, сдвинулъ каблуки и четко, по-военному, сказалъ:
— Благодарю всѣхъ.
Демидова опрокинула крынку надъ стаканомъ младшенькой великой княжны.
Марія поймала ладонью едва не укатившееся по столу прочь яйцо. Одной рукой яйцо держала, какъ пойманную птичку, другой закрыла лицо.
##
Гуляли послѣ завтрака. Сходило съ ума небо. То ярко и плотно, празднично синѣло, то затягивалось сѣрыми лоскутами тучъ, то грохотало далекимъ громомъ и пылало зарницами, то, вновь очищаясь, улыбалось людямъ ясно и печально. Сто измѣненій. Сто лицъ природы. Такое они видѣли впервые. Лѣто! Красивое, вольное, свободное лѣто. Для кого-то. Для нихъ — безумная, глупая мечта за пеленой известковой метели.
Алеша, ты вѣдь чуть простуженъ, ты мѣрилъ температуру, все ли хорошо? О да, мама, все чудесно! Я вполнѣ здоровъ! Не вполнѣ, у тебя насморкъ. Надо закапать капли въ носъ. Тѣ, что докторъ Боткинъ прописалъ? Да, ихъ! И мы съ Ольгой сейчасъ тоже примемъ лѣкарство! Она тоже кашляетъ, и носъ у нея не въ порядкѣ!
Мама, не бойся, свѣжій воздухъ еще никому не повредилъ!
…Пришли домой. Сидѣли, читали.
Татьяна читала матери изъ Писанія. Нѣжный голосъ Таты усыплялъ, ворожилъ. Будто не изъ Библіи читала, а изъ оперы Чайковскаго арію пѣла.
— И пойдетъ царь ихъ въ плѣнъ, онъ и князья его вмѣстѣ съ нимъ, говоритъ Господь…
Царица смотрѣла не на предметы, не на стѣны, иконы и живыя лица — она смотрѣла внутрь себя.
И она видѣла внутри себя пустоту и ужасалась ей.
— Клялся Господь Богъ святостью Своею, что вотъ, придутъ на васъ дни, когда повлекутъ васъ крюками и остальныхъ вашихъ удами…
Прервалась. Прерывисто вздохнула.
— Мама, но это же очень страшно!
— Читай дальше.
Татьяна сжала виски пальцами. Наклонилась надъ книгой.
— Поэтому разумный безмолвствуетъ въ это время, ибо злое это время.
— Злое, злое, — шептала вдогонку царица, и сомкнутыя вѣки чугуномъ давили на больные глаза.
— Вотъ наступаютъ дни, говоритъ Господь Богъ, когда Я пошлю на землю голодъ, не голодъ хлѣба, не жажду воды, но жажду слышанія словъ Господнихъ. И будутъ ходить отъ моря до моря и скитаться отъ сѣвера къ востоку, ища слова Господня, и не найдутъ его…
Мать слышала, какъ дышитъ дочь. Слышала ея голосъ. Она сама родила ее, и всѣхъ остальныхъ четверыхъ; и вотъ они уже читаютъ Писаніе, и понимаютъ его, и знаютъ, что нѣтъ воли людской, а есть воля вышняя, и противъ нея нѣтъ ничего человечѣскаго.
— Но хотя бы ты, какъ орелъ, поднялся высоко и среди звѣздъ устроилъ гнѣздо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говоритъ Господь. Мама, а мы тоже орлы?
— Все, хватитъ, — рыдающая рука матери летѣла въ воздухѣ голубкой, — больше не могу…
Тата ловила родную руку и крѣпко, больно, даже зубы въ плоть вминая, цѣловала.
…Царь молился, стоя передъ кіотомъ жены. Безъ молитвослова: онъ много молитвъ зналъ на память. Дѣвушки слушали его голосъ, легкій, какъ щепка, которую крутитъ рѣчная волна. Марія встала рядомъ съ нимъ, неслышно повторяла древнія слова. Эта древность странно соединяла ихъ съ міромъ мертвыхъ и съ міромъ будущихъ живыхъ — тѣхъ, кто придетъ потомъ. За мѣдными, кимвальными звуками вставало торжественное, громадное время, его рѣчной, небесный ходъ. Непобѣдимый, мрачный, тяжелый. Свѣтлый и свѣтящійся, какъ ночами Млечный Путь надъ тайгой, надъ увалами.
Потомъ явился Юровскій, крикнулъ: «Разрѣшено еще разъ выйти на прогулку!» — и они, радостные, снова вышли во дворъ. Не всѣ — царь и дочери; мать и мальчикъ остались дома. У матери болѣла голова, она лежала въ кровати, и сынъ сидѣлъ рядомъ съ ней и держалъ ея тяжелую старую руку.
Что она говорила мальчику, когда они остались одни? Что она видѣла, закрывъ глаза, задравъ морщинистое лицо, подъ тяжестью бѣлаго мокраго полотенца, лежащаго на высокомъ царскомъ лбу? А вѣдь она видѣла. Горячія и соленыя рѣки текли черезъ землю ея лица. Моря глазъ покрывались льдомъ подъ холмами бровей. Водой и землей становилось ея лицо, землей и водой, — и она понимала, осознавала это превращенье себя, своей плоти въ ту безсмертную матерію, изъ нея же состоитъ земля; въ то, что мы топчемъ и во что ложимся, въ то, что мы пьемъ и ѣдимъ и чѣмъ молимся, и что ненавидимъ. Обратить это превращенье въ слова было невозможно, и она лежала и молчала, а сынъ чувствовалъ, что она куда-то уходитъ, гдѣ-то далеко отсюда идутъ ея старыя ноги, переходятъ невидимый и незыблемый мостъ. Мальчикъ сжималъ ея руку, и рука становилась то холодной, то горячей, и ему казалось — мать это полѣно, что горитъ и сгораетъ въ жестоко, мощно разогрѣтой печи, доверху, до самаго дымохода, полной сухихъ и нищихъ дровъ. Онъ все сжималъ и сжималъ эту руку, и она истончалась на глазахъ, усыхала, обездвиживалась, превращалась въ чистую ласку, въ прощальный жестъ, въ заоконный плывущій воздухъ. Эта рука перевязывала раненыхъ; перевязывала его больное колѣно; ставила ему на спину жгучіе, кусачіе горчичники; писала въ дневникѣ простыми и скупыми словами повѣсть ихъ жизни, ихъ семьи. Эта рука была сама — семья; ладонь — отецъ, кровь — мать, пять пальцевъ — они, дѣти.
И мальчикъ склонялся и цѣловалъ эту руку, не понимавшую, когда она умретъ, но твердо знавшую, что — нѣтъ, не умретъ. Ибо что такое тѣло? Сосудъ для горящаго масла, для вѣчной, подъ сводами, лампады? Но масло выгораетъ, и храмъ разрушаютъ, и новые завоеватели кричатъ: Бога нѣтъ! — и растаптываютъ святыню. А жизнь набѣгаетъ новой волной, и тѣ, кто убивалъ, сами стоятъ на колѣняхъ, и тѣ, кто умиралъ, летятъ живыми голубями и садятся на плечи тѣмъ, кто любитъ и вѣритъ снова.
Мама, что ты плачешь? Зачѣмъ ты плачешь опять? Пойдемъ погулять! Нѣтъ, милый дружокъ, я нынче не могу. Ты со мной, и мнѣ свѣтло. Я буду лежать и думать. О чемъ, мама? Да развѣ разскажешь? Обо всемъ. Обо всѣхъ васъ.
Онъ стиралъ ей слезы ладонями со щекъ, ловилъ ихъ концомъ обшитаго кружевомъ батистоваго шарфа. А ты-то, сынокъ, зачѣмъ плачешь? Я старая, у меня слезы рядомъ съ глазами, а ты-то что? Мама, мнѣ кажется, эти люди что-то новое знаютъ. Мнѣ снятся телеграммы, и что ихъ громко, вслухъ читаютъ, и читаютъ на непонятномъ языкѣ. Это даже не языкъ, это дикіе звуки. Такъ разговариваютъ звѣри. А можетъ, змѣи. Тебѣ снятся плохіе сны! Надо на ночь выпить чаю съ мятой. Я попрошу Прасковью заварить тебѣ чай съ мятой. Надѣюсь, она не откажетъ мнѣ, я попрошу ее сходить въ аптеку и купить мяты. Или собрать въ саду, если она тутъ растетъ. Мама, но вѣдь у насъ нѣтъ денегъ! У насъ есть наши жемчуга и золото, милый. Я подарю ей украшенье. Мама, за чай съ мятой ты хочешь отдать этому солдату въ юбкѣ нашу семейную реликвію? Я обойдусь безъ мяты! Сбереги наше царское золото! Ты мое золото. Мнѣ ничего для тебя не жалко. И потомъ, что такое жизнь, какъ не постоянная плата и расплата?
Теперь плакалъ онъ. Мальчикъ наклонялся надъ старухиной рукой и утыкался ей въ ладонь лицомъ, всѣмъ мокрымъ, щенячьимъ, больнымъ и свѣтлымъ, и мать гладила, гладила его другой рукой по нѣжной головенкѣ, все гладила и гладила, все утѣшала и утѣшала, когда и утѣшенье-то уже давно растаяло, когда время замерло, умерло и свилось въ послѣдній грубый, толстокожій свитокъ.
##
Слети къ намъ, тихій вечеръ!
Кто изъ нихъ пѣлъ и помнилъ эти слова?
Они просто сидѣли за столомъ и просто пили чай. Кто-то коряво пробрякалъ по клавишамъ рояля въ комендантской, будто по нимъ пробѣжалась хромая мышь. Все смолкло. Мышиная тишь снизошла на домъ, и въ этой тишинѣ они сначала говорили за столомъ черезчуръ громко, а потомъ стали эту тишь внимательно слушать. Потомъ царь, крупно и шумно отхлебнувъ изъ стакана, махнулъ рукой, будто отдалъ команду, и всѣмъ снова стало безпричинно весело.
— Мама, мамочка, мнѣ хочется пѣть!
— Настя, за трапезой не поютъ, ты же это знаешь.
Марія встала изъ-за стола, взяла съ чугунной подставки армейскій чайникъ и всѣмъ подлила кипятка.
Паръ вился надъ стаканами. Нагрѣвались подстаканники. Часы били въ гостиной: семь разъ.
— Мама, ты не узнала, почему утромъ забрали Леньку Сѣднева? И куда увезли?
Царица осторожно поставила стаканъ на столъ, держа его за выгнутую въ видѣ уха ручку подстаканника и чуть, по-купечески, отставивъ мизинецъ.
— Мнѣ никто не доложилъ.
— А ты спрашивала?
— Да.
— И что тебѣ отвѣтили? И кто?
— Комендантъ отвѣтилъ: не задавайте лишнихъ вопросовъ. Я и не задавала болѣе.
Докторъ Боткинъ подалъ голосъ изъ-за стакана, изъ-за клубящагося кучевымъ облакомъ пара:
— Солдатъ Ляминъ мнѣ объяснилъ. Онъ сказалъ: поваренка отпустили встрѣтиться съ дядей. Еще сказалъ: мальчикъ скоро къ намъ вернется. Я успокоился.
Докторъ сказалъ это совсѣмъ не спокойнымъ тономъ. Внутри его голоса гуляли гарь, дымъ и вѣтеръ.
Тата допила чай, поставила стаканъ, заправила волосы за уши и вдругъ спросила:
— А это только наша революція такая страшная, или всѣ революціи во всѣ времена были такими вотъ? Страшными, кровавыми? Жуткими?
Отецъ не повернулъ головы. Такъ и глядѣлъ прямо передъ собой.
Въ стѣну, оклеенную немодными, мрачными обоями.
— Милая, всѣ. Тутъ нѣтъ никакихъ исключеній. Это — правило.
— Папа, а что сейчасъ дѣлается въ Москвѣ?
Ихъ всѣхъ какъ прорвало.
— А въ Петроградѣ?
— А въ Царскомъ Селѣ?
— А въ Зимнемъ дворцѣ сейчасъ кто? Что?
— Милые, — царь сталъ глядѣть на каждаго, поочередно, растерянно, дико, — мнѣ давно не приносятъ газетъ…
— А Екатеринбургъ скоро возьмутъ наши войска? Скоро ли, нѣтъ ли?
— Выстрѣлы же все время! Канонада!
— А мы тутъ сидимъ.
— Можетъ, намъ и правда бѣжать?
Царица сжала руки надъ пустымъ стаканомъ.
— Если мы всѣ выбѣжимъ къ воротамъ и начнемъ въ нихъ ломиться, насъ разстрѣляютъ!
У Алексѣя и лицо, и шея стали красными.
— Но зато мы погибнемъ какъ герои!
Царь, напротивъ, весь бѣлый сидѣлъ.
— Ты мечтаешь о геройствѣ…
— Я уже ни о чемъ не мечтаю! Я просто знаю, что это — хорошо!
Царь протянулъ руку, положилъ на колѣно сыну, хотѣлъ сжать колѣно, да вспомнилъ — оно больное. И быстро, отчаянно убралъ руку, отдернулъ, какъ отъ куска раскаленной стали.
##
Что такое игра? Это средство отъ скуки.
Можно игрой излѣчиться отъ ноющей тоски.
Ноетъ и ноетъ подъ сердцемъ, и давитъ лобъ, но это не золотая тяжесть шапки Мономаха, это иное. Сѣрая, трудная тоска. Она какъ надоѣвшій гриппъ. Насморкъ хоть лѣчи, хоть не лѣчи, все равно онъ тебя одолѣетъ. А потомъ пройдетъ самъ собой. А тоска? Она — пройдетъ?
Вѣчная скука. У нихъ есть карты. Они переиграли уже во всѣ карточныя игры, что знали. Впору выдумывать новыя. И запатентовать изобрѣтенье.
Безикъ, вистъ, кингъ, белотъ, терцъ, преферансъ. Во что сегодня? Въ безикъ. Только мы одни, мы съ тобой. Дѣвочекъ зачѣмъ пріохочивать къ этой чепухѣ. Карты, любимый, вѣдь это же сущая чепуха, это для того чтобы убить время. Убить! Вѣрно сказано. Ну давай же его убивать.
Они раскладывали на столѣ карты и старались весело переговариваться, и весело смѣяться, и улыбаться, а потомъ, какъ по командѣ, вразъ замолкли. Оба. И просто клали на столъ карты, клали и клали. И перекидывали. И тасовали. И снова клали. Будто выполняли тяжелую и нудную работу, и она имъ надоѣла, а они все тасовали и тасовали, клали и клали, и вытаскивали карту изъ колоды, и опять перемѣшивали, пальцы двигались, а рты сжимались. Царица сжала ротъ въ тонкую нить. Она и въ молодости по-старчески поджимала его. За это выраженье лица ее не любили при дворѣ, называли вѣдьмой и злюкой. А вѣдь у нея были такіе ясные, небесные глаза!
Глаза не видѣли, видѣли губы. Строго поджатыя. Стиснутыя.
— Милая, ты устала?
— Я — выиграла.
Ровный блѣдный голосъ. Ровное дыханье.
Болитъ-ли у нея голова? Не жалуется. Хорошо, что не болитъ. Значитъ, спокойно отойдутъ ко сну.
Часы пробили десять. Звонъ плылъ по комнатамъ. Звонъ бывалъ разный: то бронзово-зеленый, холодный, то рыжій и веселый, какъ гребень пѣтуха, утренній, то чисто-серебряный, то церковный, малиновый, это по праздникамъ, особенно по двунадесятымъ — на Пасху, на Троицу, — а сегодня вечеромъ звонъ былъ мѣдный, красный, мрачный и густой, плылъ по Дому крѣпкимъ виномъ, запахомъ махорки. Мѣдный звонъ. Красная мѣдь. Хорошо слушать, не глядѣть.
— Десять, родная.
— Пора въ кровать.
Первой изъ-за стола встала царица. Потомъ царь. Охнулъ, улыбнулся.
— Что съ тобой?
— Колѣно болитъ. Не разогну.
— Какъ у нашего сыночка.
— А можетъ, это отъ меня передалось! У меня-то вѣдь давно болитъ!
Они оба никогда не говорили другъ съ другомъ о гемофиліи цесаревича.
Они дѣлали видъ, что это совсѣмъ другая болѣзнь.
…Раздѣвались медленно. Она — за ширмой. Онъ — почти беззвучно. Быстро, по-армейски. Аккуратно складывалъ на кресло брюки, гимнастерку. Ея платье съ шуршаньемъ падало на полъ. Она поднимала его и вѣшала на спинку стула. Кружевное бѣлье уже изношено. А новаго никто не купитъ; не сошьетъ.
— Милая. Я люблю тебя любую.
— Ты радость моя. И я тебя тоже. И навсегда.
Гдѣ это «навсегда» живетъ, они не знали, да и никто на землѣ не зналъ; люди, что взяли власть, тоже думали, что это навсегда.
##
…Двое стрѣлковъ, качаясь, подъ мухой, вошли въ чужой домъ. Не пьяные, а такъ, навеселѣ; а домъ-то рядомъ съ Домомъ, гдѣ стерегутъ ихъ, этихъ, гнидъ. Бойцы Столовъ и Проскуряковъ, а навстрѣчу имъ вышелъ начальникъ охраны Павелъ Ереминъ. Эгей! Павлушка! Какой я вамъ Павлушка, стоять, отдать честь какъ надо! Гнусь сучья, въ бога душу мать, вонъ отсюда, чтобы я ваши грязныя рожи не видалъ, давайте, шуруйте, вонъ, въ баню! Въ какую баню, командиръ? А вонъ — во дворѣ — срубъ! Туда бѣгите и сразу спать валитесь! И выдрыхнитесь, пьяныя собаки!
Ночь короткая, ночь звѣздная. Ясная. И тепло. Земля отдаетъ дневной жаръ.
Солдатъ Якимовъ, ты на посту? Такъ точно! Якимовъ, ты разводишь караулъ. Кто это отдаетъ команды? Темная ночь, скроетъ все. И голоса, и лица. Кто тамъ кричитъ въ ночи? Но кто-то вѣдь и шепчетъ. Постъ номеръ семь, встаетъ боецъ Дерябинъ! Постъ номеръ восемь, боецъ Клещевъ! Постъ номеръ три, боецъ Люкинъ! А ты, ты ступай спать. Ты развелъ всѣ посты, пора и отдохнуть.
Какой сейчасъ отдыхъ. Съ ума сойти. Только завалиться и захрапѣть. Какъ тѣ, пьяницы.
Отдыха нѣтъ. И не будетъ. Онъ будетъ только на томъ свѣтѣ. А тотъ свѣтъ — есть?
##
…Свѣтъ гаснетъ въ спальнѣ. Два тѣла ложатся въ общую постель и обнимаются.
Это не два тѣла, а двѣ души. И онѣ не только обнимаются — онѣ становятся другъ другомъ.
Такъ на землѣ бываетъ, только очень рѣдко; можно сказать, такъ почти не бываетъ, но съ кѣмъ-то особеннымъ, отмѣченнымъ и бываетъ именно такъ, а не по-другому, — и вся плоть тихо переливается въ душу, а вся душа начинаетъ биться, ритмично и больно, жарко и постоянно, однимъ сердцемъ, и это сердце понимаетъ: оно не навсегда, — и эта боль самая сильная, и эта радость — самая послѣдняя.
Двѣ души, онѣ уже на небѣ, не на землѣ. Встрѣтились и сразу узнали другъ друга. Обнялись и летятъ, и вспоминаютъ все, что съ ними на землѣ было. Ничего не забыли.
А когда-то давно они встрѣтились въ толпѣ и другъ друга не узнали; а потомъ, еще черезъ рѣки времени, опять увидѣлись, и тогда уже узнали. И въ будущемъ такъ будетъ.
Нѣтъ! Такъ не будетъ. Человѣкъ живетъ жизнь свою на землѣ только разъ. И жизнь у него одна, и смерть — одна.
Помолиться передъ сномъ. Обняться крѣпко, еще крѣпче. Дѣти уже спятъ. Мальчикъ не спитъ. Она чувствуетъ это. Она чувствуетъ его на любомъ разстояніи, впрочемъ, какъ ихъ всѣхъ; и какъ его, единственно любимаго.
Раньше, юными, они любили читать сказки о красивой любви. Они искали себя въ ихъ герояхъ. Они не понимали крови и смертей этой дьявольной революціи, вѣдь это все было не съ ними. Это все было давно, въ жестокихъ и темныхъ вѣкахъ. А они — не во времени; они летятъ въ ночи, крѣпко обнявшись, ослѣпнувъ отъ любви и печали, и они видятъ сердцемъ, и они обнимаются душами, и это одно, что у нихъ напослѣдокъ осталось.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
«Здравствуй, великій предводитель россійскаго пролетаріата, тов. Ленинъ. Знаешь ли ты, сидя въ своемъ гнѣздѣ, въ Московскомъ Кремлѣ, окруженный зубчатыми стѣнами, вѣдаетъ ли твое умное чело, какъ поживаетъ твой подвластный народъ. Знаешь ли ты, что говоритъ твой свободный народъ. Онъ говоритъ: Господи, доколѣ ты будешь немилосердъ за наши великія прегрѣшенія, смилуйся и помилуй. Онъ говоритъ: вотъ настало времечко, поневолѣ вспоминаешь старую власть, намъ при ней жилось хорошо, а теперь намъ дали свободу, да такую свободу: насъ называютъ свободными Гражданами, берутъ у насъ послѣднюю лошадь, корову, послѣдній кусокъ хлѣба, и ты ни слова не говори за свой потъ, за свои слезы, а если сказалъ — тутъ тебѣ и пуля въ лобъ и спроса нѣтъ, жаловаться некому. На сходку придешь — много не говори, держи языкъ за зубами, на то свобода.
Теперь мое слово къ тебѣ, кровожадный звѣрь. Ты вторгся въ ряды революціи и не далъ собраться Учредительному собранію. Ты обманулъ народъ, обѣщая ему полную свободу, землю. Ты говорилъ: долой тюрьмы, долой разстрѣлы, долой солдатство, пусть будутъ наемные, обезпеченные кругомъ. Ты обѣщалъ золотыя горы и райское житье, но гдѣ все это? Народъ почувствовалъ революцію, ему вздохнулось легко, ему разрѣшили собираться, говорить про что угодно, не боясь ничего. Но вотъ являешься ты, кровопійца. И что же? Ты отнялъ у народа свободу и теперь лицемѣришь подъ словомъ „свобода“ вмѣсто того, чтобы изъ тюремъ сдѣлать школы. Тюрьмы полны невинными жертвами. Вмѣсто того, чтобы запретить разстрѣлы, ты устроилъ терроръ, и десятки сотенъ народа безпощадно разстрѣливаются ежедневно. Ты остановилъ промышленность, этимъ сдѣлалъ рабочихъ голодными, разулъ и раздѣлъ народъ, запретилъ вольную торговлю, и народъ сидитъ безъ всего, сидитъ безъ рубашки, безъ сапогъ. Нѣтъ гвоздя, нѣтъ желѣза. Изъ чего сдѣлать плугъ? Опять же нужно колесо. Нѣтъ дровъ, керосина, нѣтъ всего. Помни, что ты отнялъ свободу у народа и пьешь кровь — послѣднія капли, что остались отъ четырехлѣтней войны. Ты любализуешь войска, но помни, что ни одинъ любализованный солдатъ нейдетъ добровольно — его заставляетъ итти пуля наемнаго каторжанина-красноармейца.
Но часъ расправы близокъ. Народъ тайкомъ готовитъ свое оружіе и съ нетерпѣніемъ ждетъ бѣлыхъ, чтобъ вмѣстѣ съ ними вѣшать всѣхъ кровопійцъ совѣтской власти.
Крѣпись, исчадіе ада, тебя проклинаетъ весь народъ.
Твой красноармейскій доброволецъ, записавшійся ради куска хлѣба.
Долой самозванцевъ!
Да здравствуетъ президентъ, да здравствуетъ свободная Россія! Да здравствуетъ Америка и Вилсонъ!»
Письмо красноармейца В. И. Ленину. Провинція. 25 декабря 1918 года
— Начальникъ охраны Павелъ Ереминъ!
— Я.
— Отобрать у всѣхъ, у кого имѣются, револьверы системы «наганъ»!
— Есть отобрать.
Ереминъ двинулся выполнять приказъ.
Онъ его выполнилъ.
Револьверы онъ собиралъ въ большой кожаный ягдташъ.
Притащилъ ихъ въ комендантскую. Юровскій, поднявъ плечи, будто мерзъ, стоялъ около рояля. На немъ была неизмѣнная тужурка, застегнутая на всѣ до единой пуговицы.
— Холодно, — поежился Юровскій, — на улицѣ пятнадцать градусовъ.
— А развѣ это холодно? — удивился Ереминъ.
— Давай сюда наганы.
Юровскій указалъ на письменный столъ.
— Но тутъ же документы! Какъ бы не попортить, товарищъ комендантъ.
— Тогда давай сюда.
Кивнулъ на рояль.
Господская игрушка, музыкальная забава. Тоже попортитъ, но кто объ этомъ теперь думаетъ! Пальчики великихъ княжонъ не будутъ бѣгать по чернымъ, бѣлымъ этимъ костяшкамъ.
— Павелъ. Ты все понялъ?
— Да. Все.
Ереминъ стоялъ — мрачнѣе только туча грозовая.
— Сегодня!
— Я понялъ.
— Сейчасъ! Скоро!
— Всѣхъ?
Голосъ Еремина желѣзомъ царапнулъ по лицу, по груди Юровскаго.
— Да. Всѣхъ! Всю семью.
— А докторъ? Слуги?
— Всѣхъ, я сказалъ.
— Понялъ.
— Пойди предупреди солдатъ, чтобы не паниковали, когда выстрѣлы раздадутся.
— Сказать, что будемъ разстрѣливать?
— Сказать, что это мы, мы будемъ стрѣлять. Охранникъ Стрекотинъ на посту?
— Такъ точно.
— Стрекотина — ко мнѣ!
Ереминъ отлучился. Привелъ Стрекотина. Юровскій кинулъ на приведеннаго быстрый взглядъ.
— Ты вѣдь пулеметчикъ.
— Такъ точно, товарищъ комендантъ.
— Ты все помнишь, о чемъ я тебѣ говорилъ?
— Такъ точно.
— Твой пулеметъ гдѣ?
— На окнѣ стоитъ. Я при немъ.
— Молодецъ. Ступай.
…Пулеметъ излучалъ холодъ. Андрей Стрекотинъ стоялъ рядомъ съ пулеметомъ навытяжку, какъ на парадѣ. Напряженно слушалъ звуки Дома. Разные звуки, то хилые и слабые, то рѣзкіе и страшные. Онъ не могъ сложить звуки воедино, кубики звуковъ распадались, и со дна мѣшанины звуковъ вдругъ поднялись и совсѣмъ рядомъ раздались шаги. Человѣкъ быстро сбѣгалъ по лѣстницѣ. Въ рукѣ зажатъ револьверъ.
Ереминъ подбѣжалъ къ Стрекотину и всунулъ ему револьверъ въ потную ладонь.
— Наганъ? Зачѣмъ? У меня жъ пулеметъ.
Стрекотинъ заглянулъ въ лицо Еремину. Зачѣмъ онъ это сдѣлалъ!
— Разстрѣлъ… скоро.
Повернулся. Ушелъ. Стрекотинъ ошалѣло глядѣлъ Еремину вослѣдъ.
Быстро положилъ револьверъ на подоконникъ. Пристально, долго на него смотрѣлъ.
Положилъ руку на пулеметъ. Потомъ другую. Обѣими руками обнималъ пулеметъ, какъ женщину.
Опять топотъ по лѣстницѣ. Еще идутъ. Ереминъ, Медвѣдевъ и съ ними Никулинъ. И Ляминъ. И за ними — люди. Высокіе, широкоплечіе, сивые. Съ холодными лицами. Среди нихъ — такой же холоднолицый, да только малорослый. Сивыя пряди лѣзутъ на глаза изъ-подъ фуражки. Межъ собой говорятъ по-чужому.
Стрекотинъ считаетъ людей: пять, шесть, семь, восемь. Никулинъ отворяетъ дверь комнаты, около которой Стрекотинъ обнимаетъ пулеметъ. Комната, что въ ней? Пустая. Латыши, Ереминъ, Никулинъ, Ляминъ и Медвѣдевъ входятъ въ нее и плотно закрываютъ дверь за собой. Стой, сиротливый Стрекотинъ, обнимай пулеметъ. У каждаго этого сиваго коня въ рукѣ — наганъ.
Облизнуть сухія губы. Водки бы выпить!
Не водки — воды. Цѣлый жбанъ.
Пить и пить, пока не лопнешь.
Дверь наверху хлопнула, а Стрекотинъ такъ вздрогнулъ, будто — въ него выстрѣлили.
…Латыши осматривались въ подвальной комнатѣ. Мало мѣста. Наползаютъ другъ на дружку стѣны. Громъ сапогъ поутихъ. Кто-то сѣлъ на полъ. Курить тутъ комендантъ запретилъ.
У всѣхъ латышей были имена: Янъ, Витольдъ, Генрихъ и еще такія же заковыристыя для русскаго слуха; и они окликали другъ друга по именамъ. Лишь одного почему-то кликали прозвищемъ, по-русски: Латышъ.
Всѣ рослые, а этотъ плюгавый. Недорослый, и слишкомъ тощій. Такая тощая маленькая собака, до старости щенокъ. Шея вытянутая и хрупкая, какъ у дѣвчонки. А руки неожиданно, устрашающе большія и сильныя. Такія руки — быка задушатъ. Зло просвѣчивало во всемъ его остромъ, испитомъ лицѣ, въ сивыхъ жирныхъ прядяхъ, торчащихъ изъ-подъ обода фуражки; онъ наводилъ неясный страхъ. Бѣлыя пряди, будто сѣдыя. А можетъ, и посѣдѣлъ; мудрено, видя столько смертей и самому убивая, остаться молодымъ и веселымъ.
Бѣловолосый, четкій, жесткій. Рослые — къ нему, малявкѣ, оборачивались и передъ нимъ вытягивались, какъ передъ командиромъ.
Латыши перекинулись парой словъ и замолчали. Револьверы нагіе, у нихъ въ рукахъ. Только у Латыша на боку, въ кобурѣ. Огромныя руки стащили съ головы фуражку, растерли шею и пригладили, прилизали бѣлые спутанные волосенки.
Латышъ обвелъ всѣхъ бѣлыми глазами. Улыбнулся щербато. Длинные зубы, длинные и рѣзцы, и клыки. Веснушки на птичьемъ носу-клювѣ собрались въ грязный комокъ.
— Что примолкли? Боитесь?
Стрѣлокъ, сидѣвшій на полу, покачалъ головой.
— Развѣ можно такъ спрашивать. Глупый ты.
— А я никогда и не былъ умнымъ, — блеснулъ глазами Латышъ.
Такъ въ забоѣ мигаетъ свѣтъ шахтерскаго фонаря.
— Какая пустая комната! — воскликнулъ молодой латышъ, держа наганъ на раскрытой ладони, какъ мертвую черную птицу. — Всѣ вещи, что ли, отсюда вынесли?
Сидящій стрѣлокъ разсматривалъ револьверъ у себя въ рукахъ.
— Хорошее оружіе. Какъ у насъ его много! Мы побѣдимъ.
Латышъ усмѣхнулся, а сидящій отвернулся, чтобы не видѣть его усмѣшку.
— Ты въ этомъ увѣренъ, Робертъ?
— Вотъ разстрѣляемъ сейчасъ русскихъ владыкъ, и все какъ по маслу пойдетъ.
Латышъ прищурился.
— Какъ по маслу? А масло не прогоркло?
— Что за разговоры, — вмѣшался длинный, журавлемъ стоявшій на смѣшно вытянутыхъ ногахъ, до потолка головой достающій чекистъ. — Не сѣйтѣ въ публикѣ панику.
Хрипло засмѣялся.
— Эхъ, жаль, нельзя курить.
— Въ публикѣ? Въ палачахъ, ты хочешь сказать?
Молчаніе обхватило всѣхъ крѣпко, какъ послѣ разлуки. Губы на крючокъ, зубы на замокъ.
И молчали, темно и страшно, уже всѣ: и Латышъ, и Робертъ, и длинный журавль, и всѣ эти рослые крѣпкіе люди, заброшенные въ чужую страну, большую и странную, для того, чтобы ее ненавидѣть, вспахать, убить и перекроить.
И чтобы никто никогда не узналъ, что тутъ была Россія; это будетъ иное государство, съ иной властью и иными, лучшими и чистѣйшими, людьми.
А можетъ, власть будетъ другая, а люди все тѣ же: подлецы, предатели.
…Старуха приподнялась на локтѣ и нѣжно смотрѣла на лицо спящаго мужа. Онъ спалъ крѣпко и сладко. Быстро засыпалъ, какъ всегда, а если разбудить — по-военному быстро открывалъ глаза и стремглавъ вскакивалъ съ постели. И первымъ крикомъ всегда было: «Солнце мое! Ну что, проспали? Съ добрымъ утромъ!»
До утра далеко.
И далеко, очень далеко отсюда стрѣляютъ; это артиллерія. Скорѣе бы. Скорѣй.
Легла навзничь на тощую подушку, а сонъ не шелъ. Можетъ, и не придетъ сегодня. У нея часто безсонница.
За слѣпымъ стекломъ окна затарахтѣла машина. Тяжелый грохотъ; видать, грузовая. Можетъ, это имъ дрова привезли? Лѣто уральское странное, то жара, то холода, а вѣдь осень грядетъ. Черезъ мѣсяцъ-полтора здѣсь, говорятъ, уже первые заморозки.
Сердце билось ровно, но странныя боли вотъ здѣсь, въ подреберьѣ. Какъ докторъ Боткинъ говоритъ: шалитъ верхушка. Почему верхушка у сердца — внизу? Когда она сдавала экзамены на сестру милосердія, она досконально изучила книгу Дмитрія Зернова «Анатомія человѣка». Она все прекрасно помнила: правое предсердіе, лѣвое, правый и лѣвый желудочки. Желудочковая аритмія самая опасная. Фибрилляція предсердій — съ ней еще можно жить. Но, какъ смѣшно говоритъ ея Ники, мужланъ и солдафонъ, хрѣнъ рѣдьки не слаще.
Улыбка сморщила губы. Милый! Какъ онъ спитъ. Какъ сынъ на него похожъ.
Легкія, лепестки въ тысячѣ кровавыхъ пузырьковъ, полные воздухомъ. Трубка трахеи, бальные роскошные вѣера бронховъ. Бронхитъ — это вылѣчивается, а бронхоаденитъ — не всегда. Она перевернулась на животъ. Постель грѣла слишкомъ сильно и странно, она лежала какъ на угляхъ. Опять легла на спину. Пружины трещали. Суставы, сочлененія костей, двуглавая мышца бедра, бицепсы и трицепсы. Любимый такъ прекрасно всегда занимался гимнастикой. Ему изъ Лондона братецъ Георгъ присылалъ списокъ упражненій съ рисунками. И онъ повторялъ рисунки точь-въ-точь. Мышцы подъ любимой кожей! Какъ она покрывала ихъ поцѣлуями, всѣ, всюду, эти ноги, руки, эту сильную, загорѣлую на сѣверныхъ вѣтрахъ спину.
Да, что у человѣка внутри? Гдѣ прячется душа? Гдѣ она живетъ, маленькая, милая, жалкая?
Она большая, она размѣромъ съ небо; просто она вмѣщается въ насъ, а тѣ, въ комъ она внезапно умираетъ, не могутъ ее отыскать. И превращаются въ вурдалаковъ.
Кожа и кости, нервы и мясо. Раненые въ ея госпиталяхъ, какъ стонали они на койкахъ своихъ. И она подходила и клала имъ руку на лобъ, и они просили ее: вотъ такъ подержи, сестричка. Сестричка! Они не знали, что она — царица. И ей было все равно. Ей даже радостно было, что они этого не знали. Не все человѣку надо знать. Вотъ никто не знаетъ часа своего; и это правильно.
Забинтовать рану. Наложить сначала марлю, пропитанную спиртовымъ растворомъ, потомъ вату, потомъ обмотать стерильнымъ бинтомъ. Витки бинта ложатся, эта бѣлая живая спираль вьется, успокаиваетъ. Это какъ гипнозъ. Больной вѣритъ, что онъ выздоровѣетъ; а ты вѣришь въ то, что вылѣчишь его.
А ты помнишь, какъ они умирали? Въ тѣхъ твоихъ палатахъ безсонныхъ, слишкомъ чистыхъ, тобой же и вымытыхъ, — помнишь?
Стонали. Выгибались. Кусали, рвали зубами простыни. Орали, не стерпя мученій. Хрипѣли. Отходили. Ты садилась къ изголовью, брала уже покрытыя липкимъ чужимъ потомъ руки, отирала мокрые виски. Шептала: да приметъ Господь съ миромъ чистую, безгрѣшную душу твою. Ты сама имъ грѣхи отпускала. Священникъ уже не успѣвалъ, да и не успѣлъ бы. Эти смерти приходили внезапно, ихъ нельзя было услѣдить, разсчитать. И ты была одна за всѣхъ. За батюшку. За врача. За сидѣлку. За мать, — ее умирающій звалъ искусаннымъ, вспухшимъ, запекшимся ртомъ.
Мама! Мама! Ты гдѣ! Мнѣ больно!
Я тутъ, шептала ты, я тутъ.
И наклонялась, и цѣловала умирающаго бойца такъ, какъ цѣловала живого, любимаго Ники.
Ники, прости мнѣ! Я ихъ всѣхъ цѣловала. Но я же цѣловала ихъ души! Предсердія и желудочки упускали ритмъ, а душа-то жила, и она все видѣла и радовалась: вотъ онъ, послѣдній поцѣлуй, послѣдняя чистая любовь.
А ей кто-то дастъ такой послѣдій поцѣлуй, когда она будетъ умирать? Кто? Ники? Дѣти?
Нельзя объ этомъ думать. Воображать, гдѣ и какъ ты умрешь. Это запрещено. Verboten.
Мужъ простоналъ во снѣ. Она провела ладонью по его лбу. Боже, и онъ вспотѣлъ. Кто такъ щедро натопилъ печь? Теперь, лѣтомъ? Эта кухонная баба, Прасковья? Но почему ее вдругъ трясетъ, будто въ лихорадкѣ, въ инфлуэнцѣ, и больно и трудно глотать, и бѣжитъ къ ней ея вѣчная мигрень, вотъ она, боль, рядомъ, и дня безъ нея не прожила, соскучилась!
Старуха положила руку себѣ на лобъ. Закрыла глаза. Мы не знаемъ, отчего глаза видятъ, а уши слышатъ; тѣло — такая же загадка, какъ и душа, и жизнь — загадка, и время — загадка. Что тамъ будетъ съ нами послѣ смерти? Господи, Ты одинъ о томъ знаешь.
Опять грозно зарычалъ моторъ и смолкъ. Во дворѣ не спали. Ну, у нихъ, у охранныхъ, свое хозяйство. Они ихъ, убивая и мучая, берегутъ. Это такъ трудно совмѣстить.
…Ермаковъ, со всклокоченными адскими волосами и взглядомъ обезумѣвшаго отъ одиночества филина, глядѣлъ сквозь стекло кабины грузовика. Подъѣхали къ Дому. Окна горятъ въ первомъ этажѣ. Во второмъ — темень, спятъ.
— Кто идетъ! — задавленно крикнулъ у воротъ караульный.
Ермаковъ грубо распахнулъ дверцу.
— Трубочистъ!
Караульный загремѣлъ цѣпями и задвижками и открылъ ворота.
— Въѣзжай!
Шоферъ подрулилъ къ темной стѣнѣ, моторъ всталъ.
— Выходи, — сказалъ Ермаковъ шоферу тихо и жестко, — иди прочь и не оглядывайся.
Шоферъ, смѣривъ Ермакова потрясеннымъ взглядомъ, вывалился изъ кабины, какъ куль съ мякиной. Потрусилъ къ воротамъ. Исчезъ за ними.
Ермаковъ выпрыгнулъ изъ кабины и подошелъ къ кузову.
— Эй ты! — Задралъ патлатую башку. — Кудринъ! Ты тутъ живъ или нѣтъ!
— Живъ.
Черезъ бортъ кузова перекинулъ ногу человѣкъ. Ловко спрыгнулъ на землю, присѣлъ, спружинивъ ногами.
— Вотъ онъ я.
— Какъ настроеніе?
Ермаковъ жегъ Кудрина зрачками.
— Боевое. Какое жъ еще.
— Это славно. У меня тоже!
Оба вразъ хлопнули другъ друга по плечамъ.
— Сегодня великая ночь. О ней потомъ напишутъ въ учебникахъ исторіи. Наши дѣти и внуки будутъ про эту ночь читать. А мы съ тобой, ха, ее дѣлаемъ. Вотъ этими руками.
— Да. Этими.
Кудринъ поглядѣлъ на свои руки. Руки какъ руки. Плоскія живыя лопаты.
— Чуръ, царь мой, — сказалъ Ермаковъ.
Воздухъ со свистомъ выходилъ сквозь его зубы и ощеренный ротъ.