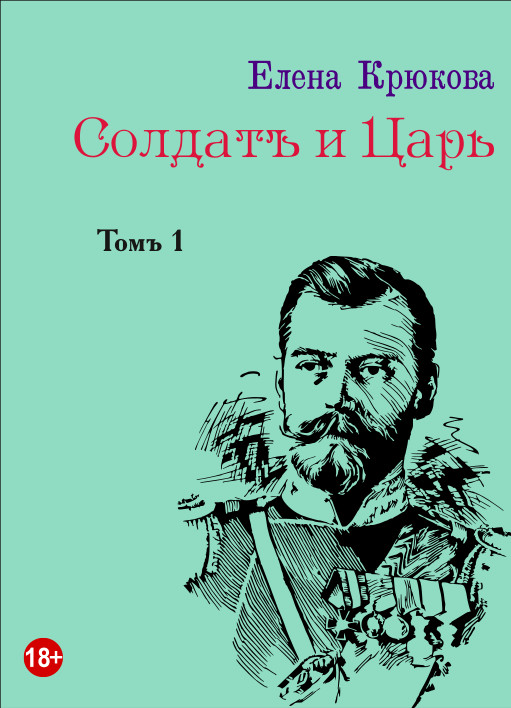Добавлено в закладки: 0
СОЛДАТЪ И ЦАРЬ
томъ первый
Переводъ текста въ до-реформенную орѳографію
выполненъ Вячеславомъ Мясниковымъ
ПРЕЛЮДІЯ. ВСЕ РАВНО
Чѣмъ больше я живу, тѣмъ яснѣе вижу: земля пульсируетъ кровью, какъ человѣчье тѣло.
Если она долго живетъ безъ войны или революціи — она сама себѣ дѣлаетъ кровопусканіе, будто эта грубо, щедро льющаяся кровь можетъ ее очистить отъ грязи. Выливаясь изъ ея чернаго разрубленнаго тѣла, омыть все, что гніетъ и смердитъ.
Но это иллюзія. Такъ мы говоримъ, чтобы себя утѣшить.
Въ смерти нѣтъ ничего высокаго. Она ждетъ всѣхъ, и меня тоже. Говорятъ: революція прекрасна, она вдыхаетъ въ народъ новыя силы! И онъ бѣжитъ къ яркому свѣту будущаго!
…На свѣтъ полыхающаго страшнаго зарева бѣжитъ онъ, народъ.
…Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моихъ прабабки и прадѣда, а всего дѣтей родилось одиннадцать. Я ловила, какъ котенокъ, клубокъ изъ ея корзины, у ея толстыхъ мощныхъ ногъ, когда она вязала. Или шила — на старой ножной швейной машинкѣ. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла изъ-подъ руки.
…Сейчасъ думаю: это ползло, падало на полъ — время.
Баба Наташа держала въ зубахъ нитки, иголки. Когда вязала — и спицы, какъ собака палку. Я смѣялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мнѣ и говорила. Разсказъ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертѣла въ пальцахъ перламутровую пуговицу отъ стараго бабушкинаго сарафана.
Бабушка разсказывала о прадѣдѣ Павлѣ, а потомъ еще объ одномъ человѣкѣ, его другѣ. Звучало это примѣрно такъ, не берусь возсоздать все точнехонько:
— Твой прадѣдушка Павелъ намъ этотъ домъ построилъ. Вѣрнѣй, перестроилъ, изъ ветхаго старья. Плотникъ былъ отмѣнный. Топоръ танцовалъ въ его рукахъ. А ужъ настрадался онъ въ жизни! Гдѣ только ни мучили его. Въ особомъ лагерѣ на Новой-Землѣ — отсидѣлъ пятнадцать лѣтъ. До этого — Соловки. До Соловковъ — Уссурійскъ. До Уссурійска — поселеніе, Минусинская котловина. Тамъ у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска…
Баба Наташа опять зажимала въ губахъ спицу. Металлъ тонко блестѣлъ, я торопила разсказъ: а дальше?
— До Минусинска… былъ Омскъ… а до Омска — Екатеринбургъ, теперь Свердловскъ… тамъ онъ горячаго хлебнулъ… а до Свердловска — Тобольскъ… А въ Тобольскъ отецъ прямо съ войны попалъ, изъ окоповъ… А на войну — изъ Новаго нашего Буяна взяли…
Я отматывала, вмѣстѣ съ бабушкой, клубокъ времени назадъ. Разматывала время.
…Только сейчасъ размотала — а вѣтеръ уже разметалъ клочья шерсти, порванныя нити.
И вотъ наступило странное и важное время — связать всѣ эти гнилыя, истлѣвшія, летающія по сѣрому вѣтру нити. Нѣчто важное, вѣрное разсказать. Для кого важное? Для меня самой? Или для тѣхъ, кто будетъ это читать и думать надъ этимъ?
Время — вѣтеръ, оно выдуваетъ непрошеныя мысли. Люди привыкаютъ не думать въ тишинѣ, а только работать, дѣлать. Имъ кажется — важныя дѣла. Или отдыхать, наслаждаться.
Почему «хлебнулъ горячаго» въ Свердловскѣ? Почему у этого города два имени? Горячее — это страшное, я догадалась тогда.
Много позже я узнала, уже со словъ моей матери: прадѣдъ Павелъ Еѳимычъ, красноармеецъ, служилъ въ отрядѣ, который сторожилъ послѣднюю царскую семью въ Ипатьевскомъ домѣ въ Екатеринбургѣ.
Уже нѣтъ того дома: сломалъ товарищъ Ельцинъ. Или господинъ Ельцинъ, какъ угодно. Нашъ первый президентъ. Я съ замираніемъ сердца спрашивала маму: а правда, прадѣдушка Павелъ разстрѣлялъ царя? Мать прижимала палецъ къ губамъ. Такъ же, какъ бабушка, она всегда шила — на ручной швейной машинкѣ «Подольская», черной, чугунной, съ золотой вязью по гладкимъ женскимъ бокамъ. И все такъ же ползла изъ-подъ руки, со стола на полъ, разнообразная ткань.
Палецъ, прижатый къ губамъ, говорилъ безъ словъ: говорить нельзя. Запрещено.
Мама, глазной врачъ, рано надѣла очки. Сапожникъ безъ сапогъ. Толстыя стекла непомѣрно увеличивали глаза. Мы, дѣвчонки, такихъ лупоглазыхъ царицъ рисовали чернилами на школьныхъ промокашкахъ. Она стала портнихой по наслѣдству, домашней, только для семьи. Шить она умѣла все — отъ пальто и шубы до дѣтской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.
Однажды ночью я услышала, какъ она плачетъ. Осторожно ступая босыми ногами, вышла въ большую комнату — мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцѣпилась въ чугунную плаху «Подольской», лобъ лежалъ на рукахъ, она всхлипывала. Толстыя очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.
«Мама, что ты плачешь?» — спросила я тогда робко. Я не умѣла утѣшать, стѣснялась. Меня ласкали и любили, а я не умѣла ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потомъ погладила мнѣ шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.
«Дѣда вспомнила. Какъ онъ насъ всѣхъ, сестеръ, любилъ. Меня звалъ Нинусикъ. Томочку — Тамочка. Валю — Валеночекъ. А ты знаешь, доченька, вѣдь онъ царскую семью разстрѣлялъ. И на всю жизнь это запомнилъ. А все равно его по лагерямъ затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради совѣтской власти онъ невинныхъ людей убилъ».
Какъ это невинныхъ, думала я смятенно, вѣдь проклятые цари мучили народъ, стрѣляли въ него, издѣвались надъ нимъ! Надо было обязательно ихъ убить!
Насъ такъ учили въ школѣ. Я не знала другой правды, да и не было ея.
Я стояла, слушала мать, водила пальцемъ по золотымъ вензелямъ на черномъ чугунномъ боку швейной машинки. Машинка напоминала мнѣ черную тяжелую корову. А на корову кто-то накинулъ попону съ золотыми, царскими узорами.
«А когда его увозили на подводѣ изъ Буяна на поселеніе — онъ такъ всѣхъ насъ обнималъ! И плакалъ, и кричалъ: я еще вернусь, вернусь!»
Мать крѣпко вытерла лицо падающей на полъ матеріей. Потомъ она начала, среди ночи, шопотомъ разсказывать мнѣ про молодого прадѣда Павла. «Остались снимки… тамъ онъ такой красивый… и дѣтокъ красивыхъ нарожалъ отъ Насти, да и она была хороша, полька… А про царей онъ намъ разсказывалъ, сажалъ насъ на колѣни и губы мнѣ къ уху прижималъ, — губами щекоталъ… Говорилъ: цари были такіе тихіе. Смирные… Дочери — хорошенькія. Особенно ему нравилась Марія… Онъ всѣ ихъ имена помнилъ, а мы — путали… А потомъ обнималъ насъ и плакалъ. Мы его спрашиваемъ: ты что, дѣда, плачешь? Тогда онъ смѣялся черезъ силу и кивалъ: правильно, солдаты не плачутъ!»
Солдаты. Такъ я и представляла прадѣда Павла — то плотника съ топоромъ въ рукахъ, то солдата — съ винтовкой за спиной.
Онъ стоитъ, винтовка за плечомъ, закуриваетъ махорку, а его окружаютъ солдаты, друзья, толпятся.
…Потомъ всѣ эти солдаты стали приходить ко мнѣ во снѣ.
Именно солдаты, а не цари, хотя правильнѣй было бы, если бы дѣвочкѣ, по дѣвчачьему чину, снилась царская семья, гордая царица и царевны въ кружевныхъ платьицахъ. И бородатый важный царь.
Я потомъ увидала въ книгахъ фотографіи царя — въ военной формѣ; онъ тоже былъ солдатъ. Для меня тогда не было разницы между офицеромъ и солдатомъ. Всѣ они въ гимнастеркахъ, и у всѣхъ суровыя военныя лица. Брови хмурятся. Только одни солдаты дѣлаютъ революцію, а другіе на нихъ нападаютъ, чтобы красную, прекрасную революцію убить.
А потомъ тѣ и другіе объединяются и однажды защищаютъ нашу Родину отъ страшнаго чужого врага.
Когда Гитлеръ напалъ на Совѣтскій Союзъ, прадѣдъ Павелъ отбывалъ срокъ въ особомъ тайномъ лагерѣ на Новой-Землѣ. Сейчасъ есть мнѣніе, что никакихъ такихъ лагерей на Новой-Землѣ не было, ни на островѣ Вайгачъ, ни на островѣ Колгуевъ. И что все это сочиненія досужихъ репрессированныхъ, желающихъ, чтобы какъ можно больше было въ прошломъ секретнаго дикаго страданія. Однако мой прадѣдъ Павелъ тамъ, въ новоземельскомъ лагерѣ, доподлинно сидѣлъ.
Всю войну съ фашистомъ они просидѣли тамъ, на мертвомъ Сѣверѣ, гдѣ бѣлые льды и красные жуткіе закаты. Гдѣ медленно колыхается, варится сѣрое ледяное олово моря. Они шили для Совѣтской Арміи тулупы и валяли валенки. Валеночки…
И убили Павла Еѳимыча, прадѣда моего, при попыткѣ побѣга. Бѣжалъ вмѣстѣ съ другомъ. Сухарей тайкомъ насушили, хранили подъ старой лодкой. Этому самому другу бѣжать удалось, а Павла подстрѣлили. Часовой, съ вышки, стрѣлялъ мѣтко. Другъ снялъ у Павла съ груди темный, позеленѣлый крестъ. На себя надѣлъ. Съ двумя крестами шелъ. Добрался до Волги, до Костромы. На баржѣ плылъ, милости ради. Донесъ до Самары. Отдалъ дочкѣ, Натальѣ Павловнѣ.
Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидѣлъ на кухнѣ… столы газетами покрыли… какъ разъ постъ, пирожки съ картошкой матушка испекла… Крестъ у меня на ладони лежалъ, я его слезами обливала… А этотъ человѣкъ, царствіе ему небесное, до насъ добрался, какъ хорошо, послѣднюю вѣсточку принесъ…»
И хорошо, ясно помнила я — на шеѣ у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжелый мѣдный крестъ, слишкомъ тяжелый и большой, неженскій. Такіе натѣльные кресты носили служилые и торговые люди, солдаты, крестьяне. Мужики. Я залѣзала къ бабушкѣ на колѣни и трогала этотъ крестъ пальцемъ. Онъ не холодилъ палецъ, а странно обжигалъ.
Сейчасъ думаю: вотъ онъ носилъ крестъ, Павелъ Еѳимычъ. Въ Бога — вѣрилъ. Тогда всѣ вѣрили. Нельзя было иначе. И все же поднялъ руку на царей. На своихъ царей.
…нѣтъ, не поднялъ… не стрѣлялъ…
…сейчасъ ужъ не встанетъ изъ могилы и не разскажетъ, какъ оно все было.
…Да тогда они уже не своими были, цари-то. Они уже были чужаками въ помѣнявшей одежду странѣ.
Новое платье Россіи сшили, красное.
Стрекотала швейная машинка.
Текла красная ткань изъ-подъ грубыхъ родныхъ рукъ.
Кровь родная, люди родные, — а цари чужіе.
Нѣмцы. Нѣмчура. Чужіе. Нѣмые. Иные.
Представляла, какъ прадѣдъ Павелъ стоитъ, солдатъ, съ ружьемъ наперевѣсъ, и ружейный стволъ — на царя наставляетъ. Можетъ, это онъ и убилъ послѣдняго царя?
Честь убить царя пытались присвоить многіе. Цареубійца, это же навсегда въ исторіи! Называютъ разныя фамиліи. Разные люди пишутъ на эту тему мемуары. Такъ до сихъ поръ никто и не знаетъ, кто это сдѣлалъ.
Когда начинается революція или война, нѣтъ правыхъ и виноватыхъ. У каждаго своя правда, и онъ борется за нее.
Бабушка разсказывала не только о человѣкѣ, донесшемъ до семьи Павла Еремина его натѣльный крестъ; а еще объ одномъ другѣ. Съ нимъ Павелъ Еѳимычъ вмѣстѣ служилъ въ красномъ отрядѣ въ Екатеринбургѣ.
Этотъ другъ былъ не только прадѣда другъ. Но и бабы Наташи другъ, такъ я понимала.
Потому что она такъ ласково и въ то же время сердито называла его, будто обзывала: «Мишка Ляминъ». Скажетъ: «А, Мишка Ляминъ…» — и рукой махнетъ, будто муху отгоняетъ.
То ли презрительно, а то ли озорно.
Будто самого этого загадочнаго Мишку — смѣясь, по рукѣ бьетъ.
Значитъ, знала она его, этого Мишку.
Въ ящикѣ стариннаго письменнаго стола краснаго дерева у бабушки, среди разныхъ фотографій, лежала и такая: два солдата стоятъ передъ камерой, глядятъ въ объективъ осовѣло. Слишкомъ долго, видно, держалъ двухъ мужчинъ нерасторопный фотографъ передъ волшебной коробкой: никакъ не могъ зажечь магній. Я рылась въ ящикѣ, когда бабушка уходила въ молочный магазинъ — за кефиромъ, молокомъ и творогомъ, — доставала изъ ящика пожелтѣлый снимокъ. Кто слѣва, кто справа? Прадѣда Павла я уже узнавала: онъ и правда былъ красивъ. Степной и дикой красотой. Брови вразлетъ, фуражка надвинута на лобъ, узкіе калмыцкіе глаза. Рядомъ пялился въ камеру другой солдатъ. Ростомъ выше Павла Еѳимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше колѣнъ. Не шинель, а казачій тулупъ. На башкѣ будёновка. Глаза таращитъ. Въ отодвинутой вбокъ рукѣ сжимаетъ винтовку, крѣпко упирая ее прикладомъ въ дощатый полъ.
Я глядѣла на снимокъ и со сладкимъ страхомъ думала: а можетъ, это онъ убилъ?
«Мишка Ляминъ, — тихо говорила бабушка, разложивъ на столѣ кефиръ и творогъ, и бѣлыя, будто мраморныя, яйца, и мясной горячій пирогъ въ промасленной бумагѣ, глядя изъ-подъ очковъ на желтый, коричневый, какъ въ печкѣ запеченный, снимокъ въ моихъ рукахъ, — Мишка, рыжій, безстыжій, онъ нашъ, буянскій, онъ же ко мнѣ сватался. А я ему отказала. Охъ и рыжій! Ажъ красный былъ! Вотъ какой рыжій! Идетъ по Буяну — какъ фонарь горитъ! Издалека видно! И послѣ гражданской войны тоже пріѣзжалъ въ Буянъ. Тоже свататься хотѣлъ. Мнѣ сказали. Да я уже вышла за дѣда твоего, Степана. А Мишка — до нашей избы такъ и не дошелъ. Застѣснялся. Ну что жъ… Судьба такая».
А что съ нимъ потомъ стало, съ этимъ Мишкой, спрашивала я.
«До генерала дослужился», — съ тяжелымъ длиннымъ, какъ жизнь, вздохомъ отвѣчала бабушка.
…Дѣтей интересуетъ смерть. Можетъ, потому, что они о ней ничего не знаютъ, зато вѣрно и жгуче ее чувствуютъ. Имъ не надо говорить, что всѣ мы умремъ. Имъ на эту тему снятся сны. Иногда снится, какъ ихъ убиваютъ; во снѣ они бѣгутъ, убѣгаютъ, а за ними топотъ ногъ, ихъ настигаютъ и стрѣляютъ въ нихъ. И дѣти вскидываютъ руки и падаютъ животомъ на заборъ. Или на кирпичную стѣну. Или на колючую проволоку. Или просто на землю.
У меня такой сонъ былъ. Онъ приходилъ ко мнѣ нѣсколько разъ. Адская боль, когда въ тѣло входитъ пуля. Я ощущала, какъ изъ меня льется горячее, льется кровь. Руки хватались за заборъ — я пыталась, уже умирая, черезъ него перелѣзть. Перелѣзть изъ смерти въ жизнь. Я дѣлала надъ собой страшное усиліе и просыпалась. Кровь, громыхая, толкалась въ уши, разрывая барабанныя перепонки. Меня убили, думала я дико и быстро, но вотъ же я проснулась, и все это понарошку.
Кровь толкалась въ сердце, въ губы, въ глаза. Я неистово радовалась, что я жива. Я живу, и это такое счастье! Неужели я когда-то умру? Или меня убьютъ, какъ во снѣ?
Или — убьютъ не во снѣ?
Я запомнила, какъ зовутъ того солдата, съ желтаго снимка. Быть-можетъ, это онъ меня во снѣ убивалъ. А можетъ, кто другой. Это уже неважно.
Когда бабушка Наталья умерла, всѣ ея вещи достались дочерямъ Валентинѣ и Тамарѣ. Нина, моя мать, не получила изъ ереминскаго дома ничего, ни вещицы, ни иконки, ни фотографіи, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мнѣ корзинку съ послѣднимъ вязаньемъ и спицами».
…Бабушка сидитъ. Вяжетъ. Во рту держитъ двѣ спицы съ янтарными шишечками-наконечниками. На столѣ наперстокъ, серебряный, съ такой же янтарной головкой въ дыркахъ. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они, отецъ
и Мишка, очень дружили. Переписывались. Отецъ вернулся съ Урала въ Новый-Буянъ — ему то-и-дѣло отъ Мишки почту приносили. А отецъ не умѣлъ особо писать, хотя грамотный былъ. Однако Мишкѣ — отвѣчалъ. Карандашомъ царапалъ. Въ Буянѣ Павелъ Еѳимычъ сталъ церковнымъ старостой. Маслобойку завелъ… мельничошку… А потомъ письма перестали приходить. Насъ раскулачили… мельничошку отняли, маслобойку покалѣчили… сломали… Все сломали, все».
…Все сломали, все. Но мы же нашъ, мы же новый міръ построили!
Построили — а потомъ опять разрушили.
А потомъ опять построили.
А потомъ…
И такъ всегда.
Значитъ, нѣтъ выхода изъ круга?
Я жила и не думала объ этомъ другѣ. О солдатѣ этомъ. Рыжемъ и безстыжемъ. А въ послѣдніе годы вдругъ стала думать и думать о немъ. И видѣть его. Почему-то его, а не прадѣда Павла, — ярче, четче.
Что такое смерть? Это когда забываютъ до конца. Напрочь. А жизнь, навѣрное, это то, когда тебя видятъ и помнятъ.
У насъ сейчасъ многіе молодые хотятъ революціи. Мы озираемся по сторонамъ, смотримъ на тѣ земли, гдѣ революціи эти произошли, и хорошо видимъ: да, опять кровь, разруха и смерть. Ничего, кромѣ смерти. Но смерть проходитъ, и приходитъ жизнь. Только она уже совсѣмъ другая.
И изъ смерти, изъ войны или революціи, надо выкарабкиваться страшно долго.
Страшно и долго.
Сколько усилій для того, чтобы построить новое!
А что такое новое? Можетъ-быть, это опять время?
А оно старымъ или новымъ не бываетъ. Оно всегда одно.
Его шьютъ и рѣжутъ. Прострачиваютъ очередями. Сшиваютъ петлями висѣлицъ. Ставятъ на немъ огненныя заплаты. А оно такое текучее, скользкое. Льется и ускользаетъ.
Недавно мнѣ приснилось, что въ меня опять стрѣляютъ. Но я не убѣгаю. Я стою ровно и тихо. И смотрю убійцѣ прямо въ лицо.
Я хорошо знаю его.
Помню по желтой фотографіи.
Вотъ здѣсь у него морщинка подъ глазомъ. Вотъ здѣсь, возлѣ уха, родинка.
Онъ мнѣ какъ братъ. Родной.
…И онъ не опускаетъ винтовку. Онъ стрѣляетъ все равно.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
«Да, безконечно много значитъ видѣть. Не видѣвшій, не пережившій войны никогда въ ней ничего не пойметъ, это значитъ — не откажется отъ пониманія, объясненія и оправданія ея.
Поужинавъ, мы прошли въ оперативную штаба. Тамъ сидѣло нѣсколько офицеровъ: каждый за своимъ столомъ при своей лампѣ и въ ворохѣ своихъ бумагъ. За спиной у каждаго карты, съ синими и красными изображеніями линій нашихъ и нѣмецкихъ окоповъ. Во всемъ бросающаяся въ глаза вытравленность всякой реальности — все: схема, цифра, сводка, исходящая, входящая, телефонограмма, радіограмма… но совсѣмъ не ночь, дождь, глина, мокрыя ноги и горячій затылокъ, лихорадочная, бредовая тоска о прошедшемъ и сладкая мечта о грядущемъ, проклятіе безотвѣтнаго повиновенія и проклятіе безотвѣтственнаго приказанія, развратная ругань, «мордобитіе» передъ атакой, отчаянный страхъ смерти, боль, крики, ненависть, одинокое умираніе, помѣшательство, самоубійство, изступленье неразрѣшимыхъ вопрошаній, почему, зачѣмъ, во имя чего? А кругомъ гулъ снарядовъ, адскія озаренія краснымъ огнемъ… О Господи, развѣ кому-нибудь передать это.
Помнишь наши споры? Я всегда утверждалъ, что пониманіе есть по существу отождествленіе. Война есть безуміе, смерть и разрушеніе, потому она можетъ быть дѣйствительно понятна лишь окончательно разрушеннымъ душевно или тѣлесно — сумасшедшимъ и мертвецамъ.
Все же, что можемъ сказать о ней мы, оставшіеся въ живыхъ въ здравомъ разумѣ, если и не абсолютно невѣрно, то глубоко недостаточно.
Писать дальше не могу. Сейчасъ пріѣхалъ командиръ изъ лазарета и прислалъ за мной своего денщика, который утверждаетъ, что будто есть свѣдѣнія, что въ Петроградѣ революція…
О если бы это оказалось правдой!»
Ѳедоръ Августовичъ Степунъ.
«Изъ писемъ прапорщика-артиллериста», 1917 годъ
Иней, радужно смѣясь, блестѣлъ подъ угрюмыми фонарями Николаевскаго вокзала славнаго города Петрограда, тысячью мелкихъ, лилипутьихъ ножей до крови рѣзалъ зрачки.
Темно и потно клубился народъ, заталкивая себя, многоглаваго, многоглазаго, кричащаго, въ понуро и мрачно стоящій у перрона длинный эшелонъ. Теплушки и зеленые вагоны — вперемѣшку.
«Дыры теплушекъ досками забьютъ. Надо бы въ вагонъ втиснуться», — темно и бѣшено думалъ Михаилъ Ляминъ, пока толпа вертѣла его, сминала и качала.
Красноармейцы, штыки торчатъ надъ головами, безполезно, безсмысленно сдерживали напирающихъ людей. Глаза выпучены. Языки межъ зубовъ дрожатъ. Пахнетъ по́томъ, будто кислыми щами.
«Потъ человѣчій и морозъ не беретъ. Варево. Ложку кто въ немъ крутитъ?»
Михаилъ ухитрился вздохнуть, чуть развелъ локти, они упирались въ людское темное, грязное тѣсто.
Ихъ отрядъ, разнопестрый, вотъ онъ весь тутъ; эти лица онъ уже хорошо знаетъ. Зачѣмъ ихъ большевики направляютъ въ Сибирь? Холодно тамъ. Съ кѣмъ бороться? Въ Томскѣ, сказали, ужъ собрали Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ.
«Депутатъ. Слово какое… закомуристое».
Да не надо себѣ-то врать; всегда есть въ кого стрѣлять. Казаки по всей Сибири возстаютъ противъ новой власти, а ужъ они вооружены, будто на охоту волчью: и ружья, и наганы, и ножи.
А они? Кто они?
Михаилъ, проталкиваясь ближе къ вагону, озирался: рабочіе съ Путиловскаго, рожи будто дегтемъ перемазаны, такъ прочернѣли отъ станковъ; крестьяне изъ Тосно и Гатчины, бороды мочалами торчатъ, желтые, какъ у котовъ, глаза шныряютъ изъ-подъ свалявшихся отъ старости бровей по лбамъ, по верхамъ шапокъ; юнцы въ нескладно сидящихъ шинеляхъ — можетъ, только съ войны явились, и дивятся, что живые остались, а можетъ, вчерашніе юнкера, подъ красное одѣяло подстелились; Михаилъ озирался, раскрывъ ротъ, тяжко, хрипло дышалъ — и вдругъ разомъ, будто сверху, увидѣлъ всю умалишенную толпу и въ ней — себя.
Чьи-то, не Михаила, глаза, а будто бы подъ его лбомъ, жадно схватывали: вотъ они всѣ, давятъ другъ друга, — воры съ Лиговки, часовщики съ Карповки, балтійскіе рыбаки, архангельскіе лодочники, да, богатѣи здѣсь тоже, вонъ жирныя рожи, — бабы съ корзинами и узлами, пищатъ какъ цыплята, вздымаютъ поклажу надъ головами, чтобы не раздавили, — евреи въ ермолкахъ, еврейки въ дорогихъ серьгахъ, и какъ еще не вырвали изъ ушей съ мясомъ, бандерши и шлюхи, ихъ сразу видать по раскраскѣ, — плотники, матросы, грузчики, у матросни фиксы во ртахъ вспыхиваютъ, пуговицы съ бушлатовъ отлетаютъ, хрустятъ подъ ногами толпы, — медички, курсистки, мѣщанки, торговки солью и козьими платками съ Гостинаго двора, пѣвички изъ сгорѣвшихъ кафе-шантановъ, сестры милосердія въ бѣлыхъ, монашьихъ платкахъ, старухи — кто попугая въ клѣткѣ тащитъ, кто деревянный саквояжъ, а одна, щеки чернѣй земли, прижимаетъ къ груди ребенка и плачетъ, а ребенокъ слѣпой, ямы глазъ нѣжной страшной кожей заросли, — и солдаты, ихъ тутъ больше всѣхъ, и съ фронтовъ, и изъ самого Питера, и Богъ знаетъ откуда понаѣхали, а теперь вотъ дальше ѣхать хотятъ — если не въ Сибирь, какъ онъ и его отрядъ, такъ въ Нижній, въ Вятку, въ Казань, въ Самару, въ Екатеринбургъ, въ Челябинскъ, въ Уфу: на Востокъ.
Шинели старыя, тертыя, собакой воняющія, новыя, съ торчащими грозно плечами, съ раструбами широченныхъ рукавовъ — въ такой рукавъ, если въ рѣку окунуть вмѣсто бредня, сома можно поймать, — въ дырахъ отъ пуль, въ неловкихъ смѣшныхъ заплатахъ, съ засохшей кашей подъ воротомъ, съ засохшей кровью на спинахъ и локтяхъ. Коричневыя, мутныя пятна ничѣмъ не отстирать.
«Мѣченые. Какъ и я же».
Михаилъ поежился — не отъ мороза: отъ воспоминанія.
Шрамъ черезъ всю грудь. Раненіе въ легкое. Подъ Бродами.
Тогда его и еще двѣсти тяжелораненыхъ погрузили въ санитарный поѣздъ, и поѣздъ постучалъ колесами ажъ до самаго Питера.
Мелькнули странные, давніе бѣлые руки и пальцы, бѣлыя простыни, бѣлые платки съ красными крестами; мелькнули въ сознаніи, дико загорѣлись, вмигъ сожглись и пропали. Толпа напирала, плющила.
«А шинелька-то моя тоже… того… съ пятномъ».
Да, эта его кровь такъ навѣкъ и осталась у него на спинѣ, странной тускло-кирпичной картой дикаго острова посреди болотнаго шерстяного океана; ничѣмъ не выведешь, да и новье у командира не попросишь, да надо ли?
Теперь глядѣлъ на толпу не сверху — снизу.
Мельтешили ноги. Сапоги, валенки, разношенные боты. Подбитые кожей катанки, сапожки на шнуровкѣ, перепачканныя мазутомъ бурки, лаковыя галоши, высокіе, подъ колѣно, ботинки на кучерявомъ бараньемъ мѣху; и лапти, лапти, много ихъ, такъ и шлепаютъ по грязи, по снѣгу, по крошеву вокзальнаго, битаго дворницкимъ ломомъ льда, и опять сапоги — хромовые купецкіе, свиные солдатскіе, съ подошвами-гирями, со сбитыми носами, рваными голенищами. За однимъ голенищемъ рукоять ножа торчитъ.
Михаилъ тряханулъ головой и обругалъ себя. «Вижу чортъ знаетъ что, брежу».
Вагонъ былъ совсѣмъ рядомъ, и въ него, матерясь, лѣзли люди.
Солдатъ рядомъ съ нимъ сопѣлъ какъ паровозъ. Ну да, ремнемъ утянулся, какъ снопъ, вонъ какъ грудь выпятилъ. Слѣва наваливался грузный казакъ. Михаила по ногамъ била его шашка.
— Э-э-эй! Ну же! Что вазякаетеся! Живѣй! Залѣзай!
На Лямина надавили сзади, и онъ чуть не клюнулъ носомъ по шапкѣ того, что маячилъ впереди, — увѣшаннаго оружіемъ отъ ушей до пятокъ не пойми кого, солдата или разбойника: на боку револьверъ, на другомъ — пистолетъ, весь обкрученъ, какъ елка новогодняя, патронной лентой, и еще странныя темныя бутылки на поясѣ висятъ.
«Бомбы. Эка вооружился! Тотъ, кто оружьемъ обвѣсился, точ —
но смерти боится».
— Гражданы! Гражданы! Ну вы мнѣ щасъ ребры сломаети!
— И сломаемъ! И сломаемъ! Недорого возьмемъ!
— Давай, давай! Нажми еще! Мѣсто-то тамъ есь ищо!
— Да никакихъ мѣстовъ нѣтъ ужъ давно! Только на башки ложиться если!
— Навались, ребята!
Бабы визжали. Мужики кряхтѣли и орали.
Ляминъ сам не понялъ, не помнилъ, какъ оказался на вагонной подножкѣ. Рядомъ съ нимъ, впереди и сбоку, моталось знакомое лицо.
— Сашка! — крикнулъ Ляминъ. — Люкинъ!
— Держись, братецъ!
Сашка Люкинъ, бѣлобрысый и дико, какъ кочерга, худой, слѣпо и хулигански подмигнулъ Михаилу.
Казакъ грубо наступилъ Михаилу на ногу. Онъ скрипнулъ зубами. Ткнулъ казака локтемъ въ грудь. Казакъ его — кулакомъ въ спину. Толкаясь и переругиваясь, они оказались внутри вагона. Духота давила хуже людской плоти. Солдатъ Люкинъ хваталъ воздухъ ртомъ.
— Братцы! Выбивайте окна!
— Чортъ! Въ декабрѣ-то! Какъ двинемся — полегше будетъ!
Ляминъ ощупалъ револьверъ на боку. Кобура не разстегнута;
ремень не срѣзанъ. Не украли, и слава Богу.
— Эй! — крикнулъ Люкинъ. — Отрядъ! Всѣ здѣся?!
Нестройно, тамъ и сямъ, отзывались, взлетали голоса.
— А командиръ нашъ?!
— Здѣсь командиръ! — кричали изъ набитаго людьми тамбура. — Слушай мою команду! Всѣмъ свободныя полки — занять!
Громкій хохотъ былъ этому голосу отвѣтомъ.
— Да! Займешь, держи карманъ шире!
— Такъ всѣ и растопырились, намъ мѣста уступать!
— А ты, саблей, саблей взмахни! И прогони! Испужаются!
— Обдѣлаются…
— Га-га-а-а-а-а!
Бабы сидѣли, глядя мрачно, исподлобья, крѣпко прижимая къ себѣ корзины, что-то тамъ внутри корзинъ мягко, скупо оглаживая. «Кто живой тамъ у нихъ, что ли? Да что не клекочетъ, не хрюкаетъ?»
Каждый свое сокровище съ собой везетъ. Скарбъ на дорогахъ войны растеряется, сгоритъ. А тутъ еще революція. Все вмѣстѣ, одинъ огонь съ одной стороны, другой — съ другой.
Михаилъ толкся между полокъ, на нихъ уже сидѣли, свѣшивая ноги, и лежали люди.
— Мишка! — заполошно кричалъ Люкинъ. — Греби сюды! Лѣзь, быстро!
Билъ кулакомъ рядомъ съ собой по самой верхней, подъ потолкомъ вагона, багажной деревянной полкѣ.
— Вонъ кака широкенька! Умѣстимся обое! А я бы, честно, не тебя бы предпочелъ, а вонъ ее!
Указалъ пальцемъ внизъ. Михаилъ перевелъ глаза. Напротивъ него странно, въ гущѣ человѣчьяго дорожнаго ада, мерцало лицо. Широкія скулы раздвигаютъ воздухъ. Сильный, торчащимъ кулакомъ, подбородокъ; плотно, въ нить сжаты губы. Прозрачные сѣрые глаза ожгли льдинами. Онъ только спустя время догадался, что лицо-то женское: слишкомъ нѣжное для парня, для мужика слишкомъ гладкое.
— Эй! — надсаживался Сашка. — Лѣзь сюды, дѣвка!
Женщина, уперевъ ладони въ колѣни, быстро встала, взвилась. И Мишка, и Сашка увидали за ея спиной остріе штыка. А на боку — кобуру. И что она въ сѣрой, грубаго сукна, шинели, тоже увидали. И плечи ея широкія, мужскія — увидали.
— Это ты слѣзай, — сказала она просто и грозно.
Голосъ у нея оказался такой, какъ солдату надо: грубый, хриплый, съ потаенными звонкими нотами.
— Сестренка… — Люкинъ утеръ носъ кулакомъ. — Ну ты чо, сестренка… А то я спрыгну, а ты — кладись…
— Шуруй! — крикнулъ Михаилъ и махнулъ рукой.
Люкинъ спрыгнулъ мигомъ.
Они оба подсадили бабу-солдата на багажную полку. Женщина сладко вытянулась, стащила съ плеча ремень винтовки; Ляминъ пристально смотрѣлъ на ея сапоги. Комья заледенѣлой грязи оттаивали въ вагонномъ теплѣ. Грязь становилась потеками, темными слезами стекала по сапогамъ.
«Воевала. Гдѣ?»
Онъ чувствовалъ исходившій отъ нея запахъ недавняго пороха.
Такимъ ужъ, слишкомъ твердымъ, было ея голодное лицо. А щеки около губъ — нѣжными, какъ у ребенка.
Его голова торчала аккуратъ напротивъ ея блѣдной, медленно розовѣвшей щеки.
Женщина повернула голову и беззастѣнчиво разсматривала его. Тщательно, внимательно, будто хотѣла навѣкъ запомнить. Ему показалось, у нея между рѣсницъ вспыхиваетъ слезный огонь.
— Вы это, — Ляминъ сглотнулъ, — ѣсть хотите?
Она молча смотрѣла.
— А то, это, у меня ржаной коровай. И… селедка. Сказали — норвежская!
Женщина закрыла глаза и такъ, съ закрытыми глазами, перевернулась на-бокъ, лицомъ къ винтовкѣ. Обхватила ее обѣими руками и прижала къ себѣ, какъ мужика. Люди въ вагонѣ орали, стонали, вскрикивали, и Ляминъ съ трудомъ услышалъ въ мѣсивѣ голосовъ женское бормотанье.
— Ты не думай, я не сплю.
Въ полутьмѣ поблескивалъ штыкъ.
«Уснетъ, и запросто винтовку у ней отымутъ. Это лучше я буду не спать».
Подумалъ такъ — и съ изумленіемъ наблюдалъ, какъ Сашка Люкинъ укладывается на полъ вагона, между грязныхъ чужихъ ногъ, и уже спитъ, и уже храпитъ. Михаилъ сѣлъ рядомъ съ Сашкой на полъ, взялъ его тяжелую, какъ кузнечный молотъ, башку и положилъ къ себѣ на колѣни, чтобъ ему помягче было спать.
И самъ дремалъ; засыпая, думалъ: «А вѣдь она сказала мнѣ — „ты“».
Колеса клокотали, били въ желѣзные бубны, встряхивали вагонъ. Они уже ѣхали, а имъ казалось, что все еще стоятъ.
…Командиръ отряда, Иванъ Подосокорь, надъ людскими головами, надъ чужими жизнями, стронутыми съ мѣста, кричалъ имъ, краснымъ солдатамъ:
— Молодцы мои! Вы, молодцы! Дорогая дальняя, а вы бодрѣй, бодрѣе! Хорошее дѣло затѣяли мы. Всѣ мы! А кто противъ народа — тотъ противъ себя же и будетъ! Поняли?!
— Поняли! — кричали съ другого конца вагона. — А гдѣ ѣдемъ-то, товарищъ командиръ?
— Да Вятку ужъ проѣхали. Балезино скоро!
— Эхъ, она и Сибирь, значитъ, скоренько…
— Да што языкомъ во рту возишь, како скоренько, ищо недѣли двѣ, три тащиться… глаза всѣ на снѣга проглядимъ…
Много народу сошло въ Нижнемъ. Мѣста внизу освободились; баба-солдатъ слѣзла, встряхнулась, какъ собака, вылѣзшая изъ рѣки, дернула плечами, пригладила коротко стриженые волосы. Михаилъ уже ломалъ на-двое темный, чуть зачерствѣлый коровай, тянулъ половину женщинѣ.
— Протвѣдайте, прошу.
Она усмѣхнулась, опять плечами передернула. Онъ вообразилъ ея голыя плечи, вотъ если бы гимнастерку стащить.
Протянула руку и не весь кусъ схватила, а пальцами — нѣжно и бережно — отломила. Въ ротъ сунула, жевала. Глаза прикрыла отъ блаженства.
— Спасибо, — сказала съ набитымъ ртомъ.
— Да вы берите, берите все.
— Ты добрый.
Взяла у него изъ рукъ и обѣими руками отломила отъ половины еще половину. Ѣла быстро, жадно, но не противно. Ротъ ладонью утерла.
Глаза, сѣрые, холодно-ясные, въ Михаила воткнулись.
О чемъ-то надо было говорить. Колеса стучали.
— А вы… на фронтѣ… на какомъ воевали?
— Въ арміи Самсонова.
— Ахъ, вотъ что.
— А ты гдѣ?
— А я у Брусилова. Ранило меня подъ Бродами. Тамъ наступали мы.
— Наступали, — усмѣхнулась. — Себѣ на судьбу сапогомъ наступили.
— А вы считаете, что, революція — неправа?
— Я? Считаю? — Ему показалось, она сейчасъ размахнется и въ лицо ударитъ его. — Я съ тобой — въ одномъ отрядѣ ѣду!
— Въ какомъ отрядѣ? Въ нашемъ? Въ Подосокоря?
— Дай еще хлѣба, — попросила.
Онъ протянулъ ржаной. Она ломала и ѣла еще. Ѣла, пока зубы не устали жевать.
— А пить у тебя нѣтъ?
Михаилъ смотрѣлъ ей прямо въ глаза.
«Глаза бы эти губами выпить. Ужъ больно холодны. Свѣжи».
— Нѣтъ. — Развелъ руками. — Ни водки, ни самогонки. Ни барскихъ коньяковъ.
Она засмѣялась и тихо, долго хохотала, закинувъ голову. Рѣзко хохотъ оборвала.
Люкинъ лежалъ у нихъ подъ ногами, храпѣлъ.
Составъ дернулся и всталъ. Люди вываливались, а вваливались другіе.
— Ты глянь-ка, дивися, на крышахъ даже сидятъ!
— Это што. Отъ самаго Питера волоклись — такъ на приступкахъ вагонныхъ народъ катился.
— Кого-то, глядишь, и вѣтерокъ сшибъ…
— Щасъ-то оно посвободнѣй!
— Да, дышать можно. А то духъ тяжелый!
Бодрый, нарочито веселый, съ воровской хрипотцой, голосъ Подосокоря разносился по вагону.
— Товарищи солдаты! Мы — красные солдаты, помните это! На фронтѣ тяжко, а на нашемъ, красномъ фронтѣ еще тяжелѣй! Но не опустимъ рукъ! И — не опустимъ оружья! Всѣ наши муки, товарищи, лишь для того, чтобы мы защитили нашу родную революцію! И установили на всей нашей землѣ пролетарскую, вѣрную власть! Долой царя, товарищи! Ѣдемъ бить враговъ Красной Гвардіи… враговъ нашего Ленина, вождя! Всѣ жертвы…
Крикъ захлебнулся, потонулъ въ чужихъ крикахъ.
Женщина покривила губы.
— Про жертвы оретъ, ишь. Мало мы жертвъ видали, такъ выходитъ.
Ляминъ глядѣлъ на ржаную крошку, приставшую къ ея верхней губѣ.
Она учуяла направленіе его взгляда, смахнула крошку, какъ кошка лапой.
— Можетъ, мы и не вернемся никто изъ этихъ новыхъ боевъ! — весело кричалъ Подосокорь. — Но это правильно! Кто-то долженъ лечь въ землю… за свѣтлое будущее время! За счастье дѣтей нашихъ, внуковъ нашихъ!
— Счастье дѣтей, — сказала женщина вдругъ твердо и ясно, — это онъ вѣрно говоритъ.
— Вы, бабы, о дѣтяхъ больше мыслите, чѣмъ мы, мужики, — сказалъ Ляминъ какъ можно вѣжливѣй. А получилось все равно грубо.
— А у тебя дѣти есть?
Опять глядѣла слишкомъ прямо, зрачками нашла и проткнула его зрачки.
— Нѣтъ, — сказалъ Михаилъ и лизнулъ и прикусилъ губу.
Женщина улыбнулась.
— Этого ни одинъ мужикъ не знаетъ, есть у него дѣти или нѣтъ. А иногда, бываетъ, и узнаётъ.
— Будемъ сильны духомъ! — звенѣлъ голосъ командира. — Увѣрены въ побѣдѣ! Побѣдимъ навязанную намъ войну! Побѣдимъ богатыхъ тварей! Побѣдимъ враговъ революціи, ура, товарищи!
Весь вагонъ гудѣлъ, пѣлъ:
— Ура-а-а-а-а!
— Гладко командиръ нашъ кричитъ, точно лекцію читаетъ, — передернула плечами женщина, — да до Сибирюшки еще долго, пріустанетъ вопить. Смѣна ему нужна. Можетъ, ты покричишь?
Ляминъ самъ не зналъ, какъ вырвались изъ него эти злыя слова.
— Я къ тебѣ съ заботой, дура, а ты смѣешься надо мной!
Ноздри женщины раздулись, она вродѣ какъ перевела духъ. Будто долго бѣжала, и вотъ устала, и тяжело, какъ лошадь, дышитъ.
— Слава Богу, живой ты человѣкъ. И ко мнѣ какъ къ живому человѣку наконецъ обратился. А то я словно бы въ господской рестораціи весь путь сижу. Только вѣера мнѣ не хватаетъ! Обмахиваться!
Уже смѣялась, но хорошо, тепло, и онъ смѣялся.
— А тебя какъ звать-то?
— Наконецъ-то спросилъ! Прасковьей. А тебя?
— Михаиломъ. А тебя можно какъ? Параша?
— Пашка.
— Паша, можетъ?
— Пашка, слышалъ!
Онъ положилъ руку на ея руку.
— Пашка… ну чего ты такая…
Опустилъ глаза: черезъ всю ея ладонь, черезъ запястье бѣжалъ, вился рваный, страшный синій шрамъ. Плохо, на-спѣхъ зашивалъ рану военный хирургъ.
— Что глядишь. Зажило все давно, какъ на собакѣ, — сказала Пашка и выдернула изъ-подъ его горячей, какъ раскаленный самоваръ, руки свою большую, распаханную швомъ крѣпкую руку.
***
Залпы нашихъ батарей рвали плотный, гаревой вѣтеръ въ клочки, и Михаилъ дышалъ обрывками этого вѣтра, его сѣрыми влажными лоскутами — хваталъ ртомъ одинъ лоскутъ, другой, а плотная сѣрая небесная ткань снова тянулась, и снова залпъ, и снова трескъ грубо и страшно разрываемаго воздуха.
«Будто мѣшковину на-двое рвутъ. И ею же уши затыкаютъ».
Глохъ и опять слышалъ. Ихъ полкъ держался противъ двухъ германскихъ. Слышно было — австріяки орали дико; потомъ видно, какъ рты разѣваютъ, а криковъ не слыхать.
Орудія жахали мѣрно и обреченно, въ ритмѣ гигантскаго адскаго маятника, будто эти оглушительныя аханья, рвущія нищій земной воздухъ, издавала невидимая огромная машина.
Ляминъ тоскливо глядѣлъ на мосты черезъ грязную темную, тускло блестѣвшую на перекатахъ мятой фольгой рѣку.
«Мосты крѣпкіе. И никто ихъ теперь-то не взорветъ. И подмогу — по мостамъ — они, гаденыши, пришлютъ. Пришлютъ!»
Ахнуло опять. Подъ черепомъ у Михаила вмѣсто мыслей на мигъ взбурлилась обжигающая каша, и хлюпала, и булькала. Показалось, каша эта сейчасъ вытечетъ въ кривой разломъ треснувшей отъ грохота кости.
…снова сталъ слышать. Въ дымномъ небѣ висѣлъ, качался аэропланъ. Рота, что укрылась въ кустахъ у рѣки, стрѣляла по авіатору, по стрекозино растопыреннымъ дощатымъ крыльямъ.
«Ушелъ, дрянь. Спасъ свою шкуру».
Хилый лѣсокъ устилалъ всхолмія. Лѣсокъ такой: не спрячешься отъ снарядовъ, но и растеряешься среди юныхъ березокъ, кривыхъ молодыхъ буковъ и крѣпенькихъ дубковъ.
«Лѣсъ. Лечь бы въ траву подъ дерево. Рожу въ траву… окунуть… объ траву вытереть…»
Онъ нагнулъ лицо къ рукѣ, мертво вцѣпившейся въ винтовку, и выгибомъ запястья зло отеръ потъ со лба и щекъ.
Рядомъ съ нимъ широко шагалъ солдатъ Егорьевъ, хрипло выплевывалъ изъ глотки не слова — опять шматки сѣрой холстины:
— За всякимъ!.. кустомъ!.. здѣся!.. звѣрь! Сидитъ!
И, самъ звѣрски оскалившись, умалишенно хохоталъ, то ли себя и солдатъ подбадривая, то ли вправду сходя съ ума.
Грохотъ раздался впереди, шагахъ въ ста отъ нихъ.
Солдаты присѣли. Кое-кто на землю легъ.
Егорьевъ сплюнулъ и зло глянулъ на продолжавшаго медленно, будто по минному полю, итти Лямина.
— О! Вотъ оно и хрѣнъ-то!
Всѣ солдаты смотрѣли на огромную, чернымъ котломъ, воронку, вырытую снарядомъ по склону лѣсистаго холма.
— По насъ щасъ вдаритъ…
Офицеръ Дурасовъ, ѣхавшій поблизости на хиломъ, сѣромъ въ яблокахъ, конѣ, спрыгнулъ съ коня и передалъ ординарцу поводья. Обернулъ къ солдатамъ лицо. И Ляминъ вздрогнулъ. Никогда онъ не видалъ у человѣка такого лица. Ни у тѣхъ, кто умиралъ на его глазахъ; ни у тѣхъ, кто сильно и неудержно радовался передъ нимъ.
Изъ лица Дурасова исходилъ яркій, мощный нездѣшній свѣтъ.
— Полкъ! — заоралъ Дурасовъ натужно. — Полкъ, впередъ!
Лютый морозъ зацарапалъ Лямину потную, подъ соленой гимнастеркой, спину. Полы шинели били по облѣпленнымъ грязью сапогамъ. Онъ бѣжалъ, и вокругъ него солдаты тоже бѣжали. Этотъ бѣгъ былъ направленъ, онъ такъ понималъ, не отъ снарядовъ, а именно къ нимъ, это значитъ, на смерть, — но въ этотъ мигъ онъ странно и прекрасно пересталъ бояться смерти; и, какъ только это чувство его посѣтило, тутъ же справа и сбоку ударили передъ ними еще три снаряда: сначала одинъ, потомъ — сдвоеннымъ аккордомъ — два другихъ. Сильно запахло гарью и свѣжей землей, и вывороченными изъ земли древесными корнями.
— Полкъ! Бѣгомъ! — кричалъ Дурасовъ.
И они бѣжали; и Ляминъ глядѣлъ — а кто-то уже лежалъ, такъ и остался посреди этого молодого дубняка съ разлитыми по землѣ мозгами, съ вывернутыми на молодую траву потрохами; они, живые, бѣжали, и скатки шинелей давили на спины, и саперныя лопатки втыкались подъ ребра, и котелки объ эти лопатки стучали, грохотали, — и люди орали, чтобы заглушить, забить живыми криками ледяное и царское молчанье смерти:
— А-а-а-а-а-а! Ура-а-а-а-а-а!
Дурасовъ опять вскочилъ на коня и вмѣстѣ со всѣми оралъ «ура-а-а-а!». Солдаты выбѣжали на поляну, опять скрылись въ дубравѣ. И снова справа ударило.
«Шестидюймовый… должно…»
Всѣ упали наземь. Ляминъ повернулъ голову. Разлѣпилъ засыпанные шматками земли глаза. Товарищи лежали рядомъ, стонали. Уже подбѣгали санитары, съ черными, сажевыми лицами; укладывали раненыхъ на носилки. Снова въ небѣ мотался аэропланъ. Авіаторъ высматривалъ позиціи врага.
«Это мы — врагъ. А они — нашъ врагъ».
Мелькнула дикая мысль: а эта война, она-то людямъ на кой лядъ?! — но времени ее додумать не было. Солдаты поднялись съ земли и вновь побѣжали навстрѣчу огню. Дурасовъ скакалъ на своемъ сѣромъ хиломъ конькѣ, и лицо у него тоже было черное, страшное, — безпрерывно орущее.
— По-о-о-олкъ! Впере-о-о-одъ!
Опять жахнуло, и вверхъ вѣеромъ полетѣла, развернулась земля, попа́дали молодые дубки, и люди повалились на землю — и лежали, къ ней прижавшись, ища у нея послѣдней защиты, а Дурасову нужно было, чтобы полкъ шелъ впередъ. Валились подъ осколками снарядовъ лошади подъ офицерами, и офицеры, раненые, откинувшись назадъ, медленно сползали съ сѣделъ, и ноги офицеровъ путались въ стременахъ, и лошади падали наземь и тяжестью своей придавливали офицерскія тѣла, а раненые солдаты безпомощно раскидывали руки, царапая землю, беззвучно крича отъ боли, и земля набивалась имъ подъ ногти, подъ тонкую, какъ рыбья чешуя, жизнь.
Солдаты лежали, а снаряды свистѣли, падали и разрывались, и Ляминъ утыкался лицомъ въ землю, остро и глубоко нюхая, вдыхая всю ее, какъ вдыхаетъ мужикъ въ постели бабій острый потъ, и странно, зло и весело, думалъ о себѣ: а вотъ я еще живой.
Гремѣло и грохотало, и уши уже отказывались слышать. Глаза еще видѣли. Глаза Лямина схватывали все, какъ напослѣдокъ, — какъ медленно, будто нехотя, съ закопченными лицами поднимаются съ земли солдаты, и старые и молодые, они теперь всѣ сравнялись, возраста не было, времени тоже: была смерть и была жизнь, а еще — земля подъ ногами, развороченная взрывами, такая теплая, выбрасывающая изъ себя вверхъ, къ небу, стволы и листья, будто желающая деревьями и листьями обнять и расцѣловать вѣчно недосягаемое, холодное небо.
И тутъ Ляминъ самъ не помнилъ, какъ все это у него получилось. Какъ все это взяло да случилось: будто само по себѣ, будто и не онъ тутъ все это содѣялъ, а кто-то другой, а онъ, какъ въ синема, наблюдалъ.
Онъ всталъ сначала на колѣни, быстро оглядѣлъ передъ собою землю, лежащія недвижно и ворочающіяся въ тяжкой боли, въ предсмертьѣ, тѣла, потомъ быстро, уткнувъ кулаки въ землю, вскочилъ, обернулся къ солдатамъ и офицерамъ, что еще на живыхъ, еще не подстрѣленныхъ коняхъ скакали поблизости, крѣпче зажалъ въ рукѣ винтовку, поднялъ ее надъ головой и крѣпко, дико потрясъ ею, а потомъ разинулъ ротъ шире варежки и крикнулъ такъ зычно, какъ никогда въ жизни еще не вопилъ:
— По-о-о-о-олкъ! За мно-о-о-о-ой!
Побѣжалъ. Сапоги тянули къ землѣ, гирями висѣли. Ноги заплетались. Онъ старался ихъ ставить крѣпко, мощно, утюгами.
— За вѣру-у-у-у! За Царя-а-а-а-а! За Отечество-о-о-о-о!
Бѣжалъ, на бѣгу прицѣлился и выстрѣлилъ изъ винтовки.
И рядомъ съ нимъ свистѣли пули.
И онъ не зналъ, вражескія это пули или свои по врагу стрѣляютъ. Бѣжалъ, и все.
Бѣжалъ впереди, а полкъ, топоча, давя сырые листья и влажную пахучую землю, бѣжалъ за нимъ, и дубовыя вѣтви били ихъ по лицамъ, и лѣсъ то разступался, то густѣлъ, и падали люди, и оставались лежать, и бѣжали рядомъ, и просвистѣло слишкомъ близко, Ляминъ скосилъ глаза и увидалъ, какъ подламываются ноги сѣраго въ яблокахъ офицерскаго конька, и вываливается изъ сѣдла офицеръ Дурасовъ, какъ ватная рождественская игрушка, и тяжело падаетъ головой въ траву; фуражка откатилась, конь дернулъ ногами и затихъ, а Дурасовъ глядѣлъ бѣлыми ледяными глазами въ небо, будто жадно раскрытымъ мертвымъ ртомъ — выпить до дна все небо хотѣлъ.
— Ура-а-а-а-а! За Царя-а-а-а-а-а! — вопили рядомъ.
Всѣ бѣжали, и онъ тоже. Его обогнали, онъ уже не бѣжалъ первымъ. Свѣжо и ласково пахло близкой рѣкой.
Они, кто живые, подбѣжали къ окопамъ у рѣки, а вдали уже виднѣлись крыши деревни, и Ляминъ, попрежнему сжимая въ кулакѣ винтовку такъ, что бѣлѣли пальцы — не разогнуть, видѣлъ — высовываются изъ окоповъ головы, освѣщаются измученныя лица улыбками:
— Братцы! Братцы! Неужели!
— Ужели, ужели… — бормоталъ Ляминъ.
Онъ присѣлъ и сползъ на заду въ сырой, отчего-то пахнущій свѣжей рыбой окопъ. Окопъ былъ узкій, неглубокій, заваленный мусоромъ, съ плывущей подъ сапогами грязью.
— Братцы! Солнышки! Да неужто прорвались!
Обнимались.
Кто-то плакалъ, судорожно двигая кадыкомъ. Кто-то безпощадно матерился.
Надъ окопомъ стояли спрыгнувшіе съ коней офицеры. Ляминъ видѣлъ передъ глазами чьи-то мощные, какъ бычачьи морды, сапоги. Черный блескъ ваксы, будто поверхность озера, просвѣчивалъ сквозь слои грязи и глины.
— Кто полкъ поднялъ въ атаку? Ты? Имя?
Михаилъ сглотнулъ. Ему ли говорятъ?
— Ты, слышь, на тебя офицера глядять…
— Чего молчишь, въ ротъ воды набралъ? Аль не тебѣ баютъ?
— Ляминъ. Михаилъ. Еѳимовъ сынъ!
Ему показалось, громко крикнулъ, а ротъ едва шевелился, и голосъ меркъ.
— Къ наградѣ тебя приставимъ! Къ Георгію!
Его тыкали кулаками въ бока, стучали по плечамъ, подносили курево.
— Слышь… Георгія дадутъ…
— Дыкъ ето онъ, што ли, васъ сюда привелъ?.. Охъ, братцы-и-и-и…
Въ пальцахъ, невѣсть какъ, оказалась, уже дымила цигарка. Онъ курилъ и ни о чемъ не думалъ. Сырая мягкая окопная глина плыла подъ сапогами, и онъ качался, какъ пьяный.
Гармошка деревенской свадьбы вдругъ запѣла подо лбомъ.
Онъ отмахнулся отъ музыки, какъ отъ мухи.
— Милый… да милый же ты человѣкъ…
— Вотъ, ребяты, и смертушка яво пощадила… не укусила…
— Молитесь всѣ, ищо бои главные впереди…
Ляминъ курилъ, и дымъ вился вокругъ пустой, безъ единой мысли, головы.
Онъ и правда плохо сталъ слышать.
«Контузило, видать».
Вдругъ рядомъ заорали бѣшено:
— А-а-а-а! Кровища изъ няво хлещеть! Вона, изъ боку!
Онъ выронилъ цигарку и изумленно скосилъ глаза. Ни удивиться, ни додумать не успѣлъ. Повалился въ окопную грязь.
…его били по щекамъ, поливали водой изъ фляги.
Онъ открылъ глаза и ловилъ струю ртомъ. Грязную и теплую.
…потомъ полили спиртомъ, у офицера Лаврищева во флягѣ нашелся; перевязали чѣмъ могли. Крови потерялъ толику, да вокругъ рѣзво, рѣзко смѣялись, скаля зубы:
— Царапина! Повезло!
Подбадривали.
Онъ смѣялся тоже, такъ же хищно и весело скалился.
Странно чувствовалъ колючесть, небритость и даже блѣдность своихъ впалыхъ щекъ.
***
— Не бойся… не бойся…
Онъ все шепталъ это, глупо и счастливо, а скрюченныя руки его, собачьи лапы, разрывали слежалый лѣсной снѣгъ, пытаясь добраться до земли.
Солдатъ Михаилъ Ляминъ хотѣлъ закопать въ зимнемъ лѣсу дѣвчонку, испоганенную и убитую имъ.
Стоя на колѣняхъ, онъ все рылъ и рылъ руками-лапами холодное снѣговое тѣсто. Рядомъ лежалъ трупъ. Дѣвочка совсѣмъ молоденькая. Ребенокъ. Сколько ей сравнялось? Двѣнадцать? Десять?
«Рой, рой, — приказывалъ онъ себѣ, шепталъ стеклянными колючими губами, — рой живѣй. А то найдутъ, не успѣешь грѣхъ покрыть».
Ощутилъ на груди жженіе креста. Роющія руки убыстрили движенья.
Передъ глазами мелькало непоправимое. Какъ было все?
…Ворвался въ избу. Гулкія холодныя сѣни отзвучали крикомъ-эхомъ. Метнулись юбки, расшитый фартукъ. Набросился, будто охотился. Да вѣдь онъ и охотился, и дичь — вотъ она, не уйдетъ.
Дѣвчонка успѣла распахнуть дверь въ избу, да онъ упредилъ ее. Цапнулъ за завязки фартука, онѣ развязались; схватилъ за плечо. Дѣвка заверещала. Въ дверяхъ показалась старуха, подняла коричневыя ладони, закричала. Накинувъ дѣвкѣ согнутую руку на шею, другой рукой вытащилъ наганъ изъ кобуры. Бабка упала и захрипѣла. Дѣвчонка хныкала. Онъ связалъ ей руки бабкинымъ платкомъ. Вытолкалъ со двора, какъ упрямую корову.
Гналъ въ лѣсъ: она, босая, семенитъ впереди, онъ — стволомъ нагана тычетъ ей въ лопатки.
«Чортъ, мнѣ все это снится! Снится!»
Ноги и его, и ея вязли въ снѣгу. Потомъ неожиданно тихо и легко заскользили по твердой и толстой наледи.
«Ухъ ты, я какъ по морю иду. По водѣ! Ешки, какъ Христосъ!»
Такъ скользили межъ кустовъ. Обмерзлыя вѣтки били дѣвку по глазамъ. Она защищалась связанными руками.
Такъ же выставила, защищаясь, впередъ руки, когда онъ рѣшилъ: все, тутъ можно, — и ударомъ кулака повалилъ ее на снѣгъ, въ сугробъ.
Ея голова утонула въ сугробѣ. Онъ дрожалъ надъ безголовымъ тѣломъ. Она силилась повернуться со спины на животъ. Дергала руками, хотѣла разорвать узелъ платка; но связалъ онъ крѣпко. Сучила ногами. Михаилъ рвалъ на себѣ ремень, портки.
Обсердился, выхватилъ изъ-за голенища ножъ; быстро, твердой рукой, разрѣзалъ на дѣвкѣ кофту, платье. Ножъ обратно засунулъ.
…Разодралъ, какъ курицу, подъ густо усыпаннымъ снѣгомъ кустомъ.
Слышалъ свое хриплое дыханье. Легкія гудѣли старой гармонью.
Дѣвка сперва дрожала, кричала, потомъ паровозомъ запыхтѣла; онъ налегъ ей на губы небритой щекой, чтобы заглушить крики. Она укусила его въ щеку. Онъ, продолжая ее сжимать и терзать, заругался темно. Потомъ уткнулся носомъ ей за ухо. Туда, гдѣ сладко и тонко пахло нѣжнымъ, дѣтскимъ.
…Отрядный крикнулъ — онъ узналъ его голосъ:
— Ляминъ! Балуй! — какъ коню.
…И это была всего лишь война; всего лишь сонъ; всего лишь зажженная и погасшая спичка, — а онъ такъ и не успѣлъ прикурить, не успѣлъ насладиться.
***
Германцы прорвали фронтъ на ширину въ десять верстъ.
Германцы торжествовали. Они бѣжали по полямъ, по пригоркамъ, даже и особенно не таясь, не пригибаясь, — наперевѣсъ держа винтовки, съ перемазанными грязью и пылью рожами, перекошенными въ почти побѣдномъ, торжествующемъ крикѣ. Кричали взахлебъ и бѣжали, и Михаилу казалось — подъ ихъ ногами гудитъ земля.
Бѣлый день, и ясное солнце, и при такомъ чистомъ, ясномъ свѣтѣ видны до морщины всѣ лица — изломанныя воплемъ и искаженныя болью. Русскіе солдаты выскакивали изъ окоповъ какъ ошпаренные. Враги не набѣгали — наваливались. Шли сѣрой волной.
А передъ волной шинелей моталась и рвалась волна огня.
Ляминъ, сморщившись отъ боли въ недавней ранѣ, перескочилъ черезъ убитаго, черезъ другого, запнулся, повалился на колѣно, вскочилъ.
— Австріяки-и-и-и-и! — какъ рѣзаное порося, вопили солдаты.
Кромѣ штыкового боя, ихъ не ждало ничто; и штыковой бой начался быстро и обреченно.
Ляминъ безсмысленно оглянулся. Губы его вылѣпили:
— Батареи… гдѣ же… пулеметы… ребята…
Германцы катились огромной сѣросиней, почти морской волной. Живое цунами осѣдало. Спины горбились. Штыки вонзались въ шеи и подъ ребра. Вопли русскихъ и вопли врага слѣпились въ единый комъ краснаго, горячаго дикаго крика.
И тутъ заработали пулеметы. Ляминъ размахнулся, всадилъ штыкъ въ идущаго на него грудью австріяка — и рухнулъ на колѣни, и шлепнулся животомъ въ грязь.
«Еще не хватало… чтобы свои же… подстрѣлили… какъ зайца…»
Оръ взвивался до небесъ. Небеса глядѣли пусто, голо, бѣло.
Слишкомъ ясныя, безучастныя плыли надъ криками небеса.
Германцы бѣжали и бѣжали, и рубили воздухъ и русскія тѣла штыками, и остро и солено пахло; Михаилъ раздувалъ ноздри, скользко плыла вокругъ рукъ и живота земля, и солью шибало въ носъ все сильнѣе, солью и сладостью, и вдругъ онъ осозналъ — такъ пахнетъ кровь.
Ея было уже много вокругъ, крови. Въ ней скользили сапоги. Ее жадно впитывала, пила земля.
Земля сырѣла отъ крови. Михаилъ скосилъ глаза: рядомъ стоялъ офицеръ Лаврищевъ, онъ палилъ изъ револьвера куда попадется — въ бѣлый свѣтъ, какъ въ копеечку.
Лаврищевъ стрѣлялъ зажмурившись. Плотно, въ нитку сжавъ губы. Лаврищевъ не видѣлъ, какъ на него тучей подъ вѣтромъ несется австріякъ. Широкій, какъ таежная лыжа, штыкъ уже рвалъ гимнастерку и вспарывалъ тѣло. Ляминъ воткнулъ австріяку штыкъ въ животъ. Врагъ повалился, онъ падалъ слишкомъ медленно, и медленно, смѣшно падала его винтовка. Упали вмѣстѣ. Лаврищевъ разлѣпилъ бѣлые пустые глаза.
— Что… кровь?.. — невнятно сказалъ Михаилъ и протянулъ руку къ подбородку офицера.
Лаврищевъ зубами прокусилъ себѣ обѣ губы.
По губамъ Лаврищева, по подбородку текла кровь и стекала по шеѣ за глухо застегнутый воротникъ гимнастерки.
— Ваше благородіе… — прохрипѣлъ Михаилъ и непонятно какъ и зачѣмъ, нагло, глупо, ладонью вытеръ офицеру кровь съ губы.
И тутъ раздалась трещотка выстрѣловъ — сзади ли, спереди; колѣни Лаврищева подкосились, и онъ повалился въ грязь рядомъ съ убитымъ Ляминымъ германцемъ.
Онъ и мертвый продолжалъ дико, желѣзно стискивать въ кулакѣ револьверъ.
Солдаты выскакивали изъ окоповъ и опять валились туда. Кто: наши, враги, — уже было все равно. Изъ окопныхъ ямъ доносились крики и хрипы. Ляминъ увернулся отъ летящаго ему прямо подъ ребра штыка, самъ быстро и мощно развернулся и ударилъ. Штыкъ вошелъ въ плоть, Ляминъ рѣзко дернулъ винтовку назадъ и выдернулъ штыкъ изъ тѣла врага. Подъ ноги ему валился мальчикъ. Ляминъ ошалѣлъ. Отшагнулъ. Ловилъ глазами ускользающіе глаза подростка-солдата. Юный австріякъ, выронивъ винтовку, шарилъ скрюченными пальцами по воздуху.
«Ахъ-ха… какой… молоденькій…»
Мальчишкѣ на видъ сравнялось не больше четырнадцати.
«Брось… нѣтъ… не можетъ быть того… такихъ въ армію-то не берутъ цыплятъ… украдкой, что ли, убѣгъ…»
Мысли порвались въ клочья и улетѣли по свѣжему вѣтру; люди обступали людей, люди убивали, нападая, и защищались, убивая. Ляминъ спиной почуялъ: сзади — смерть, — повернулся, взмахнулъ прикладомъ и раскроилъ черепъ бѣгущему на него, громко топочущему по землѣ гололобому австріяку. Австріякъ осѣлъ на землю. Ротъ его еще кричалъ, а глаза застыли, и изъ разбитаго черепа на жадно дымящуюся землю текло страшное безымянное мѣсиво, похожее на снятое утрешнее молоко.
Артиллерія старалась, пулеметы били и рокотали, то-и-дѣло захлебываясь, и съ той, и съ другой стороны. Ляминъ слышалъ русскую ругань, нѣмецкія проклятья.
«Боже… сколько жъ насъ тутъ… а чортъ его знаетъ… тысячи тысячъ…»
Вдругъ онъ какъ-то странно, разомъ, увидалъ это жуткое поле, гдѣ въ рукопашномъ боѣ схватились два полка — русскій и германскій, — летѣлъ надъ землей и видѣлъ головы, затылки, узкій блескъ штыковъ, — изъ поднебесья они глядѣлись узкими, у́же кухонныхъ ножей, — мѣсилось бѣшеное тѣсто голубо-сѣрыхъ австрійскихъ шинелей и болотное — русскихъ, и чѣмъ выше онъ поднимался, тѣмъ плотнѣе смѣшивались эти слои — голубой и болотный; еще выше онъ забралъ, и цвѣта шинелей окончательно смѣшались, образовалось одно вспучивающееся, сѣрое, цвѣта голубиныхъ крыльевъ, тѣсто, и на него ложились тѣни облаковъ, облака оголтѣло мчались и то-и-дѣло заслоняли солнце, воздухъ рвался на черныя, бѣлыя, сѣрыя, голубыя, грязныя тряпки, рвалась и летѣла вверхъ вырванная съ корнемъ взрывами трава, рвалась и плакала земля. Онъ все выше забиралъ въ небо, и ему совсѣмъ не страннымъ это сначала казалось, а потомъ онъ словно опомнился — и какъ только опомнился, опять оказался въ гущѣ несчастныхъ людей, пытавшихся убить другъ друга, въ отвратительномъ человѣчьемъ варевѣ. И тогда понялъ — раненъ; и понялъ — въ спину; и понялъ — не убитъ. Еще не убитъ.
Еще — не умеръ.
— Еще… не…
Штыки лязгали другъ о друга. Рвались гранаты. Ляминъ лежалъ на землѣ, а земля вокругъ плыла и раздвигалась, и онъ непонятно, мягко и сильно вминался въ нее, проваливался, и понималъ: это кто-то наступаетъ сапогами ему на спину, — и рядомъ валялась винтовка, чужая винтовка, германская, и онъ тянулся къ ней, пальцы превратились въ огромные когти, онъ пытался дотянуться и схватить, и не получалось.
Чей-то тяжелый, какъ цирковая гиря, сапогъ наступилъ ему на руку; и запястье хрустнуло.
«Раздавилъ… сволочь…»
Ляминъ хотѣлъ завопить, но губы только трудно разлѣпились и безсильно, беззвучно захлопали другъ о дружку, какъ сырыя крылья вымокшей въ грязной лужѣ птицы.
Люди рычали, клокотали, какъ котлы съ кипяткомъ, валились, ползли и куда-то бѣжали; сцѣплялись и, соединенные въ страшномъ послѣднемъ объятіи, падали на землю и катались по ней, стремясь зубами дотянуться до чужой глотки, чтобы — подобно звѣрю — перегрызть.
— Мишка! Ты?!
Пальцы Лямина сгибались и разгибались, кровь пропитала подкладку и верхъ шинели. Темнокрасное, грязное пятно расползалось по спинѣ, и онъ этого уже не видѣлъ: онъ уже не летѣлъ надъ битвой. Онъ былъ просто тяжелораненымъ солдатомъ, и онъ лежалъ въ грязи.
— Бѣгутъ! Бѣгу-у-у-утъ!
Край сознанія, какъ лезвіемъ, рѣзанула счастливая мысль.
«Наши… переломили…»
Въ тепломъ соленомъ воздухѣ пахло спиртнымъ.
Сладкій, приторный запахъ. Коньякъ ли, ромъ.
Звонъ стекла: кто-то штыкомъ отбилъ горлышко бутылки.
И прямо рядомъ съ нимъ, лежащимъ, уже, можетъ, умирающимъ, — пилъ; и Ляминъ слышалъ, какъ громко, жадно глотаетъ, чуть не чавкаетъ человѣкъ; солдатъ? офицеръ? — все равно. Булькаетъ питье. Живое питье. Живой человѣкъ пьетъ.
«А я что, умеръ развѣ?»
Пальцы, скрюченные, воткнулись въ грязь и процарапали ее, какъ сползающую, сгорѣвшую вонючую кожу.
— Дай… мнѣ…
Человѣкъ услышалъ. Спиртнымъ запахло плотнѣе, острѣе.
Рука поднесла къ его губамъ пахнущее господскимъ напиткомъ стекло.
Онъ сталъ глотать и обрѣзалъ сколомъ губы.
Кровь текла изъ спины, коньякъ текъ кровью, губы пачкала кровь, щекотала шею.
— Ты лежи… Щасъ тебя наши… подберутъ… живъ!..
«Живъ, живъ, живъ», — пьяно, свѣтло билось подъ набухшими кровью надбровными дугами.
Налетали клубы плотнаго чернаго дыма; это были не газы, слава Богу, не они; такъ смрадно чадили ручныя гранаты австріяковъ.
Воздухъ пахъ ромомъ, коньякомъ, кровью, грязью и вывороченными изъ земли корнями деревьевъ и травъ.
Ляминъ заплакалъ, лежа на землѣ, и изъ глазъ у него вытекали пьяная кровь и горячій коньякъ.
А можетъ, ромъ, чортъ ихъ разберетъ, иноземныя зелья.
…И германцы, и русскіе спѣшили, до захода солнца, прибрать своихъ раненыхъ.
Не до убитыхъ ужъ было.
Выстрѣлы понемногу стихали. Ночь опускалась — чернымъ платкомъ на безумную канарейку.
Наконецъ настала такая тишина, что въ окопахъ стало слышно, какъ поютъ птицы.
Полковой хирургъ вытащилъ пулю изъ спины Лямина, изъ-подъ ребра. И опять ему повезло: хребетъ не задѣтъ, заживетъ — будетъ ходить, и бѣгать будетъ. И — бабъ любить.
Вытаскивалъ безъ наркоза: чтобы утишить боль, далъ глотнуть Лямину изъ своей фляги.
Потомъ вставилъ ему межъ зубовъ палку.
Ляминъ пьянѣлъ и трезвѣлъ, и грызъ палку, и стоналъ, и хорошо, что не оралъ, — онъ развѣ дите, орать? Боль, когда рѣзали и пулю изъ него тащили, казалась страннымъ огромнымъ чудищемъ, зубастымъ, чернымъ какъ уголь, съ дымной пастью, — изъ бабкиныхъ сказокъ.
— Ты… ты… тишей… тишей…
Косноязычіе вытекало изъ взнузданнаго рта пьяно, шепеляво.
— Да я и такъ ужъ осторожно съ тобой, пріятель… осторожнѣй-то некуда…
Называлъ хирурга на «ты», — то ли въ бреду, то ли запанибрата.
Когда рану зашивали — скрежеталъ зубами. Когда зашили — выдохнулъ, захохоталъ безъ звука, затрясся; и самъ вдругъ понялъ, что не смѣется, а плачетъ.
— Отъ радости? Что все кончилось? — спросилъ хирургъ, гремя рукомойникомъ, вытирая дрожащіе пальцы объ окровавленный фартукъ.
Палку вытащили у него изо рта. На языкѣ остался винный вкусъ зеленой, свѣжесодранной коры.
Ляминъ уже не слышалъ. Въ ушахъ вдругъ поднялась волной, встала на дыбы и обрушилась на затылокъ канонада, оглушила, придавила, погребла подъ собой, и онъ, распластавшись лягушкой, раскинувъ руки-ноги, будто парилъ въ ночи летучей мышью, животомъ ощущая подъ собой не доски хирургическаго военнаго стола, а пухъ ненужныхъ нѣжныхъ облаковъ, падалъ и падалъ на близкую, такую теплую, желанную землю, все падалъ и никакъ не могъ упасть.
***
…Пашка видѣла противогазъ не въ первый разъ. Однако онъ, какъ живой, выскальзывалъ изъ ея рукъ и странно, страшно блестѣлъ круглыми стеклами, — въ нихъ должны смотрѣть человѣчьи глаза. Ея глаза.
— Ты, давай… напяливай…
Она раздувала ноздри, и голову кружило, будто она одна выпила четверть водки. Глаза слезились.
Натаскивала противогазъ на голову, резина больно рвала, вырывала волосы.
«Я похожа въ немъ на индійскаго слона».
— По окопамъ!
Солдаты прыгали въ окопы, валились черными мѣшками: ночь красила все черной краской. Пулеметный грохотъ то стихалъ, то взрывался опять. По траншеѣ солдаты осторожно стали перемѣщаться ближе къ передовой; Пашка оглядывалась — у многихъ на рукавахъ, на шеяхъ, поверхъ штанинъ бѣлѣли на-спѣхъ обмотанные бинты.
«Раненые… и тоже — въ атаку хотятъ…»
Солдаты встали въ рядъ. Плечо вжималось въ плечо. Многорукій, многоногій, многоглавый змѣй. Сейчасъ змѣя будутъ терзать; поджигать; протыкать; колоть и рѣзать. А онъ, несмотря на отмирающіе члены, все будетъ живъ. Живъ.
Пашка слышала свистъ пуль. И все шептала себѣ подъ носъ: не впервой, не впервой, — будто этимъ «не впервой», опытнымъ и насмѣшливымъ, пыталась себя успокоить. Свистъ снаряда звучалъ страшнѣе. Онъ разрывалъ уши. Вотъ опять! Они всѣ повалились на дно траншеи. Пашку и солдатъ, стоявшихъ съ ней плечо къ плечу, обдало кровью и грязью. Коричневое, черное, красное сладко, жутко ползло по кривымъ лицамъ, затекало въ разодранные криками рты.
Ночь шла, но не проходила. Она просто не могла сдвинуться съ мѣста. Она застыла, и застыла грязь, и застыли звѣзды, и стыли на вѣтру, подъ вонючими газами брызги и лужи крови.
Сапоги командира застыли на краю траншеи. Пашка застыло глядѣла на нихъ. Носы сапогъ странно, дико блестѣли сквозь грязь и ужасъ.
— Братцы! Наверхъ! Живѣй!
Стыло блеснулъ подъ Луной штыкъ винтовки, что вздернула вверхъ рука командира.
Всѣ полѣзли изъ траншеи, молясь, шепча, матерясь, тихо вскрикивая: «Мама, мама…»
Офицеры стояли, всѣ до одного, съ нагими саблями. Сабли ледяно застыли, отражая мертвый лунный синій свѣтъ.
Человѣкъ думаетъ всегда, да; но тутъ и мысли застыли; онѣ больше не шевелились въ убитой страхомъ и безсловесной молитвой головѣ. Пашка не пряталась за спины солдатъ. Они всѣ уже стояли надъ траншеей. Поверхъ ямы. Поверхъ земли; поверхъ смерти.
Вражій пулеметъ строчилъ усердно и горячо. Солдаты около Пашки, справа и слѣва, падали. Она — не падала.
«Кто это придумалъ?! Къ отвѣту — за это — кого?!»
Стонъ разрѣзалъ, вскрылъ ей грудь. Вотъ сейчасъ она перестала быть солдатомъ Бочаровой.
Смертельно раненый солдатъ стоналъ, какъ обгорѣвшій на пожарѣ ребенокъ.
Стонъ разрѣзалъ ее, а спину хлестнулъ длинной, съ потягомъ, плеткой дикій крикъ:
— Впере-о-о-о-одъ! Братцы-ы-ы-ы-ы!
Тѣ, кто были еще живы, сначала медленно, потомъ все живѣй передвигали ноги по застылой, скованной ночнымъ морозцемъ землѣ; шли еще быстрѣй, еще; вотъ уже бѣжали. Небо вспыхнуло и раскололось.
«И небеса… совьются въ свитокъ…»
Края рваныхъ мыслей не слѣплялись, какъ края сырого пельменя или пирога. Они бѣжали впередъ, все впередъ и впередъ, такъ было приказано, и даже не командиромъ — кѣмъ-то сильнѣйшимъ, лучшимъ и высшимъ; тѣмъ, кого надо было безпрекословно слушаться, и они слушались, бѣжали и стрѣляли, на бѣгу неуклюже передергивая винтовочные затворы.
— Ребята-а-а-а! Проволока-а-а!
Они, слѣпые отъ страха и огня и ненависти, не видѣли, что добѣжали до вражескихъ загражденій.
Остановились. Таращились на проволочные ржавые мотки. Пашка подхватила подъ локоть раненаго солдата.
— Петюшка… слышь… ты только не упади… продержись…
— Мы сейчасъ, — хрипѣлъ солдатъ Петюшка, — щасъ всѣ тута… на проволокѣ энтой… на вѣки вѣчные повиснемъ…
Дикій вопль приказа вспоролъ суконный стылый воздухъ. Ночь не двигалась ни туда, ни сюда. Смерть, ея черный ледъ невозможно было разбить ни пешней, ни топоромъ, ни штыкомъ.
Живой ли человѣкъ отдалъ приказъ? А можетъ, это задушенно крикнуло черное дупло коряваго зимняго дуба?
— От-сту-па-емъ!
И тутъ стылый воздухъ внезапно и страшно сталъ таять, огонь вспыхнулъ по всѣмъ сторонамъ, куда глазъ ни кинь, вездѣ до неба вставалъ огненный, смертный трескъ. Люди пытались бѣжать, итти, ползти обратно, но они потеряли направленіе; голосъ командира больше не гремѣлъ надъ ночнымъ полемъ; солдаты безжалостно наступали слѣпо бѣгущими сапогами на раненыхъ, раненые у нихъ подъ ногами вскрикивали, молили о чемъ-то — вѣрно, забрать съ собой, спасти, — но человѣкъ спасалъ лишь себя, себя лишь несъ въ блаженное укрытіе. Пашка бѣжала и оборачивалась на бѣгу, и видѣла глаза, что блестѣли въ ночи на землѣ, и руки, что, корчась, съ земли тянулись. Страшнѣе этого она не видала ничего.
Рушились въ траншею, подламывая ноги, выбрасывая впередъ локти, падая на животы, на бокъ. Сползали на заду. Кто безъ крови, а кто въ крови. То не раны, то смѣхъ одинъ. Раненые тамъ, во полѣ, валяются. Она себя ощупала. Да вродѣ все хорошо съ ней.
— Богородица Пресвятая, — бормотала слѣпо-глухо, — спасибо, Матушка… пощадила на сей разокъ…
— Пашка, — ткнулъ ее солдатъ въ бокъ, — у тебя, милаха, хошь какой кусокъ въ карманѣ-тъ завалялся?.. а?.. жрать хочу, не смѣйся…
Она зажмурилась. Въ уши все ввинчивались огненные стоны тѣхъ, лежащихъ на землѣ, тѣхъ, что топтали сапогами, равняя съ землей.
Она обернула вымазанное землей лицо къ просящему солдату.
— Хоть бы одинъ, Лука. — Губы ея опять мерзли, не шевелились. — Хоть бы… кроха…
Солдатъ вдругъ наклонился, будто собрался падать, и припалъ лбомъ къ ея плечу.
— Пашечка!.. мы-то живы…
Изъ-подъ прижмуренныхъ ея глазъ сочились слезы, прочерчивали по грязнымъ щекамъ двѣ блестѣвшія подъ Луной узкія дорожки.
— Лукашка… брось…
Солдатъ трясся всей спиной, всѣмъ тѣломъ. Кажется, хотѣлъ Пашку обнять. Она этого испугалась.
Присѣла, прислонившись спиной къ глинистой стѣнѣ траншеи. Земля одновременно отдавала ей и свой холодъ, и свое тепло. Подъ закрытыми вѣками вспыхивали и гасли красныя воронки.
Потомъ ея вѣки проткнули насквозь лица, маленькія, меньше спичечной головки, и ярко горящія. Лица глядѣли изъ набѣгающей тьмы, родныя. Пашка шептала имена. Силуанъ. Митя. Севка. Юрій. Агаѳонъ. Евлампій. Глѣбъ. Игнатъ. Ванечка.
— Ванечка… — прошептала.
У солдата Ванечки, молоденькаго совсѣмъ, картаваго, родомъ изъ костромского Парѳентьева-Посада, веснушки на веселой рожѣ странно складывались въ рисунокъ птицы, взмахнувшей крыльями.
Ея солдаты. Ея друзья.
Горящія въ ночи лица надвинулись, расширились, надавили на вѣки горячей, молчаливой просьбой, крикомъ о спасеніи.
— Милые… иду къ вамъ…
Пашка сама не понимала, что и зачѣмъ дѣлаетъ. За нее это понимало ея мощно, крѣпко бьющееся въ ребра сердце; оно расширилось, заняло все внутри нея, разрывало ее — на слезы, на нелѣпые взмахи рукъ, на вздроги неуклюже ползущихъ ногъ. Она выползла изъ окопа и уже подползала по кофейной, шоколадной грязи къ проволочнымъ загражденіямъ русскихъ войскъ, когда сзади раздался хриплый волчій вопль:
— Пашка!.. Куда!..
Она не слыхала. Ползла. Изрѣдка тамъ, сямъ рвали ночь выстрѣлы. Пашка ложилась лицомъ въ грязь и замирала. Она, какъ лиса, притворялась убитой. Когда утихало, ползла снова. Въ перваго раненаго уткнулась голой башкой. Боднула его, какъ баранъ. Замерла. Слушала воздухъ. Ночь текла чернымъ горячимъ грибнымъ отваромъ. Пашка, не вставая съ земли, закинула руку раненаго себѣ за загривокъ, подлѣзла подъ него, ощутила его грудь на своей спинѣ, на лопаткахъ. Поползла обратно.
Солдатъ тяжело давилъ на нее — увѣсистый, рослый. Пашка подъ нимъ себя жукомъ чувствовала, копошащимся въ чьемъ-то жестокомъ кулакѣ. Вотъ окопъ. И солдаты лѣзутъ, раненаго подхватываютъ, волокутъ. Она даже отдышаться не успѣла: не хотѣла. Ея тѣломъ двигала сила, гораздо болѣе могучая, нежели желанье спастись.
«Спасти. Ихъ — спасти!»
Второго волокла. Третьяго. Дышала съ натугой. Вмѣсто легкихъ въ груди играла старая дырявая батькина хромка. Она опять отползала отъ родной траншеи и ползла впередъ, ползла туда, на нейтральную полосу, и тамъ вокругъ нея то-и-дѣло рвалась тьма: стрѣляли, и не попадали.
«А заговоренная я».
Прижаться къ землѣ. Вжаться въ нее. Еще плотнѣе. Еще крѣпче, безусловнѣе.
Такъ прижаться, чтобы ни одна чортова пуля не царапнула тебя, не сразила.
Ночь, ты что, и вправду застыла кускомъ черной пахучей смолы? Когда ты, мать твою въ Бога душу, растаешь?
Она уже ловко подползала подъ раненаго; уже ловчѣй ползла съ нимъ на спинѣ. Возила щекой по землѣ, отирая землей и грязью липкій, какъ медъ, потъ. Сбрасывала спасеннаго въ окопъ, и его тутъ же подхватывали на руки; и кто-то снизу крикнулъ пронзительно:
— Пашка! Господь не забудетъ тебя!
Насталъ мигъ, когда она, ловя воздухъ ртомъ, больше не могла ползти за ранеными: тѣло уже не слушалось. Ноги и руки люто ныли. Она столкнула въ траншею послѣдняго, спасеннаго ею солдата и растянулась на землѣ безъ силъ. Все куда-то провалилось: и земля, и небо, и выстрѣлы, и стоны. Остались только боль, и мокрое ея лицо, и стыдъ — почему силы покинули тебя, сильная ты вѣдь, Пашка, а что сплоховала, такъ тебя и растакъ.
А потомъ и стыдъ улетѣлъ. Зато прилетѣлъ разсвѣтъ, наконецъ-то.
И сизый голубиный тусклый свѣтъ нѣжно, пуховой деревенской шалью, укрывалъ Пашку, мертво лежащую на краю окопа: куда рука, куда нога, пластается по землѣ звѣремъ, землю обнимаетъ, а земля ее несетъ на черномъ блюдѣ, — всю ее, гордую перелетную, подбитую птицу, со всѣмъ ея пухомъ, костями и потрохами, перемазанное сильное, жилистое бабье тѣло, тяжелую простоволосую голову, и волосы ужъ отросли, стричь пора, и земля подъ ногтями, и на землѣ — отпечатки ладоней, и полосы крови прочерчиваютъ землю, колкій утренній снѣгъ.
…Раненыхъ на пунктѣ сбора спросили, кто жъ такой смѣлый ихъ вынесъ съ поля боя. Раненые въ одинъ голосъ повторяли: «Пашка, Пашка Бочарова».
Пашку къ вечеру вызвали къ командиру. Глаза ея потерянно выхватывали изъ сумерекъ мѣдныя пуговицы на командирскомъ кителѣ, серебряныя лопасти креста, морщинистые пальцы, виски офицера, будто усыпанные жесткой холодной порошей, — а шевелюра темная, — блескъ вставного серебрянаго зуба, тусклую красную ягоду лампадки у иконы, надъ головами людей, въ красномъ углу. У нея занималось дыханіе, вдохъ и выдохъ давались съ трудомъ. Она стѣснялась этого простуднаго, хриплаго сопѣнія. Старалась тише дышать. Опустила глаза и глядѣла себѣ подъ ноги, на носки грязныхъ сапогъ.
«Грязная я… И сапоги не почистила… кляча водовозная…»
— Солдатъ Бочарова, ближе подойди.
И командира глотка странно, съ дрожью, хрипѣла.
Пашка шагнула впередъ и чуть не наступила сапогомъ на сапогъ командира. Вплотную, носъ къ носу, стояли сапоги — начищенный командирскій и грязный Пашкинъ.
— Солдатъ Бочарова! Награждается орденомъ святого Георгія четвертой степени… за исключительную доблесть, проявленную при спасеніи множества жизней русскихъ солдатъ подъ огнемъ… непріятеля…
Пашка закрыла глаза, потомъ опять открыла ихъ. Смотрѣла въ лицо командиру.
По щекамъ командира катились слезы, а ротъ улыбался, и желѣзный зубъ звѣздой блестѣлъ.
Пальцы командира смущенно зашарили по Пашкиной груди, прикрѣпляя къ гимнастеркѣ орденъ, и Пашка скосила глаза и видѣла, какъ въ центрѣ серебрянаго креста съ тяжелыми, какъ у мельницы, лопастями скачетъ всадникъ на бѣломъ эмалевомъ конѣ, и въ рукѣ у всадника крохотное копье, и имъ онъ разитъ змѣя. Голова у нея закружилась, она подняла взглядъ, сцѣпила зубы и выпрямилась, а командиръ, кряхтя, все возился съ орденомъ, не могъ прикрѣпить, и крестъ все падалъ ему въ ладонь.
Наконецъ получилось.
Слишкомъ близко моталось лицо командира. Глаза въ глаза воткнулись.
— Служу Царю и Отечеству! — громко выкрикнула Пашка, и щеки ея, отъ взбѣжавшей въ лицо ярой густой крови, стали краснѣе лампады.
И случилось странное. Ей казалось — все колышется, плыветъ во снѣ. Командиръ обнялъ ее, какъ отецъ — дочь, и вытеръ мокрую отъ слезъ щеку объ ея погонъ, о болотную траву гимнастерки. И, отнявъ лицо, ея ладонью утирался.
— Спасибо тебѣ, Пашенька. Спасибо. Спасибо, родная, — только и повторялъ, тихо и сбивчиво, еле слышно, стискивая руками ея плечи, и сквозь рукава поджигалъ Пашкину кожу огонь командирскихъ ладоней, и Пашка, оборачиваясь, оторопѣло видѣла: всѣ вокругъ, въ ставкѣ, стояли навытяжку, молча, и у всѣхъ глаза солено блестѣли.
***
Война катилась, война варила свое варево, а люди — свое, и война ревновала людей къ людской пищѣ, она злобно и торжествующе разбила вражьими снарядами полевую кухню, и голодъ заползъ въ желудки солдатъ длинными черными червями. Очумѣло трещали пулеметы. Новобранцы кричали и громко молились. Отдали приказъ о наступленіи. Солдаты выбирались изъ окоповъ и бѣжали впередъ, и падали, и проклинали міръ, себя и Бога. А потомъ, лежа на землѣ, умирая, просили у Бога прощенья, но Онъ не слышалъ ихъ. Дымъ налеталъ и скручивалъ грязной тряпкой, выжималъ легкія, люди кашляли и падали, крючась, прижимая руки къ животу, ихъ рвало прямо на сохлую траву, на наледь, на липкую, какъ черный клей, землю. Солдаты выдвинули штыки впередъ, бѣжали, не видя и не слыша ничего — еще живые, уже безумные. Германцы отбивались. Русскіе напирали. Всѣмъ казалось: еще немного, и это будетъ послѣдній бой!
Пашка стояла на краю вражескаго окопа, когда ея нога вдругъ налилась горячей горечью и желѣзно онѣмѣла. Она падала, не вѣря, что падаетъ, и не вѣря, что именно такая бываетъ смерть. Рядомъ съ ней орали: «Ребята! Непріятель бѣжитъ! Мы гонимъ его! Гонимъ!» Съ винтовками наперевѣсъ бѣжали солдаты, съ лицами злыми и радостными. Пашка лежала, такъ смирно лежитъ на землѣ лишь срѣзанный серпомъ колосъ, и рядомъ съ ней такъ же тихо, покорно лежали раненые солдаты. Самый ближній плелъ языкомъ:
— Боженька… Божечка… молю Тебя… умоляю… дай мнѣ жить… дай…
Нога все горячѣла и твердѣла, и сапогъ наливался кровью, какъ бокалъ виномъ. Пашка глядѣла въ небо: тамъ сквозь лоскутья тучъ робко вспыхивали и гасли звѣзды. Она не хотѣла смотрѣть въ небо. Слишкомъ далекое, чужое было оно.
Она закрыла глаза.
«Умирать буду… да наплевать… когда-то — надо…»
Появились санитары съ носилками. Взвалили ее на носилки. Несли, и тутъ она опять глаза открыла и міръ видѣла — бѣшено ревущій, а потомъ опять тихій, безъ шороха и свиста, бѣдный, подорванный сумасшедшими людьми міръ, и на пунктѣ первой помощи ей промывали и перевязывали рану, и она не издала ни крика, ни стона, ни звука. До санитарнаго поѣзда ее, вмѣстѣ съ другими ранеными, везли въ кузовѣ тряскаго грузовика, и она лежала и видѣла другихъ людей, что рядомъ съ ней лежали, не поворачивая головы, — будто сама стала зрячимъ дощатымъ кузовомъ машины, зрячимъ солнцемъ, зрячимъ равнодушнымъ небомъ.
Ихъ доставили въ санитарномъ поѣздѣ въ Кіевъ, и на вокзалѣ, что кишѣлъ ранеными и калѣками, стоналъ однимъ попрошайнымъ, длиннымъ липкимъ стономъ, ихъ снова закинули, какъ безсловесныя дрова, въ новый грузовикъ, и долго везли, и тряслись раненыя бѣдныя тѣлеса по булыжнымъ кіевскимъ мостовымъ; а въ Евгеньевской больницѣ такъ же грубо сгрузили и разнесли на носилкахъ по палатамъ, и уложили каждаго на койку, и Пашка озиралась — кругомъ мужики, она одна тутъ баба, а какъ же подъ себя тутъ въ судно медицинское ходить, вѣдь стыдоба одна!
«Значитъ, придется въ нужникъ пѣшкомъ шастать. Некогда разлеживаться».
Поглядѣла на свою забинтованную ногу. Ногу ея санитары положили поверхъ одѣяла, какъ замерзшее въ зимнемъ сараѣ бревно. Пришелъ одинъ докторъ, затѣмъ другой, послѣ и третій; ногу мяли, ощупывали, тыкали въ плотные бинты жесткими пальцами, подымали и опускали, провѣряя подвижность тазобедреннаго сустава. Доктора говорили межъ собой на красивомъ птичьемъ языкѣ, и Пашка ловила ухомъ лишь отдѣльныя слова: инъекціи… боль… морфинъ… спиртовые компрессы… стрептоцидъ, іодоформъ… изсѣченіе омертвѣвшихъ тканей… загрязненіе землей… хирургическое вмѣшательство… и еще много чего ловило ухо, ловило и упускало, и съ внезапной жалкой мольбой она глядѣла въ лица докторовъ, на ихъ умные лбы, на бѣлыя снѣговыя шапочки: ну помогите! помогите! я не умру? не умру?.. — а потомъ стыдно лицо отвернула, глядѣла пусто, холодно въ закрашенную масляной краской больничную голую стѣну.
«Да и пускай къ чертямъ умру!»
Шли дни и мѣсяцы, она дней не считала, календаря въ больницѣ не водилось, лишь сестру милосердія можно было попытать тихонько: скажи, молъ, милушка, какое нынче число? И годъ какой, забыла. Ей сообщали и число, и мѣсяцъ, и годъ. На вопросъ: идетъ ли война? — ей отвѣчали: а какъ же, идетъ, куда она денется, — и темнымъ заволакивало подо лбомъ, и жаромъ полыхали безслезныя вѣки.
***
Руки, ноги, головы, туловища. Оторванныя ступни. Безпризорныя, навѣкъ брошенныя и людьми, и птицами, и небесами тѣла.
Не приберутъ. Не похоронятъ. Не споютъ литію.
Полкъ сидѣлъ въ захваченныхъ давеча германскихъ траншеяхъ. Лямину безумно хотѣлось ѣсть и курить. Онъ не зналъ, чего больше хотѣлось. Ему все равно было, какое тутъ рядомъ село или городъ какой, а завтра, видать по всему, ихъ всѣхъ ждало большое сраженіе; и уже давно всѣ, и онъ въ томъ числѣ, перестали думать, послѣднее оно въ этой войнѣ или будетъ еще сто, тысяча такихъ сраженій, и еще сотни тысячъ живыхъ людей станутъ мертвецами.
Мысль притупилась. Казалось: война шла всегда, и будетъ итти всегда.
Ляминъ пытался пронизать темень взглядомъ.
— Не видать ничего, братцы…
— А вонь-то, вонь-то какая…
— Да, смердятъ.
— Трупы воняютъ… не могу больше терпѣть, братцы…
Для тепла солдаты садились на мертвецовъ, чтобы не сидѣть на холодной землѣ. Михаилъ вытянулъ ноги. Онѣ гудѣли. Онъ положилъ сначала одну ногу, потомъ другую на валявшійся передъ нимъ въ траншейной грязи трупъ. Ногамъ стало мягче, привольнѣй. Михаилъ бросилъ руку вбокъ — и пальцы ощутили мертвое лицо, мертвые чьи-то губы, носъ. Онъ отдернулъ руку и выматерился.
Солдаты рядомъ съ нимъ вздыхали: пожевать бы чего! — кто-то дрожалъ и стучалъ зубами такъ громко, что всѣ этотъ костяной стукъ слышали. Ляминъ сидѣлъ на трупѣ и самъ себѣ дивился.
«Вотъ сижу на мертвякѣ, и меня не тошнитъ, и даже не блюю, и даже… улыбаюсь…»
Онъ и правда попытался тихо, дико улыбнуться. Губы раздвинулись.
— Ты чо скалисся, Мишка?
Онъ опять стиснулъ губы.
Его мертвецъ спросилъ? Или онъ самъ себя спросилъ? Или другъ, еще живой?
«Всѣ мы тутъ чертямъ друзья. И за то, что человѣковъ убиваемъ, — точно въ аду поджаримся, всѣ до единаго».
Думалъ страшно и холодно: вотъ сижу на трупѣ, а почему такъ тепло, онъ что, не мертвый подо мной? Вытянулъ руку, чтобы пощупать трупъ, и рука вдругъ попала во что-то скользкое, и вправду теплое, плывущее, расползающееся подъ слѣпыми пальцами.
Тьма не давала разглядѣть, но Михаилъ и безъ того понялъ: подъ пальцами, ладонью — развороченный, взрѣзанный животъ.
Тьма поднялась изнутри, дошла до глазныхъ впадинъ и застлала, смяла обрывки мыслей.
Онъ еще мигъ, другой сидѣлъ на еще не остывшемъ трупѣ; еще держалъ руку въ чьемъ-то разорванномъ брюхѣ, еще пальцы щупали скользкость кишокъ; и не помнилъ, какъ руку вынулъ, и не чуялъ, какъ, мягко заваливаясь набокъ, упалъ.
…очнулся въ блиндажѣ. Въ лицо ему остро свѣтилъ электрическій фонарь.
— Очухался. Солдатъ! Эй!
Михаилъ щурился на свѣтъ.
— Фамилія!
— Ляминъ.
— Сѣсть можешь?
Ляминъ, кряхтя, сѣлъ.
— Чай сейчасъ дадутъ. Удержишь?
Онъ протянулъ обѣ руки къ подстаканнику. Обжегъ ладони, но руки не отдернулъ. Поднесъ чай къ носу. Въ граненомъ толстомъ стаканѣ коричнево, густо колыхался щедро заваренный чай — заварку добрая рука мощно сыпанула въ стаканъ, она разбухла и заняла полстакана.
— Не обезсудь, безъ сахарку.
Онъ уже хлебалъ чай, обжигая ротъ, дуя въ стаканъ, грѣя руки, пилъ и пилъ, вглатывалъ коричневый огонь, стараясь забыть, а можетъ, запомнить.
Вотъ сейчасъ захотѣлось кричать.
Онъ съ трудомъ подавилъ крикъ, загналъ внутрь себя, какъ березовымъ швыркомъ.
Вокругъ него, сзади и сверху пахло землей, кровью, снѣгомъ и горячимъ чаемъ.
Тутъ подоспѣла атака непріятеля. Снаряды лупили сначала мимо, потомъ все болѣе точной становилась наводка. Прямо надъ блиндажомъ разорвался снарядъ, и голосъ рядомъ тихо сказалъ:
— Выходъ бревнами завалило. А можетъ, и землей.
«Все, это все, кончено».
Ляминъ все еще держалъ въ рукахъ горячій подстаканникъ, когда ахнуло такъ мощно, что уши пронзила толстая спица рѣзкой, яркой боли. Онъ прижалъ стаканъ къ груди. Чай выплеснулся ему на портки. Жахнуло еще, снарядъ пробилъ крышу блиндажа, и на Лямина стали валиться люди. Чужой спиной ему придавило лицо. Чужой рукой — горло. Фонарь погасъ. Онъ валялся въ углу блиндажа, засыпанный землей, заваленный бревнами и людьми. Убиты они или ранены, онъ не зналъ. Онъ могъ еще думать; они уже не могли.
Снаряды выли и падали, выли и разрывались — то надъ блиндажомъ, то вблизи, то поодаль. Обстрѣлъ шелъ плотный и частый. Германцы не жалѣли боевыхъ запасовъ. Ляминъ пошевелился, выпросталъ голову изъ-подъ мертвой спины. Убитый офицеръ. Минуту назадъ онъ угощалъ его чаемъ.
Рукавъ гимнастерки промокъ отъ крови.
Онъ вывернулъ руку, пытаясь разсмотрѣть, куда ранило.
Это осколки стакана врѣзались ему въ локоть, въ плечо.
…Приказъ итти въ атаку онъ уже воспринималъ такъ, какъ автомобиль воспринимаетъ поворотъ руля. Повернули — ѣдетъ. Затормазили — встаетъ. Они всѣ и правда стали уже немного не людьми. Что-то желѣзное, шестереночное появилось въ нихъ.
Перебрались черезъ ничейную полосу. Ляминъ оглянулся: лица у солдатъ тяжелыя, жестко-квадратныя, скулы выпираютъ надъ воротниками шинелей; идутъ ровно, размѣренно, неуклонно. Идутъ и знаютъ: вотъ сейчасъ убьютъ.
Смерти боялись все такъ же. Но она такъ пропитывала собой все сущее, какъ причастное вино — причастный хлѣбъ, что страхъ этотъ былъ уже не страхъ, а такъ, баловство ребячье. Надъ нимъ смѣялись; надъ собой — смѣялись.
Проволочныя загражденія германцевъ стояли цѣленькія. Огонь русской артиллеріи не тронулъ ихъ. Солдатъ Рындыкъ, Мишкинъ пріятель, сплюнулъ досадливо.
— Ишь. Будто щасъ натянули. Не проберемся мы черезъ эти колючки! И мечтать нечего!
Пятились.
Всѣ пятились, а Ляминъ повернулся къ германскимъ окопамъ спиной.
Рындыкъ ощерился.
— Ты, гли-ко, молчатъ, не пуляютъ…
И только сказалъ — вокругъ Мишки земля встала черными вѣерами.
Всѣ скопомъ побѣжали, грязь подъ ногами свински чавкала. Молча бѣжали. Врагъ стрѣлялъ имъ въ спины. Вотъ одинъ упалъ. Вотъ другой. Ляминъ сильнѣе сжалъ стволъ взятой наперевѣсъ винтовки.
«Сейчасъ… въ меня…»
Не ошибся. Пуля, пропѣвъ, вошла подъ колѣно. Еще пронзительнѣе пропѣла другая — и раздробила локтевой суставъ. Третья просвистѣла — воткнулась въ бокъ; стало невыносимо дышать. Тьму ртомъ ловилъ, откусывалъ, воздухъ грызъ.
«Мѣтко стрѣляетъ нѣмецъ… на мушку — почему-то — подлецъ — меня… взялъ…»
Ляминъ еще немного пробѣжалъ, подволакивая раненую ногу. Потомъ боль скрутила рѣзкой, мгновенной судорогой, и онъ упалъ.
…сколько такъ лѣжалъ, не могъ бы сказать. Часъ? День? Два?
Рядомъ съ нимъ умирали люди. Они просили не о жизни — о смерти.
— Боже… Господи… возьми меня скорѣй къ Себѣ… не мучь Ты меня больше…
— А-а-а!.. Умереть… сдохнуть хочу…
Солнце взошло. Наползли тучи. Укрыли его — такъ немощную старуху укрываютъ теплой шалью. Тучи бѣжали и летѣли, и рвались, и снова кто-то громадный, молчащій сшивалъ ихъ и размахивалъ ими надъ бездной.
«А если возьмутъ въ плѣнъ?.. да, въ плѣнъ…»
Мысль о плѣнѣ не казалась позорной. Это была мысль о жизни.
А боль все росла, мощнѣла и становилась сильнѣе жизни.
…онъ слышалъ голоса. Голоса возникали то справа, то слѣва, то поднимались, росли изъ-подъ земли, и тогда онъ пугался — это не могли быть голоса людей, онъ понималъ: это голоса подземныхъ, адовыхъ существъ, и вотъ оно, наказанье за многогрѣшную жизнь, за эту войну, гдѣ погрязли они, потонули въ крови и проклятьяхъ.
«Адъ, онъ настоящій… онъ — близко…»
Голоса исчезали, и онъ думалъ обнаженно и открыто, словно у него былъ голый мозгъ, безъ черепа, нагло подставленный всѣмъ вѣтрамъ: а вѣдь вотъ онъ, настоящій-то адъ! Вотъ — онъ въ самой его сердцевинѣ! И не надо далеко ходить, и въ старыхъ пожелтѣлыхъ Библіяхъ его искать. Они — въ аду, они сами — кровеносные сосуды ада, его сухожилія и кости, его черное нищее сердце, и оно брызгаетъ черной кровью, и подкатывается къ горлу міра, къ ангельскимъ небесамъ.
«Мы — и есть адъ! А ангеловъ — нѣтъ! Есть только адъ, а Бога — нѣтъ!»
Вспомнилъ чай, что началъ пить намедни въ блиндажѣ. Вспомнилъ бѣднаго офицера. Вспомнилъ много чего, и нужнаго и ненужнаго; солнце стояло въ зенитѣ, потомъ катилось внизъ, въ сѣтчатую лузу прибрежныхъ кустовъ, господскимъ, слоновой кости, бильярднымъ шаромъ.
Стрѣляли рѣдко. Четко.
«Можетъ, снайперы…»
Хотѣлось чаю. Хотѣлось горячаго супу. Воображалъ миску съ супомъ, и косточка дымится мозговая.
Поворачивалъ голову. Его рвало на занесенную снѣгомъ ржавую сухую траву.
Давно сгибли подъ лобной костью всякія жалкія мыслишки о санитарахъ, о госпиталяхъ, о спасеніи, о непонятной будущей жизни, — давно ужъ мыслила не голова, а все израненное тѣло — сочащіяся кровью руки, ноги. Бокъ тоже мыслилъ; бокъ говорилъ ему: вмѣсто меня у тебя тутъ уже мѣсиво изъ обломковъ костей и крови, а можетъ, и селезенка пулей проткнута, а почему же ты все еще живешь, скажи?
…вдали лязгали желѣзомъ о желѣзо. Желѣзный брякъ раздавался, и плыли запахи.
Пахло супомъ.
Германцы ѣли супъ. Гремѣли котелками.
…возникала великая тьма, а потомъ истаивала, и вмѣсто нея надъ головой, слишкомъ близко, появлялись огромныя птицы. Птицы дикой величины снижались, хлопали адскими черными крыльями, и тѣло понимало — это черные ангелы ада, и сейчасъ они у него выклюютъ глаза. Тогда онъ изъ послѣднихъ силъ сжималъ вѣки и скалилъ зубы.
…день умиралъ, рождалась ночь, и выстрѣловъ не слышно было. Ляминъ лежалъ въ полѣ средь мертвыхъ; вѣрнѣе, лежало то, что осталось еще на свѣтѣ вмѣсто Лямина.
Когда появились люди, у нихъ за спинами дрожали и бились на вѣтру бѣлыя простыни небесныхъ крыльевъ. Ротъ Лямина давно утерялъ и рѣчь, и шопотъ. Губы лишь вздрагивали. По этимъ дрожащимъ губамъ санитары и опредѣлили: этотъ — живой.
— Клади, ребята, на носилки! Разъ-два-взяли! Потащили!
Ангелы неба взвалили его на носилки и побѣжали, низко пригибаясь къ землѣ, и рѣдкія одиночныя пули вспахивали утренній молочный, стылый туманъ.
…онъ обрѣлъ способность слышать. Ангелы говорили межъ собой. Они говорили на русскомъ языкѣ. Онъ былъ не въ плѣну. Онъ это понялъ.
Промыть рану. Перевяжутъ на пунктѣ. Глотокъ спирта? Расширить сосуды. Потеря крови. Много потерялъ? Переливаніе въ госпиталѣ. Когда везти? Куда? Поѣздъ на Москву санитарный. Поѣздъ на Петроградъ? Лучше. Доставить на вокзалъ. Какой дорогой? Въ объѣздъ?
…эхо звенѣло, расходилось кругами тумана: въ объѣздъ, въ объѣздъ, въ объѣздъ…
Разумъ не помнилъ ни вагона, ни поѣзда. Тѣло — помнило все: и питье, теплую, со вкусомъ желѣза, воду изъ кружки, что подносили ко рту, и скудную ѣду на станціяхъ — супъ рататуй изъ жестяной миски, черствую ржаную горбушку, и онъ здоровой рукой размачивалъ ее въ супѣ; и жесткую вагонную полку, и одѣяло, что то-и-дѣло сваливалось на вагонный полъ, и его подтыкали то-и-дѣло; и сквознякъ, и обстрѣлы, и вопли матерей надъ убитыми въ поѣздѣ дѣтьми, и карканье зимнихъ воронъ, и сбивчивую, тонкую какъ слеза, задыхающуюся въ духотѣ и ужасѣ нѣжную молитву — чужой тонкій голосъ велъ ее за собой, какъ гуся, вывязывалъ на невидимыхъ коклюшкахъ, кололъ иглами словъ истончившуюся, бѣдную, ветхую ткань бытія.
Михаила Лямина привезли съ театра военныхъ дѣйствій въ Петроградъ, въ Дворцовый госпиталь, и положили, какъ особо тяжело раненаго, въ горячечномъ бреду, съ его опасными и уже, за время долгаго пути, воспаленными раненіями въ ногу, плечо и спину, въ Александровскій залъ Зимняго дворца.
***
…Онъ старался, старался и все-таки разлѣпилъ присохшія другъ къ дружкѣ вѣки. Ему надоѣла тьма подо лбомъ. Тьма выѣдала его изнутри. Сгрызла всю радость и надежду; и онъ сталъ одной бѣлой, нищей, обглоданной костью. Уже не человѣкомъ.
Глаза робко ощупывали глубину пространства и тонули въ ней. Опять выныривали.
Сознаніе то включалось, то выключалось электрической диковинной лампочкой; когда загоралось — хотѣлось кричать отъ боли и стыда.
Когда гасло — дышалъ громко, глубоко, облегченно.
Снова зажигался подъ черепомъ свѣтъ. Свѣтъ билъ откуда-то сбоку, вродѣ какъ изъ-подъ длинной, прозрачно и безсильно висящей гардины, изъ-подъ завихренья снящейся метели. Свѣтъ помогалъ разсмотрѣть то, чему сознаніе отказывалось вѣрить.
Анфилады. Лѣпнина и позолота. Новогоднее сверканіе хрусталя.
Стонъ, длинный, полный близкой смертной муки, съ сосѣдней койки.
Ляминъ пошевелилъ пальцами. Пальцы — двигались.
Почему все вокругъ бѣлое? Бѣлое, зимнее?
«Зима? Сколько жъ я тутъ провалялся?»
Гдѣ — тутъ, а самъ толкомъ не понималъ. Опять голова поплыла, поѣхала.
…Бѣлымъ коленкоромъ затянуты стѣны. Чисто выбѣленъ потолокъ. Лѣпнина громоздитъ ледяныя гроздья. Странный стукъ. Онъ думалъ, это идутъ часы, а это стучали каблуки врачей и сестеръ милосердія по мрамору пола и лѣстницъ.
Далеко разносился въ бѣломъ воздухѣ ледяной, молоточковый стукъ.
Тонко, нѣжно тянуло съѣстнымъ: нитка запаха то рвалась, то опять передъ носомъ крутилась.
«Гдѣ-то рядомъ ѣду стряпаютъ. Я въ лазаретѣ, это вѣрно. Вотъ и на койкахъ люди кряхтятъ. Почему лазаретъ похожъ на дворецъ?»
Туманно плыли, свѣтло вспыхивали и умирали голоса. Иногда перекрещивались. Нельзя было понять, кто говоритъ и что. Ни одного знакомаго слова.
«А можетъ, я въ плѣну. И это госпиталь австріяцкій».
Порывался встать. Изо всѣхъ силъ уперся локтями въ матрацъ. Боль прошила руку насквозь, а потомъ туго стянула ее — и кровь перестала ходить въ ней туда-сюда.
Шире распахнулъ глаза: прямо надъ его головой съ потолка, изукрашеннаго виноградной лѣпниной, свѣшивалась тяжеленная, какъ германскій танкъ, массивная люстра.
Онъ прижмурился.
«Чего добраго, рухнетъ… Ринется внизъ… Аккуратъ мнѣ на лобешникъ…»
Прислушался: тихо, зимняя тишина, и снаряды не рвутся.
«А можетъ, возьмутъ да подорвутъ все это великолѣпье сейчасъ. Какъ ахнетъ…»
Повернулъ на подушкѣ увѣсистую, какъ грузчицкая гиря, голову.
Въ зимнемъ бѣломъ маревѣ моталась ширма, за нею кто-то тяжко, долго опять стоналъ.
Донесся заполошный крикъ:
— Сестричка!.. Мамочки! Мамочки! Ма…
Крикъ сорвался въ бѣлизну, треснулъ и раскололся безстрастнымъ льдомъ. Каблуки опять стучали. Кто-то спѣшилъ, бѣжалъ.
«Опоздали… можетъ, онъ уже…»
— Докторъ! Докторъ! — Голосъ сестры взвился чисто и ярко, будто не въ госпиталѣ она стояла — на морскомъ побережьѣ, и чайки въ выси отвратительно, пронзительно вопили. — Пожалуйста! Подойдите! Скорѣе!
Куда она кричала, въ какую бѣлую пропасть?
Кто-то шелъ, тяжело переваливаясь; чуть слышный, доносился легкій древесный хрустъ паркета.
— Ахъ ты Боже ты мой…
— Докторъ! Что принести? Вы командуйте! Я мигомъ!
— Дѣточка… тащите изъ Петровскаго зала шприцы… они тамъ кипяченые стоятъ… въ желѣзномъ кювезѣ… прямо у входа столикъ, увидите… быстро!
Каблуки стучали быстро и часто, и погасъ, исчезъ дробный стукъ.
Ширма качалась, вздымалась и скрывала за собой то, что никому видѣть нельзя было; если на поляхъ сраженій они всѣ умирали на виду, на глазахъ другъ у друга, у желѣзныхъ широколобыхъ адскихъ машинъ, у командировъ и неба, то здѣсь, въ лазаретѣ, все должно быть шито-крыто.
— Бѣдный ты… — вслухъ прохрипѣлъ Ляминъ.
И не понять, кому вышепталъ: то ли ему, за ширмой, то ли себѣ.
Стукъ опять появился и нарасталъ. Превратился въ легкій частый звонъ.
«Словно кобылка мѣдными, бѣдными подковами подкована. Пьянымъ кузнецомъ…»
Изъ-за ширмы доносились рѣзкіе вскрики, они кромсали и протыкали насквозь бѣлый воздухъ; потомъ снова полоумные стоны, будто кто-то то ли пѣлъ, то ли длинно, смертно плакалъ. Бормотанья, увѣщеванья, куриный клекотъ, звѣрій рыкъ, голоса звенѣли и спотыкались, сыпали черное зерно безплодныхъ словъ. Люстра надъ головой не качалась — висѣла ровно, тяжко. Не горѣла: темнѣла, она одна, мертвая, а вокругъ нея медленно, странно загорались другія люстры — одна, другая, третья, четвертая, пятая. Горящія танцовали, хороводомъ ходили вокругъ мертвой, почернѣлой.
«Лампы въ ней перегорѣли… вотъ какое дѣло-то…»
И вдругъ ширма замерла. Больше не качалась. Встала прямо, какъ солдатъ во фрунтъ.
Высокая, складки крупныя, ткань оранжевая, солнечная.
«Китайскій шелкъ… дорогущій…»
Изъ-за мертвой ширмы вышелъ живой человѣкъ. Докторъ былъ облаченъ въ мятый бѣлый халатъ; малорослый, онъ то-и-дѣло привставалъ на цыпочки передъ высоконькой дѣвушкой въ бѣлой косынкѣ сестры милосердія. Ляминъ видѣлъ доктора въ лицо, а дѣвушку съ затылка. Докторъ сталъ что-то говорить, мелкое и жалкое, сбился, махнулъ рукой въ резиновой перчаткѣ; перчатку пятнала кровь, будто вино или варенье; сталъ другой рукой, голой, резиновую перчатку стаскивать, не смогъ, резина рулетомъ закрутилась, — и заплакалъ, и резиновыми пальцами растиралъ слезы по щекамъ, по серебряной, съ прожилками темной стали, твердой бородкѣ.
Докторъ шевелился, а дѣвушка застыла. Зимняя дѣвушка, снѣжный мраморъ. Укрыть бы ее досками, садовую статую, завалить старыми подушками и матрацами.
До ушей Лямина доносилось:
— Анатолій Карловичъ… Анатолій… Карловичъ… ну Анатолій же Карловичъ…
Сестра что-то важное силилась втолковать доктору, а онъ ее не слышалъ.
Стянулъ наконецъ перчатку, швырнулъ на паркетъ. Сестра наклонилась и безропотно подняла. И къ сердцу прижала, какъ дорогое письмо.
Такъ шли межъ коекъ, къ выходу изъ бѣлаго, ледяного дворцоваго зала, превращеннаго въ военный лазаретъ: впереди плачущій, какъ дитя, сѣдобородый недорослый докторъ, за нимъ длинноногая дѣвушка въ сѣрой монастырской холщовой юбкѣ и въ бѣлой косынкѣ, тугой посмертной метелью обнимающей лицо.
Онъ окунулся въ тяжкую вязкую тьму сна.
Долго барахтался въ ней.
Сознаніе опять уплыло куда-то вдаль большой, съ толстой спиной и огромной головой, бѣлоглазой рыбой.
Долго ли спалъ, не зналъ. Зачѣмъ тутъ было что-то знать? Онъ ощущалъ: повсюду на немъ — бинты, и весь онъ, перевязанный, охваченный ими, ихъ вьюжными витками, — плотный, будто дощатый, гдѣ плоскій, какъ настеленный въ банѣ сосновый полъ, а гдѣ выпуклый, бревенчатый.
Тѣло обратилось въ дерево. Если тихо лежать — не чувствуешь ничего.
И онъ лежалъ тихо.
И деревянныя губы сами надъ собой смѣялись: экое я полѣно, истопить мною печь.
…выплылъ на поверхность зимняго міра. Ледяной міръ все высилъ, угрюмо вздымалъ вокругъ обтянутыя бѣлымъ коленкоромъ стѣны. Ледяной вѣкъ отсчитывалъ удары чужими женскими каблуками. Дрожалъ. Мерзъ. Уже колотился весь подъ одѣяломъ, и не грѣло ни шута.
Колѣнки звенѣли чашка объ чашку, и инеемъ изнутри покрывались кости.
Крючился. Спина выгибалась сама собою. Съ койки рядомъ донеслось напуганное:
— Эй, братецъ, чо, судорга скрутила?
И, будто изъ-подъ земли, изъ-подъ гладкихъ медовыхъ плашекъ паркета пробилось:
— А може, этта, у няво столбнякъ… грязь въ рану забилася, и конченъ балъ…
…и вдругъ колотунъ этотъ кончился разомъ, — оборвался.
Лежалъ пластомъ. Тяжелѣло тѣло. Задъ все глубже вдавливался въ панцырную сѣтку и тощій матрацъ.
Все наливался, мигъ за мигомъ, расплавленнымъ чугуномъ, все увеличивался въ размѣрахъ. Стало страшно. Захотѣлъ позвать кого живого — глотка не отозвалась ни единымъ хрипомъ. Чугунныя губы мерзли: по дворцовому ледяному залу гулялъ вѣтеръ, шелъ стѣной балтійскій сквознякъ изъ-подъ раскинутыхъ, какъ бабьи ноги въ минутной любви, метельныхъ шторъ.
Тяжесть давила, раздавливала внутри слѣпыми птенцами бьющіеся, горячіе потроха.
Мишка напрягъ послѣднія силенки и выдавилъ — въ бѣлую зимнюю ночь, въ бѣлую тьму:
— Сестра… воды…
Слушалъ тишину. Коленкоръ мерцалъ искрами вьюги.
Огромныя, до потолка, окна свѣтились, сіяли вѣчными, торжественными, до-военными фонарями.
Тихо. Все тихо умирало. И онъ тихо и вѣрно, могильно тяжелѣлъ. И это, могло такъ быть запросто, подбиралась къ его койкѣ его смертушка и тяжело, поганой любовницей, ложилась на него поверхъ колючаго лазаретнаго одѣяла, вминалась въ него.
Въ тишинѣ застучали часы. Тукъ-тукъ, тикъ-тикъ. Онъ поздно понялъ, что это — не часы, каблуки.
Туфли на каблукахъ. А можетъ, сапожки на шнуровкѣ, выше щиколотки.
Пахнуло сиренью. Зима спряталась за гардину. Метель забилась въ уголъ. Раненые стонали, жили, умирали. Надъ его койкой стояла сестра милосердія. Совсѣмъ молоденькая. Щечки румяныя. Ручки-игрушечки. Она вертѣла въ пальцахъ карандашъ. Осторожно положила карандашъ на табуретъ. Шагнула ближе и наклонилась надъ Ляминымъ.
Близко онъ увидѣлъ ея лицо. Лицо ея было слишкомъ нѣжнымъ, такимъ нѣжнымъ бываетъ тѣсто на опарѣ, когда съ него снимешь марлю и ткнешь его пальцемъ, провѣряя на живость.
— Вы звали?
Ощутилъ на лбу ползанье сонной зимней бабочки.
Это ея рука водила ему по лбу, нѣжно, осторожно.
Онъ устыдился своего мокраго, липкаго лба.
Глотка хрипѣла:
— Я… худо мнѣ… сестрица…
Видѣлъ, какъ поднялась подъ сѣрымъ штапелемъ, подъ бѣлымъ холоднымъ сестринскимъ фартукомъ ея грудь. Она выпрямилась и вольно развела въ стороны плечи, странно мощныя, будто не дѣвичьи, а бабьи, — такъ бабы распрямляются, уставъ махать косой, на жаркомъ сѣнокосѣ.
— Лежите спокойно, солдатъ. Я сейчасъ.
Зацокали каблуки. Онъ умалишенно считалъ про-себя этотъ дальній, бальный цокотъ: разъ, два, три, четыре, пять.
Приблизилась. Въ рукѣ держала кружку за желѣзное ухо.
Легко, невѣсомо присѣла на край его койки. И по нему полился потъ, по всему тѣлу, и терялъ чувство тѣла отъ слабости, стыда, блаженства.
Сестра поднесла кружку къ его рту.
— Пейте… — такъ нѣжно сказала, будто бы губами — ржавую иголку изъ его губы вынула.
Подвела другую руку ему подъ затылокъ. Онъ чуялъ жаръ дѣвичьей ладони. Кровь его дико и гулко стучала въ обласканномъ затылкѣ. Дышалъ, какъ загнанный конь. Сестринская ладонь чуть приподняла отъ подушки его желѣзную, тяжкую голову, и онъ могъ раскрыть ротъ и пить. Глотать — могъ.
И глоталъ. Вода отдавала желѣзомъ и желѣзнодорожной гарью, была сначала чуть теплая, а на днѣ кружки, когда допивалъ, — ледяная.
Застоналъ, надавилъ затылкомъ ей на ладонь. Она такъ же осторожно уложила его голову на подушку. Всматривалась въ него. Столько жалости и нѣжности онъ никогда не видалъ ни на чьемъ живомъ лицѣ.
— Полегче вамъ?
Онъ ловилъ глазами ея глаза.
Вотъ сейчасъ уйдетъ. Встанетъ и уйдетъ.
— Да… благодарствую… водичка…
Она не разслышала, наклонилась къ нему опять.
— Что?
— Знатная…
Два ихъ лица изливали тепло другъ на друга: онъ на нее — сумасшедшее, она не него — спокойное, ясное. Приблизились еще. Ляминъ увидалъ хорошо, ясно: у нея синіе глаза. Не голубые, какъ небо въ ясный день, а именно что синіе: густая синева, мощная, почти грозовая. И такіе большіе, какъ два чайныхъ блюдца. А рѣсницы страннымъ, старымъ золотомъ поблескиваютъ. Ну точно чаинки.
«Китай… Востокъ… дворянка, знать… блюдца, мать ихъ, синій фарфоръ дулевскій…»
Мысли въ желѣзной чашкѣ черепа кто-то громадный, насмѣшливый размѣшивалъ золоченой ложечкой.
Поймалъ ея улыбку губами. Слишкомъ близко вспорхнула, легко изловить.
Оба одновременно усмѣхнулись. Она — радостно: раненому полегчало! — онъ — ядовито: надъ собой, немощнымъ, безумнымъ.
— Ну вотъ и хорошо!
Вотъ сейчасъ встала, одернула фартукъ. Зачѣмъ-то разгладила бѣлые обшлага штапельнаго форменнаго платья.
Бѣлый милосердный платъ, какъ монашескій апостольникъ, туго, крѣпко обтягивалъ ея лобъ, щеки и подбородокъ. Щеки, и безъ того румяныя, заалѣли ярче осенней калины.
Дотянулась до карандаша. Сунула его въ карманъ фартука.
— Температуру измѣримъ…
— Не надо. Хорошо ужъ мнѣ.
Потъ лился у него по лбу, стекалъ на подушку.
— Да вы же весь мокрый, солдатъ!
Опять провела рукой ему по лбу, по лицу. Сняла со спинки койки полотенце, отерла лобъ. Опять улыбнулась. И стала серьезной. И больше уже не улыбалась.
— Это… пройдетъ…
— Лежите спокойно.
— Сейчасъ… ночь?
— Да. Ночь. Четыре часа утра.
— А почему орудія непріятеля… не стрѣляютъ?
— Потому что вы не на фронтѣ, солдатъ. Вы въ госпиталѣ.
— А карандашъ… вамъ зачѣмъ?
— Я письмо пишу. Солдатъ мнѣ диктуетъ, а я ему пишу. Ему домой. Онъ безъ руки.
Онъ закрылъ глаза и открылъ, такъ онъ сказалъ: да, я все понялъ, — говорить не могъ, опять пропалъ голосъ. Видѣлъ красный крестъ, вышитый краснымъ шелкомъ, у нея на груди, на холщовомъ фартукѣ. Бѣлый снѣгъ, и красная кровь, растеклась крестомъ. Да развѣ такъ бываетъ?
Красный крестъ поднимался и опускался — это она такъ дышала.
И это ровное частое дыханіе вдругъ успокоило, усыпило его. Онъ услышалъ далекую пѣсню, потомъ далекій звонъ, будто церковный, а можетъ, это звенѣли золотые фонарики на господской елкѣ, куда пригласили накормить и одарить бѣдныхъ дѣтей; а можетъ, это звенѣли хрустальныя рюмки въ холеныхъ рукахъ офицеровъ и граненые стаканы въ грубыхъ пальцахъ солдатъ — такъ они праздновали побѣду. Побѣда будетъ, сказалъ онъ себѣ, и вѣря и не вѣря, побѣда обязательно будетъ, мы побѣдимъ врага. Мы русскіе, насъ еще въ жизни не билъ никто! А гдѣ врагъ? Онъ оглядывался туда и сюда, глядѣлъ и впередъ, и назадъ, и не было нигдѣ врага, и онъ растерялся, но это было уже во снѣ.
И во снѣ ушла отъ его госпитальной жесткой койки синеглазая румяная дѣвушка; сестринскій платъ у нея подъ подбородкомъ, подъ горломъ обратился въ крестьянскій, она шла въ рубахѣ, и солнце палило ей широкія сильныя плечи и голую, покрытую каплями пота шею; она отирала потъ ладонью съ шеи, со лба и весело смѣялась, и онъ видѣлъ, какой у нея красивый ротъ и красивые зубы. И далеко пѣли косцы яркую и развеселую, мощную пѣсню, какія обычно поютъ мужики на сѣнокосѣ; и блестѣли лезвія тяжелыхъ литовокъ; и съ легкимъ шорохомъ валилась на истомленную жарой землю скошенная трава, и онъ, Мишка, тоже косилъ, размахиваясь косой широко, свободно, отъ плеча, — и румяной юной дѣвушки уже было рядомъ не видать, но онъ чувствовалъ: она незамѣтно вошла куда-то внутрь него, подъ ребра, какъ дѣтская тайная обида, какъ легкій солнечный запахъ свѣжескошенной нѣжной травы.
***
Онъ выздоровѣлъ. Выправился. Налился новой силой.
Пока молодъ — смерть не возьметъ, самъ надъ собой смѣялся, и надъ смертью тоже.
Подлѣчили. Зашили. Гдѣ надо, срослось. Гдѣ не надо, побаливало. Плевать онъ на это хотѣлъ.
Снова попросился на фронтъ: а куда еще было возвращаться солдату?
Думалъ о домѣ. Ночью передъ глазами вставала огромная родная рѣка, широкіе перекаты и больно блестѣвшіе на забытомъ мирномъ солнцѣ плесы. Плывешь на лодкѣ, ладишь удилище, руку въ воду окунешь — рука какъ подлещикъ, а водичка желтенькая, насквозь солнцемъ просвѣченная. И дно видно; и рыбы ходятъ медленно, важно.
«Волга, Волженька…»
Просьбу его исполнили. На фронтъ отправили.
Онъ себя спрашивалъ: Мишка, вотъ ты смерть понюхалъ, а сейчасъ ты смерти-то боишься или нѣтъ? — и ничего не могъ самъ себѣ на это отвѣтить.
Война была все такая же. Отвратительная.
Его бы воля — онъ превратилъ бы ее въ черную гадкую козявку и раздавилъ бы сапогомъ.
«Сказочникъ ты, Мишка. Что плетешь. Чѣмъ прельщаешься».
…Они тутъ бились, а въ тылу солдаты митинги затѣвали. Заморское словцо — митингъ! Означаетъ по-русски: буча, буза. Послѣ очередного сраженія сутулились въ окопахъ, вертѣли самокрутки, перевязывали раненыхъ — все какъ обычно, тоска, кровь и хмарь, — какъ вдругъ тяжело прыгнуло въ окопъ чье-то грузное, великое тѣло, одинъ солдатъ упалъ, другой выругался, третій крикнулъ:
— Стой, кто идетъ!
На перемазанной рожѣ великана отражался лютый, звѣрій восторгъ.
Онъ завопилъ, вздергивая кулаки надъ головой:
— Ребяты! Солдаты! Кончай воевать! Кончилась война, въ бога ея душеньку мать! Кончилася!
Вдали грохотали выстрѣлы, а въ окопахъ грохотали солдатскіе надсадные крики.
— Иди ты врать!
— Все! Толкую вамъ! Миръ!
— Откудова знаешь?!
— Да Ленинъ въ Петроградѣ ужъ почти всю власть забралъ! Только что Зимній дворецъ съ царями не взялъ! А такъ — все взялъ!
— Да насъ тутъ офицеры разстрѣляютъ всѣхъ до единаго, если мы въ одночасье винтовки побросаемъ!
— Не бось! Не убьютъ!
— Миръ! Миръ! Ну наконецъ-то!
— Бросай фронтъ! Бросай къ чертямъ это все! Домой! Домой!
— Слышите, солдаты?! А ну какъ онъ вретъ все?!
— Домой! Домой!
— Землю намъ! Хлѣбъ намъ! Все — намъ! Во гдѣ уже господа сидятъ! Нахлебались!
— Хлѣба! Мира! Ленинъ нашъ спаситель!
— Троцкому ура-а-а-а!
— Пошелъ къ лѣшаку твой Троцкій!
— Ленину ура-а-а-а!
— Домо-о-о-ой!
Ляминъ вопилъ вмѣстѣ со всѣми: домо-о-о-ой! Пересталъ кричать. Слушалъ чужіе крики. Топалъ рядомъ съ чужими сапогами. Командиръ попытался остановить бѣгущихъ. Стрѣлялъ въ воздухъ.
— Куда! Не смѣть! Всѣхъ положу!
— Кончай командира! — орали солдаты. — Кончай всѣхъ, кто противъ мира! Миръ у насъ! Миръ!
Ляминъ видѣлъ и слышалъ — и глаза его не закрылись, и уши его никто не залѣпилъ воскомъ, — какъ рубятъ и колютъ командира и другихъ офицеровъ ихъ же саблями и винтовочными штыками, какъ разрываютъ ихъ на куски, — такъ волки рвутъ свою добычу; какъ топчутъ ногами уже мертвыя, изуродованныя тѣла.
— Распускай роту! Солдаты, кидай оружіе!
Комъ боли подкатилъ къ горлу Лямина.
«За что сражались… за что же, чортъ, умирали?..»
Отвернулся отъ растерзанныхъ тѣлъ. Тошнота подкатила.
«Какъ барышня… сейчасъ сблюю…»
— Сдавай оружіе, ну!
Одни кричали одно, другіе — другое. Кто-то уже приказывалъ: командовалъ.
«Свято командирское мѣсто пусто не бываетъ, ха. Быстро его… занимаютъ…»
Ноздри раздувались, запахъ крови лишалъ ума.
Жалкая горстка солдатъ, вѣрныхъ идеѣ войны до побѣднаго конца, императору и присягѣ, скучилась возлѣ долговязаго офицера. Молодой, а волосы бѣлые. Посѣдѣлъ отъ ужаса вразъ?
— Сдавайся, господское рыло, слышь! Мы — уже власть!
— Вы не власть, — выцѣдилъ долговязый офицеръ. — Вы — мои подчиненные.
А у самого ротъ отъ страха дрожалъ; и къ верхней губѣ прилипъ табакъ — послѣ сраженья самокрутку курилъ, какъ простой солдатъ.
— Ахъ, подчиненные?! Три минуты тебѣ даемъ!
«Мы отнимаемъ оружіе. А сами-то стоимъ съ оружьемъ. Противъ кого? Противъ — своихъ же? Русскихъ людей? Противъ своей же, родной родовы — вотъ такъ же встанемъ?»
Далеко стрѣляли.
«Сейчасъ и этимъ упрямцамъ не жить. Но они же русскіе! Русскіе!»
— Они же… русскіе… наши…
Великанъ, тотъ, что поднялъ возстаніе въ окопѣ, передернулъ затворъ винтовки и волкомъ зыркнулъ на Лямина.
— Наши?! Они враги наши! Они хотятъ, чтобы мы — тутъ сдохли, на войнѣ!
— Что мелешь… какъ это — сдать оружіе безъ боя…
Бѣловолосый долговязый офицеръ внезапно выпрямился, сталъ похожъ на сухую осиновую жердь, и не своимъ, а какимъ-то подземнымъ, утробнымъ голосомъ крикнулъ, обернувшись къ солдатамъ, его обступившимъ:
— Огонь!
Солдаты выстрѣлили.
Свои солдаты — въ своихъ же солдатъ.
Русскіе — въ русскихъ.
Раненые и убитые упали на землю. Хрипѣли. Царапали землю ногтями. Возставшихъ было больше, чѣмъ вѣрныхъ. Ощетинился частоколъ штыковъ, сухо и зло затрещали выстрѣлы. Трещали до тѣхъ поръ, пока всѣ они, вѣрные царю и отечеству, не полегли въ грязь — и больше не шевелились.
— Ну что? Всѣ патроны израсходовали, голуби?!
Солдаты стояли и глядѣли на дѣло рукъ своихъ.
И тутъ Ляминъ, самъ отъ себя этого не ожидая, задиристо и жестко крикнулъ:
— Ребята! Айда всѣ на Петроградъ!
Глотки обрадованно, счастливо подхватили безумный Мишкинъ крикъ.
— Да! Да! На Петроградъ!
— На вокзалъ, айдате на вокзалъ! Да любой поѣздъ возьмемъ! Прикажемъ повернуть стрѣлку!
— На Питеръ! На Питеръ!
— Пять минутъ на сборы!
— А этихъ куда?!
— Русскіе люди вѣдь… христіане… похоронить бы…
— Хоронить враговъ народа хочешь?! Не выйдетъ! Я лучше — тебя щасъ застрѣлю!
— Брось! Брось! Шучу!
— Шутки въ сторону!
— Готовься шибчѣй, ребята, иначе въ Питерѣ все безъ насъ произойдетъ!
— А можетъ, уже произошло!
— Тѣмъ лучше! Поддержимъ революцію!
— Собирай котомки!
— Чо на этихъ подлецовъ зыришь?! Жалость взяла?! Враги они наши, говорятъ тебѣ!
— Правильно мы ихъ ухряпали! Неча жалѣть! Не баба!
— Они насъ тутъ всѣхъ готовы были положить! Въ поляхъ чужихъ… на чужой землѣ…
Ляминъ бодро, злымъ и широкимъ шагомъ пошлепалъ вмѣстѣ со всѣми прочь отъ мѣста, гдѣ свои убили своихъ; и, пройдя немного шаговъ, воровато оглянулся. Сѣдой долговязый офицеръ лежалъ навзничь, лицомъ вверхъ, пули пробили ему грудь и шею, и Ляминъ видѣлъ, какъ купается, плаваетъ въ крови убитаго вынырнувшій изъ-подъ сорочки крохотный, какъ воробьиная лапка, зелено-мѣдный натѣльный крестъ.
***
— Стрѣляютъ?
— Да, бахнули!
— Все, пора…
…Фигуры желѣзныя и фигуры живыя сгрудились вокругъ дворца. Какъ отличить неживое отъ живого? Броневикъ молчитъ, какъ сонный быкъ, орудіе на вечернемъ крейсерѣ, отдавъ воздуху ядро, вздыхаетъ медленно, какъ звѣрь, идущій на зимній тяжелый покой въ бѣлый лѣсъ. Ружья и пулеметы стрѣляютъ исправно. Внутри Зимняго дворца, то-и-дѣло прилипая носомъ къ холодному густо-синему, уже налитому пьяной ночью стеклу, человѣкъ благороднаго, барскаго вида строчитъ тусклымъ грифелемъ у себя въ записной книжкѣ: «Атака отбита. Никогда имъ не взять насъ. Никогда имъ насъ не побѣдить! Не сломить Великую и Славную Россію!»
Его трусливое карандашное царапанье никто не видитъ, не слышитъ. Только Господь Богъ. Но и въ Его существованіи теперь многіе усомнились; если кто вдругъ побожится, какъ раньше, его одернутъ: тише ты, не смѣши, бога-то никакого нѣтъ на самомъ дѣлѣ!
…Богъ — онъ въ фонарѣ живетъ. Онъ льетъ свѣтъ изнутри фонаря; и фонарь въ холодной ночи — нѣжный, горячій. Жаль, высоко виситъ, а то бы руки погрѣть. Но ужъ если сильно замерзнутъ, тогда можно и костры на площади разжечь. Пламя затанцуетъ! Грѣйся не хочу!
…Толпа то приникала къ воротамъ, то откатывалась. Опять накатывала чернымъ прибоемъ. Матросы гоготали, обнажая желтые волчьи клыки. Ляминъ терся межъ душной многоглавой кучи солдатъ въ истрепанныхъ шинеляхъ.
«У насъ у всѣхъ шинелишки какъ у братьевъ родныхъ. Какъ одна мама родила. Потертыя, съ дырами отъ пуль, въ засохшей крови. И пахнутъ…»
Онъ не подобралъ слова, чѣмъ пахнутъ. Разсмѣялся. Фонарь выхватилъ изъ тьмы близкое лицо, небритое, синяя щетина торчала чуть не подъ глазами. Солдатъ что-то крикнулъ Лямину, да всѣ гомонили будь здоровъ, онъ не разслышалъ. Качались взадъ-впередъ. Отбѣгали; закуривали, чиркая толстыми спичками въ погибельномъ фонарномъ свѣтѣ. Сердце прыгало, на него давила тьма близкой ночи, и то, что должно было случиться въ ночи.
Женскіе голоса сбивчиво кричали поодаль. Плакали, визжали, квохтали. Ему сказали — дворецъ защищаетъ какой-то женскій батальонъ; издали онъ видѣлъ, какъ возставшіе солдаты закручиваютъ несчастнымъ бабамъ руки за спину. «Подѣломъ вамъ; кого защищали? Царя, царишку!» Не думалъ о томъ, что недавно, идя на войну ополченцемъ, самъ этому царишкѣ присягалъ; думалъ о бабахъ, напялившихъ шинели, гадко, плохо.
«Курвы, и куда подались? Дѣтей вѣдь иныя побросали! Стервы».
Рядомъ кричали:
— Ананьина поймать и на фонарь!
Забабахало съ Петропавловки.
Орудія палили, Ляминъ вздрагивалъ. Онъ стоялъ внутри людского плотнаго мѣсива, онъ самъ былъ комкомъ непромѣшаннаго, потнаго тѣста. Выстрѣлъ за выстрѣломъ, онъ не считалъ. Мазилы! Не попадаютъ. Если бъ мѣтко стрѣляли — этотъ дворецъ къ едренѣ матери давно бы въ кирпичи разнесли.
«А вѣдь я тутъ лежалъ. Въ лазаретѣ. Тутъ! Это цари намъ, солдатамъ раненымъ, свои бальные залы да кабинеты уступили!»
Желваки подъ скулами перекатились сухимъ горохомъ. Тотъ, съ синей щетиной, оралъ радостно:
— Да крейсера съ нами! На катерахъ — съ нами! Да всѣ въ Гавани — съ нами!
— Да всѣ — съ нами! — отвѣчали ему разноголосо, отовсюду.
— Они, братцы… только фасадъ охраняють! Тамъ, сзаду… дверьки-то отворены!
Толпа качнулась назадъ и влѣво, потомъ вправо. Вдругъ повернула, люди побѣжали нестройно, махая бѣшеными руками, кто смѣясь, кто плюясь.
Нева черно, лаково блестѣла подъ жуткимъ, дикимъ свѣтомъ позднихъ фонарей.
Накатывала наводненіемъ полночь.
Они добѣжали до дверей, двери и точно были открыты. Вродѣ даже гостепріимно распахнуты.
— А нѣтъ ли тутъ подвоха?!
— Взойдемъ, а тамъ гранатами насъ ка-акъ закидаютъ!
— Да не, тамъ подъ лѣстницей — юнкера сидятъ, въ душу мать, въ штаны наклали…
…На лѣстницѣ стояли люди. Ихъ встрѣчали. Но люди не двигались, молчали; и страшно было это молчаніе, и безвыходно. Ляминъ подумалъ: а что, если они всѣ отсюда и правда не выйдутъ? — а въ это время отъ толпы отдѣлилась странная кучка людей, будто кучка пчелъ, отжужжавшихъ прочь отъ могучаго роя. Люди-пчелы летѣли вверхъ по лѣстницѣ, въ рукахъ у нихъ шуршали бумаги. Этими бумагами они тыкали въ носъ тѣмъ, кто стоялъ и молчалъ. И о чемъ-то молчащихъ просили: страстно, довѣрительно, по-хорошему.
Молчали еще суше, еще злѣе.
И тутъ за спиной Лямина возникъ гулъ. Онъ еще не понялъ, что это за гулъ такой, а толпа поняла — и дико, восторженно закричала, радостно летѣли вверхъ безкозырки, папахи, ушанки, фуражки.
— Братцы! Братцы! Народъ здѣсь!
— Народъ нашъ! Вотъ царскій дворецъ, ядрена корень! Вотъ! Онъ теперь — твой!
Цѣловались. Сквернословили. Подымали кулаки. Тузили другъ друга по плечамъ, по спинѣ. Молодые парни съ красными лентами въ петлицах, старые сѣдые мужики въ разношенныхъ сапогахъ — въ нихъ воевали, въ нихъ же и сѣяли-косили, — не стыдясь, плакали.
А потомъ всѣ вразъ опять орали.
Потекли по лѣстницамъ и коридорамъ, втекали въ залы, стремились наверхъ, рушились въ подвалы, здѣсь, во дворцѣ, не было ни огня, ни штыковъ, ни крови, — а рано радоваться было, откуда ни возьмись вывалились безусые юнцы, и винтовки прикладомъ къ плечу, а лица блѣдныя, и дрожатъ.
«Юнкера, мать ихъ! Мы ихъ… сейчасъ… какъ червей лопатой, перешибемъ…»
Юнкера успѣли дать только одинъ залпъ. Толпа навалилась, подмяла юнцовъ подъ себя, скрутила, смяла, повалила, разбивала мальчикамъ лица сапогами, колѣнями, рѣзала ножами, колола штыками.
— Царя защищали?!
— Гдѣ онъ теперь, вашъ царь?!
Ляминъ оттаскивалъ отъ трупа юнкера того, съ синей щетиной: въ сумасшествіи синещекій плясалъ на погибшемъ, давилъ ногами его лицо, кровь брызгала на сапоги, носъ вминался въ черепъ.
— Тихо, тихо… ну что ты бушуешь… охолонь…
Синещекій солдатъ обернулся, ощерясь.
— Не могу! — Билъ себя кулакомъ въ суконную грудь. — Ну ты понимаешь, другъ, не могу! Всю-то жизнешку мы кланялись! Всю-то судьбишку — горбились! А тутъ! Головы подняли! Хребты разогнули! Видѣть стали… чуять! Что къ чему, чуять! Гдѣ — правда!
— Правда — да, — бормоталъ Ляминъ, таща синещекаго за рукавъ, — но не надо такъ… Плясать-то на мертвой рожѣ — зачѣмъ…
Поодаль вопили:
— Бомбу! Взрывай бомбу!
Тащили бомбу; Ляминъ видѣлъ, какъ ее, чуть присѣдая, несутъ четверо.
— Взрывай царей! Взрывай министеровъ!
— Гдѣ они прячутся?! Показывай!
Вели новыхъ юнкеровъ, еще живыхъ. Они не стояли, а вздрагивали, будто на вѣтвяхъ свинцовымъ морозомъ схваченные: синицы, сойки, снигири. Воробьишки, часъ послѣдній. У нихъ были уже мертвыя лица, а живые глаза плакали.
— Гдѣ владыки?! Подорвемъ ихъ зады къ ядренѣ матери!
— Быстро говори!
Били кулаками въ блѣдныя лица. Били по щекамъ. Одному юнкеру выстрѣлили въ лобъ, и онъ не упалъ — его крѣпко держалъ синещекій. Мертвая кукла болталась въ рукахъ живой куклы, а живую куклу за нитки свѣта держала и дергала громадная люстра — тамъ, въ неимовѣрной выси.
— Вы! Суслики! Ваши начальники сдались! Что ждете?! Конфетокъ?!
Пахло кровью, мастикой навощеннаго паркета и порохомъ.
То тамъ, то сямъ внутри толпы рождался глухой вой. Вой взмывалъ, поднималъ на головахъ волосы запоздалымъ ужасомъ, веселилъ, зажигалъ голодное нутро. Вой былъ и разбойный, и святой, и его нельзя было унять. Онъ такъ же быстро гасъ, какъ возникалъ.
Разстрѣливая, ударяя, хохоча, воя, толпа ринулась впередъ, разсыпа́лась, разваливалась кусками ржаного волглаго хлѣба и слѣплялась опять, шарила въ шкафахъ, сдергивала со стѣнъ полотна, наклонялась надъ холстами и выкалывала ножами глаза у старинныхъ людей на блестѣвшихъ медомъ и перламутромъ портретахъ; скалила зубы передъ зеркалами, а потомъ срывала ихъ съ гвоздей и волокла за собой; засовывала за пазухи царское столовое серебро; закручивала въ рулоны простыни и пододѣяльники, обшитые тончайшимъ кружевомъ; разсовывала по карманамъ часы и брегеты; сначала била вазы мейсенскаго фарфора, чашки Гарднера и Кузнецова, а потомъ, любуясь, цокая языками, — подъ мышку, за пазуху, въ карман, въ суму.
Толпа плохо понимала, что дѣлаетъ: она жадно срывала и срѣзала драгоцѣнную телячью кожу съ сидѣній креселъ, со спинокъ дивановъ, колола штыками живопись, что везли изъ Амстердама, Рима и Венеціи; она топтала иконы и рвала книги, разбрасывая страницы по цвѣтному паркету, и, если бы захотѣла вдругъ остановиться, она бы не смогла. Штыки разбивали вдребезги ящики съ пасхальными яйцами француза Фаберже. Штыки выламывали плашки изъ паркета. Надъ штыками горѣли лица — у толпы было одно лицо со многими глазами и многими ртами, и изо ртовъ рвался лишь одинъ крикъ.
А штыки, это были всего лишь зубы толпы. Ея острые и справедливые зубы.
— Взорва-а-а-а-ать!
Ляминъ не хотѣлъ глядѣть, какъ убьютъ министровъ. «А все равно убьютъ, какъ ни крути. Все равно». Толпа раздѣлилась. Онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ людьми внизъ. Все внизъ и внизъ.
— Въ подвалъ мы, что ли?!
Ему не отвѣчали: хохотали.
Дивный невѣдомый ароматъ ударилъ въ носъ. Онъ видѣлъ передъ собой комнаты подъ сводами, двери распахнуты, внутри бочонки и бутылки, очень много: ряды, роты, батальоны бутылокъ. На иныхъ бочонкахъ — краны. Ляминъ впервые въ жизни наблюдалъ винный погребъ. Солдаты, разстрѣлявъ охрану погреба, уже радостно высасывали вино изъ горла, подбрасывали пустыя бутылки въ ладоняхъ. Съ лязгомъ, похожимъ на женскій визгъ, разбивали ихъ объ полъ — съ размаху.
— Будьте вы прокляты! Гас-па-да-а-а-а-а!
Били бутылки уже пьяно, дико, щедро, не жалѣя. Вино текло пузырящейся красной рѣкой. Обтекало сапоги Лямина. Онъ таращился, потомъ наклонился, окуналъ пальцы въ красное, неистово пахучее. Лизалъ пальцы, какъ котъ лапу.
— Эхъ, теки-теки, наша кровушка!
— А куда стячеть-то? Въ Няву, по всяму видать?
— Въ Неву такъ въ Неву! Пусть народъ изъ рѣки винца попьетъ! Съ бережку!
Ляминъ вертѣлъ въ рукахъ бутылку. Щурился. Поднялъ ее повыше и полоснулъ ей по горлу, какъ живой бабѣ, штыкомъ. Стекло отлетѣло. Онъ закинулъ голову и, держа отбитое горлышко ровно надъ галчино раскрытымъ ртомъ, вливалъ въ себя, съ алымъ вкуснымъ бульканьемъ, царское столѣтнее вино.
И не пьянѣлъ.
…Надъ головой, выше этажомъ, вспыхивали и гасли ужасные крики. Крикъ сначала рождался изъ тишины — выбухомъ, взрывомъ; потомъ разрастался, заливалъ собою все вышнее пространство — залы, зальчики, закутки; потомъ превращался въ долгій дикій вой — будто собака посмертно выла надъ трупомъ, — и истаивалъ, затихалъ и обрывался гнилой ниткой.
— Юнкеришекъ мучатъ, — бородатый мужикъ подворотнаго вида, съ гноящимся глазомъ, придирчиво выбралъ бутылку изъ темнокраснаго стекляннаго строя, откупорилъ и влилъ въ себя крупный, жадный глотокъ. — И вѣрно дѣлаютъ. Собачьи дѣти! Отродья буржуйскія!
Лямину отчего-то, на краткій странный мигъ, стало жалко юнкеровъ.
— Отродья, да, — сказалъ, — да все жъ русскіе люди.
Опять закинулъ башку и перевернулъ зазубрины отбитаго горлышка надо ртомъ.
Глоталъ вино, какъ воду.
Мужикъ тоже хлебнулъ, ладонью утерся.
— Ахъ! Хорошо. Вотъ она, господская жисть-то!
Оба хохотали весело.
— А коньякъ тутъ есть? Въ этихъ закромахъ?
Нагибались, пробирались между бочонковъ, искали коньякъ. Наверху, между мужскими воплями, появились дикіе женскіе крики.
— А это еще что такое? — Мужикъ, съ янтарной бутылью въ рукѣ, воззрился на Лямина. — Бабенки? Откуда?
— Самъ не знаю.
Михаилъ вылилъ въ ротъ сладкіе, пахучіе остатки.
Мужикъ вертѣлъ въ рукахъ бутылку.
— Желтый, значитъ, онъ. По-ненашему написано! Ну да все одинъ чортъ. Вкусно, да. Хоть бы хлѣбца кусочекъ! Безъ закуски — братъ, быстро свалимся.
Крики чередовались, мужскіе и бабьи. Ляминъ и всѣ, кто густо толкся въ винномъ погребѣ, были вынуждены ихъ слушать. И слушали. И пили. Пили, чтобы слышать — перестать.
Но крики не утихали. Ввинчивались въ уши стальными винтами. Насквозь прорѣзали мозгъ.
…Онъ, шатаясь, поднимался по лѣстницѣ. Думалъ — взбѣгаетъ, а на дѣлѣ шелъ, нетвердо ставя чугунныя ноги, цѣпляясь желѣзными пальцами за перила. Отчего-то сталъ мерзнуть, мелко трястись. Дошелъ до блесткаго паркета, чуть на немъ не растянулся. Самъ себѣ засмѣялся, держался за перила, — дышалъ тяжело и часто, отдыхалъ.
— Надрался, — самъ себѣ весело сказалъ, — ну да это быстро пройдетъ. Винишко… не могучее.
То идя на удивленіе прямо, какъ на парадѣ, то вдругъ валясь отъ стѣны къ стѣнѣ, шелъ по корридору, и глаза глупо ловили роскошь — витокъ позолоты, бѣлую виноградную гроздь лѣпнины, лѣпныя тарелки и цвѣты по высокимъ стѣнамъ. Задирать голову боялся: на цвѣтную роспись на потолкѣ глянетъ — и сейчасъ упадетъ. А надо стоять, надо итти.
Куда? По корридорамъ шастали люди. Они то бѣжали, то собирались въ гомонящія кучи, то, какъ онъ, пьяно качались. Людьми былъ полонъ дворецъ; и дворецъ, и люди были слишкомъ чужеродные. Люди были дворцу не нужны, и дворецъ былъ людямъ не нуженъ. Жить они бы тутъ все равно не смогли, а разграбить его — нуженъ не то чтобы полкъ, а вся армія.
Подъ ладонью возникла слишкомъ гладкая бѣлая, съ лѣпниной, высокая дверь, и Ляминъ въ безсознаньи толкнулъ ее. Замеръ на порогѣ.
Мелькнули чьи-то бѣлыя, раскинутыя ноги; чьи-то сброшенные сапоги; шевеленье суконныхъ задовъ; торчали штыки, валились картины со стѣнъ, на нарисованныя лица наступали сапогомъ. Люди возились и копошились, а подъ людьми дергались и кричали еще люди; Ляминъ съ трудомъ понялъ, что они всѣ тутъ дѣлаютъ. Когда понялъ — попятился.
Дверь еще открыта была, и слыхать было хорошо, что люди кричали.
— Нажми, нажми!
— Крѣпче веселись, крѣпче!
— Ахъ яти жъ твою! Сла-а-а-адко!
— Пасть ей — исподнимъ заткни!
Ляминъ пятился, пятился, пятился, наступалъ сапогами на паркетъ нетвердо, потрясенно.
А отойдя, криво улыбнулся. Захотѣлось хохотать во весь голосъ, во весь ротъ. Что, онъ мужиковъ не знаетъ? Или такого вовѣкъ не видалъ? Самъ мужикъ.
«Они просто… берутъ свое… а что теряться…»
Откуда тутъ бабы, и самъ не зналъ. Мало ли откуда.
Можетъ, горничныя какія въ складкахъ гардинъ спрятались; можетъ, фрейлины какія въ перинахъ, подъ пуховыми одѣялами запоздало тряслись.
«Какія фрейлины… правительство тутъ сидитъ… да, а министры-то гдѣ?»
Пересталъ думать о министрахъ въ тотъ же мигъ.
…По коридору уже не шелъ — валился впередъ. Туловище опережало, ноги сзади оставались.
Чуть не упалъ черезъ тѣло, что валялось у входа въ залъ, сіяющій зелеными, болотными малахитами. Сапогомъ зацѣпился, а рукой успѣлъ за выгибъ лѣпнины на стѣнѣ ухватиться.
«Чортъ… расквасилъ бы носъ, хребетъ бы сломалъ…»
Хотѣлъ обойти мертвеца — да что-то остановило.
Волосы. Длинные русые волосы. Они лежали на паркетѣ длинной грязной тряпкой.
Неподалеку, мертвымъ барсукомъ, валялся сапогъ.
Ляминъ сѣлъ на корточки, не удержался и повалился назадъ. Сидѣлъ на полу, ловилъ воздухъ виннымъ ртомъ.
Мертвая ладонь разжата. Около ладони — черный квадратъ и длинный черный стволъ маузера.
Високъ въ крови, а вѣки чуть приподняты, будто еще жива, будто смотритъ.
Ляминъ разсматривалъ бабу. Разстегнутая шинель. Немолодое круглое, отечное лицо. Перевелъ глаза съ ея груди на животъ. Тряпки растерзаны, и плоть растерзана: порѣзана, избита, измята. Голизна сквозь бязь исподняго бѣлья просвѣчиваетъ дико, красно.
— Ахъ ты человѣкъ, звѣрь, — выдохнулъ Ляминъ изумленно, — ахъ ты сучонокъ, тварь… Что сдѣлали…
Себя на ихъ мѣстѣ вообразилъ. Затрясъ головой.
«А маузеръ надо взять. Пригодится».
Подползъ по паркету ближе къ недвижной рукѣ и скрюченными пальцами подволокъ къ себѣ пистолетъ.
Кряхтя, вставалъ съ полу, нелѣпо упираясь ладонями въ паркетныя, скользкія отъ крови плашки; наконецъ ему это удалось.
Русая баба лежала такъ же мертво, въ охвостьяхъ окровяненнаго бѣлья.
…За окнами стрѣляли. Потомъ наступала холодная черная тишина. Потомъ опять стрѣляли. И снова тишина. А въ тишинѣ — женскіе вскрики.
«Да язви ихъ… что тутъ, бабы однѣ въ шинеляхъ собрались, что ли…»
До него поздненько дошло: женскій батальонъ разоружаютъ, а то и разстрѣливаютъ.
«Какія бабы вояки… куда прутся-то…»
Подвалилъ къ окну. Упирался кулаками въ подоконникъ. Коридоръ былъ теменъ, темнѣе пещеры, и хорошо было видно, что творится на улицѣ. Бабенки кто лежалъ на землѣ, подтягивая къ брюху винтовку, кто валялся уже недвижно, кто сховался, сгорбился за горою ящиковъ изъ-подъ вина и за сломанными раскладушками, вышвырнутыми изъ недавнихъ госпитальныхъ заловъ. Матросы, люди въ кожанкахъ, солдаты въ шинеляхъ и странные мужики въ трущобныхъ лохмотьяхъ, какъ заводныя куклы, бѣгали вокругъ еще живыхъ бабъ и разоружали ихъ.
Ляминъ слышалъ людскіе крики. Они бабочками бились въ холодное стекло. И не могли разбить, и внутрь не залетали. Онъ растеръ себѣ лицо ладонями и почуялъ ноздрями запахъ крови. Посмотрѣлъ на свои руки. Кровью испятнаны.
«А можетъ, это красное вино! Можетъ… не можетъ…»
Глядѣлъ сверху внизъ изъ одинокаго окна, какъ большевики ведутъ арестованный бабій батальонъ, походя пиная трупы; какъ кулаками и прикладами мужики бьютъ бабъ въ лицо. Одной своротили кулакомъ челюсть, она стояла, согнувшись, и кричала. Ея крикъ былъ похожъ на мяуканье больной кошки.
«А кто жъ дворецъ-то этотъ поганый защищалъ?.. Юнкера да бабы?..»
Думать было трудно, непосильно. За окномъ черной сталью блестѣла Нева. Около моста расхаживали красногвардейцы.
«Мостъ… стерегутъ…»
Ляминъ оторвалъ руки отъ подоконника и пошелъ по коридору. Онъ думалъ, что идетъ прямо и правильно. Ноги почти не заплетались. Сапоги назадъ не тянули. Подъ сапогами оказался сахарный мраморъ лѣстницы, Ляминъ плотнѣе прижался къ периламъ и по лѣстницѣ сползалъ, чуя противную богатую гладкость перилъ подъ шершавой наждачной ладонью.
Вывалился на улицу, въ ночь. Одинокіе выстрѣлы звучали то тамъ, то сямъ. Рядомъ затопали сапоги. Онъ медленно повернулся. Мимо него шелъ солдатъ въ шинели. Плечи широкія. А худощавый. За плечами винтовка стараго образца — еще, можетъ, временъ войны съ турками.
— Эй! Курнуть есть?
Солдатъ остановился. Лицо солдата, скуластое, безбородое, испугало Лямина жесткостью губъ и желѣзомъ желваковъ. А взглядъ — тотъ прямо отливалъ безпощаднымъ металломъ.
«Злая какая рожа, прости Господи…»
— Есть.
Голосъ у солдата нѣжный, юный. Тенорокъ.
«Не идетъ его голосишко… къ его злому виду…»
Солдатъ вытащилъ изъ кармана пачку папиросъ.
«Та-ры-ба-ры… а, это неплохія…»
Расколупалъ въ пачкѣ дырку.
Молча протянулъ Лямину.
Ляминъ тащилъ папиросу, какъ тащатъ изъ земли дерево. Вытащилъ и, качая языкомъ во рту, попросилъ:
— А это, солдатикъ… можно еще одну?
— Тащи.
Солдатъ смотрѣлъ, какъ Ляминъ копошится грязными пьяными пальцами въ пачкѣ; потомъ отвернулся къ мосту. Держалъ папиросы въ вытянутой рукѣ.
Маленькіе пальцы крѣпко сжимали початую пачку.
Рѣка черно блестѣла, тусклымъ медомъ сочился и капалъ фонарный свѣтъ. Вотъ выстрѣлили далеко. Вотъ стрѣльнули близко. И опять тишина.
— Спасибо… дружище…
Зажалъ папиросу въ зубахъ. Улыбался.
Нашарилъ въ карманѣ коробку спичекъ, чиркнулъ одной — сгасла, чиркнулъ другой — сгасла, третья вспыхнула, онъ, держа папиросу въ зубахъ, поднесъ огонь къ лицу, и онъ обжегъ ему пальцы и губы.
Вскинулъ лицо, солдатъ обернулъ свое, и Лямина льдомъ обожгли его глаза — круглые, большіе, какъ у бабы, свѣтло-сѣрые, онъ смотрѣлъ ими такъ холодно и надменно, будто бы онъ былъ никакой не солдатишко, а самъ царь; смотрѣлъ прямо, не моргая, залѣзая зрачками въ ночную, облитую сегодняшней кровью и истыканную сегодняшними штыками, душу Лямина.
— Ты, солдатъ!.. чо глядишь?.. Я чо, не нравлюсь?.. не, я не пьяный…
Втягивалъ дымъ, наслаждался. Трезвѣлъ.
Сѣрые глаза прошлись вдоль по Лямину, ото лба до носковъ сапогъ, солдатъ повернулся жестко и быстро и пошагалъ прочь, на ходу засовывая пачку вкусныхъ папиросъ «Тары-бары» въ глубокій, какъ адъ, карманъ шинели.
***
Толпа дышала, шевелилась и двигалась.
Многоголовый и пестрый человѣческій коверъ то сжимался въ гармошку и сминался, то растекался и вздрагивалъ. Бѣлыя толстыя колонны зала блестѣли, будто кто ихъ чисто вымылъ и покрылъ лакомъ. Съ балконовъ люди свѣшивались гнилыми изюмными гроздьями. Ружейные штыки тамъ и сямъ блестѣли, какъ дикія елочныя игрушки, и внезапно вся толпа становилась черной живой, колючей елкой.
«Опадутъ эти иголки, опадутъ».
Ляминъ, въ шинели и фуражкѣ, не сидѣлъ — стоялъ. Ему не досталось мѣста. Да стоялъ онъ въ плотной, жаркой толпѣ, и пахло по́томъ и порохомъ, и толпа качалась, будто всѣ они плыли въ одной тѣсной лодкѣ, а море плескалось вокругъ бурное, и они вотъ-вотъ потонутъ.
Онъ глядѣлъ на деревянный ящикъ трибуны. Сейчасъ наверхъ ящика кто-то живой и умный долженъ взобраться, и оттуда рѣчь говорить.
«Кто? Ленинъ? Троцкій? Свердловъ?»
Вся страна знала имена этихъ большевистскихъ предводителей; и онъ тоже зналъ.
И глазами, и щеками, и затылкомъ — видѣлъ, ощущалъ: да здѣсь вся страна собралась.
«Отовсюду люди, отовсюду! И какъ только добрались. Кто въ вагонахъ, кто пѣшимъ… кто — на лошадкахъ…»
Оглядывался. Пухлыя, съ прищуромъ, рожи, а подъ теплой курткой — рубаха-вышиванка. Съ Полтавы, съ Херсона, съ Кіева. Не уголодались тамъ, на Украинѣ, на салѣ разъѣлись. Квадратныя скулы латышей и литвиновъ. Чухонцы съ сѣрыми, паклей, волосами изъ-подъ сѣрыхъ кепокъ, съ мышиными и жесткими глазами, глядятъ напряженно и недовѣрчиво. Люди въ черныхъ папахахъ — можетъ, казаки терскіе, а можетъ, и чечены, и осетины, и грузины: чортъ ихъ разберетъ, виноградный, овечій Кавказъ. А вонъ въ полосатыхъ халатахъ, а поверхъ халатовъ — распахнутыя бурки: эти — узбеки, таджики.
«Далеконько ѣхали, косорылые. А вѣдь прибыли! Молодчики».
Разноязыкая рѣчь слышалась. Вспыхивали гортанные смѣшки. Четко, ледяно цѣдились странныя слова. Русскій матъ вдругъ все перебивалъ. И смѣхъ. Взрывался и гасъ, осѣдалъ на грязный полъ, подъ топотъ сапогъ, лаптей, ичиговъ, башмаковъ.
А потомъ наступала внезапная, на мигъ, странная и страшная тишина.
И опять все начинало двигаться, бурлить, хохотать, орать.
Матросы поправляли на груди пулеметныя ленты, подкручивали усы, солдаты глядѣли угрюмѣе, безпрерывно курили, сизые хвосты дыма вились и таяли надъ головами. Все сильнѣе, нестерпимѣе пахло по́томъ, и запахъ этотъ напомнилъ Лямину окопы. Онъ стащилъ съ головы фуражку и крѣпко, зло взъерошилъ рыжіе волосы.
«Рыжій я, красный. Воистину красный!» Усмѣхнулся самъ себѣ.
Каждый говорилъ и не слышалъ себя, каждый стремился что-то важное высказать сосѣду, да даже и не сосѣду, а — этому спертому воздуху, этимъ колоннамъ бѣлымъ, гладкимъ, ледянымъ. Этому потолку — и было сладкое и страшное чувство, что онъ вотъ-вотъ обвалится, — этой громадной люстрѣ надъ головами: люстра плыла подъ известкой потолка и лѣпнинами, будто островъ, что вчера былъ прочной землей, а теперь несутъ его черныя, темныя воды непонятно куда. Всѣ орали и гомонили, и кое-кто иногда вскрикивалъ, пытаясь перекричать толпу: «Тише! Тише, товарищи!» — но куда тамъ, люди освободили вѣкъ молчащія глотки, пытаясь черезъ нихъ вытолкнуть наружу сердца.
На Лямина глядѣли — кто весело, кто пристально, кто нагло. Разсматривали его, будто онъ былъ диковинная птица или жукъ подъ лупой.
«Рыжина имъ моя не по нраву. А можетъ, по нраву, кто ихъ знаетъ».
Толпа качнулась разъ, другой — и внезапно утихла. Люди двигались къ сценѣ. Кургузые пиджачки, костюмы-тройки, засаленныя жилетки, пыльныя штиблеты. Шли быстро, и толпа образовала внутри себя пустоту, чтобы эти люди куда-то быстро, поспѣшно и нервно пройти могли. И они шли, почти бѣжали — одинъ за другимъ, одинъ другому глядя въ затылокъ, а кто и себѣ подъ ноги, чтобы не споткнуться.
Люди были лысые и съ шевелюрами, одинъ въ очкахъ, другой въ пенснэ; Михаилъ шарилъ глазами, искалъ среди нихъ Ленина, но уже затылки, папахи и безкозырки толпы закрыли идущихъ по дымному, средь шевелящихся куртокъ, бушлатовъ, сапогъ и шинелей, проходу, толпа опять сомкнулась, и гомонъ утихалъ, и тишина наползала изъ-за бѣлыхъ снѣговыхъ колоннъ, изъ угловъ — неотвратимо и опасно, и послѣ шума отъ тишины уши болѣли.
Михаилъ задралъ подбородокъ и вытянулъ шею, чтобы лучше видѣть поверхъ головъ, — и тутъ залъ превратился въ одинъ гудящій каменный коробъ, а потомъ этотъ коробъ выстрѣлилъ такимъ громовымъ «ура-а-а-а!», что Михаилъ закрылъ ладонями уши и засмѣялся, а потомъ и самъ набралъ въ грудь побольше дымнаго и потнаго воздуху и тоже заливисто, широко крикнулъ:
— Ура-а-а-а-а!
«Какъ въ атаку бѣжимъ. Будто въ атаку я полкъ — поднялъ».
Да всѣ тутъ такъ орали; всѣ тутъ другъ друга въ атаку поднимали, въ новую атаку — на старый, поганый, змѣиный міръ, а онъ еще шевелился, еще стоналъ и ползъ подъ крѣпкими мужицкими, рабочими, матросскими ногами. Подъ солдатскими грязными, разношенными сапогами.
Подъ его — сапогами.
— Ура-а-а-а-а-а-а! — длинно, нескончаемо кричалъ Мишка, и въ его груди поднималась огромная, больше этого зала, жаркая, то темная, то сіяющая волна, кровь приливала къ его головѣ, глаза въ восторгѣ вылѣзали изъ орбитъ, и ему казалось, что его больше нѣтъ, а есть только огромное дыханіе великой толпы, и есть эти люди, что тамъ, высоко, на трибунѣ: это они все это совершили, а толпа имъ только помогла.
«Толпа! Не толпа это — народъ! Это народъ! Мой народъ!»
Вопя свое «ура-а-а-а-а», онъ оглядывался, шарилъ глазами по глазамъ, лбамъ, усамъ, бородамъ, корявымъ, въ мозоляхъ, рукамъ, умѣющимъ и соху вѣрно схватить, и борозду твердо вести, и со станкомъ управиться, не покалѣчившись, и изъ пулемета врага положить, — это былъ народъ, его народъ, и онъ — ему — принадлежалъ.
Ему, а не тѣмъ, кто стоялъ на трибунѣ; хотя тѣ, кто стоялъ на трибунѣ, эти скромные, невзрачные люди съ портфельчиками, кто въ очкахъ, кто въ пенснэ, — тоже вѣдь были — народъ. А можетъ, не народъ?
Разбираться было некогда. Они всѣ сейчасъ были одно. И лишь одному этому, тому, что они всѣ вдругъ сдѣлались, пускай на мигъ — наплевать! — одно, и стоило кричать безконечное «ура-а-а-а-а!».
И вдругъ будто грозный дирижеръ махнулъ рукой, и они всѣ, орущій народъ, стихли, какъ послушный оркестръ. На трибуну поднимался человѣкъ — одинъ изъ этихъ, невзрачныхъ. Этотъ былъ безъ очковъ. Невысокій. Коренастый. Огромная его голова торчала чуть впередъ, выдвигалась надъ туловищемъ, словно онъ ею разрѣза́лъ воздухъ, какъ воду, — плылъ. Огромная лысина, во всю голову, лаково, слоновой костью, блестѣла — точно какъ бѣлыя колонны по ободу зала. Онъ взобрался на трибуну, и молчащая толпа стала его разглядывать. Жадно, задыхаясь, будто напослѣдокъ; будто сейчасъ его кто-то, тихо стоящій въ залѣ, возьметъ на мушку — и мѣтко выстрѣлитъ въ него.
Маленькаго роста. И глазки маленькіе. Или онъ ихъ такъ неистово щуритъ? Маленькій, кукольный, и ручки маленькія — вотъ онъ схватился ими за края трибуны, будто боится упасть. Лысая башка словно вдвинута въ грудь — шеи вродѣ бы нѣтъ, голова прямо изъ торса растетъ, — носъ большой, и ротъ большой: ротъ, что привыкъ орать — съ трибунъ, съ балконовъ, съ грузовиковъ, съ броневиковъ, съ палубъ возставшихъ крейсеровъ, съ дѣтскихъ ледяныхъ горокъ, съ дощатыхъ запыленныхъ, заваленныхъ окурками сценъ театровъ, превращенныхъ въ нужники, съ амвоновъ церквей, обращенныхъ въ конюшни. Бритый подбородокъ. Бородка уже чуть проступаетъ. Подбородокъ тяжелый, властный. Слишкомъ тяжелый для такого маленькаго тѣльца.
«Костюмчикъ ношеный… Локотки потерты… Жены у него, что ли, нѣтъ, чтобы — пиджачишко почистила? И брюки-то… по пяткамъ бьютъ…»
Лысый человѣкъ стоялъ, крѣпко держался за края трибуны, медленно поворачивая гладкую голову туда, сюда, щурился, разглядывая — кто тамъ, въ толпѣ, что это за делегаты пріѣхали на съѣздъ, и можно ли этой толпѣ вѣрить, и не смететъ ли она его, не снесетъ ли съ трибуны, какъ снесла съ троновъ и креселъ власть, что сидѣла на этихъ тронахъ и въ этихъ креслахъ до него.
Михаилъ глядѣлъ на Ленина, и ему казалось — Ленинъ глядитъ на него. На него одного.
Усы лысаго человѣка дрогнули, онъ раскрылъ ротъ и громко, хорошо поставленнымъ ораторскимъ теноромъ, чуть вздернувъ свой тяжелый подбородокъ, выбросилъ въ залъ коротко и мощно:
— Тепей, товайищи, паа пьиступить къ стъоительству… — Сдѣлалъ паузу. — Соціалистическаго поядка!
Гулъ, громъ накатилъ, все подмялъ подъ себя, поглотилъ — залъ, лысаго человѣчка, колонны, балконы и балюстрады, пробилъ крышу, вылетѣлъ наружу. Хлопали и кричали долго. Такъ долго, что у Лямина заболѣли ладони. Онъ пересталъ аплодировать и подулъ на ладоши — онѣ свѣтили въ полутьмѣ красно, малиново.
«Руки-то въ кровь всѣ разбиваютъ, вотъ какая любовь».
Озирался. Изнутри распирали гордость и тревога. Тревога пересилила. А можетъ, тутъ, въ залѣ, сейчасъ возьмутъ — да бомбу взорвутъ?
Лысый человѣкъ, вцѣпившись въ дерево трибуны, рѣзко наклонился впередъ. Лысина сверкнула подъ лучами люстры. Люстру все сильнѣе, гуще заволакивало табачнымъ дымомъ. Люди слушали. Ленинъ разѣвалъ ротъ широко, шире варежки, будто хотѣлъ кого-то хищнаго, коварнаго взять да проглотить. Рѣчь его лилась гладко, безъ сучка безъ задоринки; онъ то взмывалъ голосомъ вверхъ, то ронялъ его внизъ, и тогда толпа затихала еще больше и старательно прислушивалась — было слышно вокругъ Лямина хриплое, сиплое дыханіе, музыка прокуренныхъ легкихъ.
«А, это и самъ я такъ громко дышу. Простылъ, что ли?»
Слова излетали изъ Ленина прямыя, простыя, правильныя, и съ каждымъ изъ его словъ можно было согласиться, и народъ вокругъ кивалъ, вертѣлъ головами, поднималъ вверхъ, надъ плечами, тяжелые кулаки, одобряя все, что говоритъ вождь. А дымъ сгущался, и тревога сгущалась, становилась терпкой, жгла подъ языкомъ, сильно стучала внутри, била поперекъ реберъ, звономъ заглушая сердце.
«А что это я весь колыхаюсь? Точно, застудился, едриться-мыться…»
Люди глядѣли вверхъ, на трибуну, съ восторгомъ. На щетинистыхъ, бородатыхъ, скуластыхъ, раскосыхъ, щербатыхъ, беззубыхъ, табачныхъ, желтыхъ отъ голода лицахъ были размашисто и крупно, рѣзкими широкими мазками, написаны, въ кои-то вѣки, счастье и яркая любовь.
«Обожаетъ народъ его! Такъ-то!»
И правда, на трибунѣ стоялъ — богъ. Новый красный богъ, и, навѣрное, новый царь.
«Прежняго царя скинули… Николашку… а это — царь Владиміръ… Вла-ди-міръ… Владѣющій міромъ, точно…»
Слова текли и настигали, отъ словъ нельзя было укрыться, отъ ровнаго, увѣреннаго, картаваго голоса, что говорилъ аккуратъ все то, что съ каждымъ въ залѣ — доподлинно происходило.
Страна и время были въ каждомъ. Тотъ, кто постоялъ хоть минуту въ этомъ торжественномъ залѣ, среди господскихъ ненавистныхъ бѣлыхъ колоннъ, это почувствовалъ, это понялъ и навсегда запомнилъ.
«Мы — народъ. Здѣсь — народъ! Все это сдѣлалъ народъ! Революцію! Мы сами это сдѣлали! Мы! Всѣ, кто здѣсь! Сами! Для всѣхъ! Насовсѣмъ! Навѣчно!»
Что-то произошло съ толпой. Люди пригрудились, придвинулись ближе другъ къ другу. Сидящіе — встали. Скрипѣли кресла. Качалась тусклая громадная люстра. Дыханія сливались воедино. Всѣ вѣрили словамъ лысаго человѣка. Себѣ — не вѣрили, а ему — вѣрили.
Толпа выпрямилась, всякій стоялъ гордо, и изъ каждой глотки уже доносилось, съ каждыхъ губъ слетало и летѣло въ залъ, къ президіуму и трибунамъ, къ отчаянной и свѣтлой люстрѣ это свѣтлое и давнее, эта свѣтлая, яркая, красная пѣсня, могучая, какъ красная, напитанная кровью, морская волна, дикая и строгая, какъ сильная, единственная молитва:
— Вставай, проклятьемъ заклейменный,
Весь міръ голодныхъ и рабовъ!
Кипитъ нашъ разумъ возмущенный
И въ смертный бой вести готовъ!
«Мы прокляты?! Мы — нищіе, низшіе?! Червяки мы, что копошились у васъ подъ ногами?! Ахъ, шейки ваши въ жемчугахъ… А наши дѣти — будутъ богатыми, какъ вы! Будутъ учеными, какъ вы! Будутъ — міромъ владѣть, вотъ что! Вотъ какъ!»
— Весь міръ насилья мы разрушимъ…
До основанья… а затѣмъ…
Мы нашъ, мы новый міръ построимъ!
Кто былъ ничѣмъ — тотъ станетъ всѣмъ!
Михаилъ пѣлъ вмѣстѣ со всѣми, со всѣмъ восторженнымъ народомъ, не пѣлъ — оралъ возбужденно, и, снявъ фуражку, отиралъ потный лобъ. Веснушки на его носу обозначились рѣзче — отъ волненія, отъ радости. Кровь приливала къ щекамъ и отливала опять. Душно было въ переполненномъ, какъ тѣсный улей роями, залѣ.
Рядомъ съ нимъ, разѣвая ротъ старательно и страшно, блестя желтыми прокуренными зубами, пѣлъ низкорослый солдатъ въ бѣлой овечьей грязной папахѣ; потомъ папаху сдернулъ и ею вытеръ лицо. Продолжая пѣть, обернулся къ Михаилу и ему подмигнулъ.
И Лямину ничего не оставалось, какъ подмигнуть ему въ отвѣтъ.
Сзади Лямина стоялъ и пѣлъ еще одинъ солдатъ. Худощавый, поясомъ туго въ таліи перетянутый. У солдата сверкали свѣтло-сѣрые, двумя сколами кварца, жесткіе глаза. Строго выпрямивъ спину, солдатъ стоялъ и пѣлъ, глядя въ рыжій затылокъ Лямину:
— Это есть нашъ послѣдній
И рѣшительный бой!
Съ Интер-на-ціона-ломъ
Воспрянетъ родъ людской!
Народъ, въ самозабвеніи, въ ярости и морозѣ восторга: свершилось! мы — владыки Россіи! мы, народъ, а не вы, жадные цари, помѣщики, заводчики и жандармы! — пѣлъ скорбный и гордый гимнъ, онъ ломалъ оконныя стекла, подламывалъ колонны, вырывался въ открытыя фортки, летѣлъ на улицу, обнималъ деревья, сбивалъ съ ногъ прохожихъ, разливался подъ ногами людей краснымъ потокомъ, красно и люто стекалъ въ Неву, опять взлеталъ — и улеталъ, освобожденный отъ сердецъ и глотокъ, въ вѣтеръ, въ небо.
***
…А колеса все стучали, и они уже потеряли счетъ времени — сколько дней и ночей, сколько недѣль они трясутся въ этомъ поѣздѣ, сколько народу уже вышло и вошло въ вагоны, то душные, то ледяные, — а они все ѣдутъ и ѣдутъ, и онъ все глядитъ и глядитъ на эту странную то ли дѣвку, то ли бабу, то ли солдата, а однажды ночью она помстилась ему старухой — такъ упалъ на нее изъ окна свѣтъ станціоннаго фонаря, — и ведетъ съ ней разговоры, и ѣстъ съ ней и пьетъ, и опять балакаетъ о томъ, о семъ, и она сначала дичится, потомъ все живѣе и живѣй отвѣчаетъ ему.
И вотъ уже оба смѣются. И вотъ уже оба ищутъ рукъ другъ друга.
Долго ли, дѣло молодое.
А кругомъ народъ, и не поцѣлуешься тутъ, не помилуешься. Не говоря о чемъ другомъ.
А другого — хочется, терпежу нѣтъ; и Мишка видитъ, какъ на бабу въ шинели заглядываются съ верхнихъ и нижнихъ полокъ, и грызетъ его кишки червь злобы и гнѣва, огненный червь, и иной разъ, подъ стукъ колесъ, ему видится, какъ они оба, на багажной, подъ потолкомъ, полкѣ обнимаются такъ крѣпко, что духъ вонъ, а то чудится, что онъ склоняется найти ея губы, а она залѣпляетъ ему со всего размаху знатную оплеуху.
«Никакой жизни нѣтъ… съ этой войной, революціей…»
Это все ночью блазнится. А когда день — сидятъ чинно другъ противъ друга, бесѣдуютъ, и ему неважно, что ѣдятъ, — на станціяхъ долго стоитъ составъ, Пашка выбѣгаетъ, хозяйственно, ловко покупаетъ у торговокъ вареную картошку, посыпанную рѣзаной черемшой, моченыя яблоки, пироги съ тайменемъ, а то и съ жирнымъ чиромъ, — это они уже ѣдутъ по Сибири, и Пашка жадно глядитъ въ окошко, и слѣдитъ глазами распадки, увалы, заимки посреди тайги, — и шепчетъ: «Родненькая… родненькая моя…»
Мишка стѣснялся спросить, кто такая эта родненькая.
А потомъ самъ догадался: земля это, ея родина.
Закрывалъ глаза. Жигули свои вспоминалъ. Волгу.
Увидитъ ли когда? Такъ же ли шепнетъ Волгѣ: «Родненькая…»
«Конечно, увижу. Когда лучшую жизнь отвоюемъ — и заново все построимъ. Кто былъ ничѣмъ, тотъ станетъ всѣмъ!»
— Пашка! Скоро ли Тюмень?
— А я почемъ знаю?
Когда глядѣлъ въ ея лицо — смутно вспоминалъ питерскую страшную ночку, позолоченную лѣпнину Зимняго дворца, винные ручьи въ погребахъ, черный металлическій сверкъ Невы. И кружевной чугунъ моста. И запахъ табака, ѣдкаго дешеваго дыма, ножами рѣжущаго ноздри и легкія.
«Что я… зачѣмъ Петроградъ… къ чему еще эти сны… все правильно мы сдѣлали, рабочіе, солдаты, моряки… все — вѣрно… вѣрнѣе некуда…»
Небо распахивалось сѣрыми женскими глазами, сѣрое, холодное, лукавое, казнящее. Поѣздъ подходилъ къ Тюмени, и опять это оказывалась другая станція.
И такъ они ѣхали вѣчно, и рельсы мотались солеными селедками передъ черной собачьей мордой паровоза, и дышали они дымомъ и гарью, и легкія у нихъ чернѣли, и умыться было неоткуда и негдѣ, и на станціяхъ Пашка приносила въ горсти снѣгъ: онъ таялъ, она умывала талымъ снѣгомъ себѣ лицо, ея щеки румянились, и этими мокрыми руками она проводила по небритымъ Мишкинымъ щекамъ, хохоча, будто ее щекотали, — а потомъ вразъ, сурово и мрачно и надолго, умолкала.
ГЛАВА ВТОРАЯ
«А когда я ѣхалъ съ ямщикомъ, то послѣ боя я былъ сильно утомился, потому что я не спалъ трое сутокъ, а когда меня везъ ямщикъ, то я легъ и наказалъ ямщику, чтобы онъ не доѣзжалъ до деревни Бѣловой километръ, чтобы меня разбудить. Но когда я заснулъ, то ямщикъ былъ кулакъ и онъ меня привезъ къ бѣлымъ, вмѣсто того чтобы разбудить. И въ этотъ моментъ соннаго меня обезоружили и давай меня бить, издѣваться. Били меня до безсознанья, я не помню, вдавили мнѣ два ребра, сломали мнѣ носъ, а когда дали мнѣ опомниться, то дали мнѣ лопату и заставили меня рыть себѣ могилу тутъ же на мѣстѣ. Но остальная сволочь кричитъ: „Здѣсь его не убивайте, а вывести на могилу“. Но мое пролетарское упорство: я съ мѣста ни шагу, и говоря: „Если вамъ, гады, нужно, то разстрѣливайте на мѣстѣ“. Въ этотъ моментъ вдругъ является молодой человѣкъ лѣтъ двадцати что ли двухъ и предложилъ меня отпустить, который сказалъ, что Прокудинъ въ этомъ не виновенъ, онъ былъ поставленъ властью и его пустить во всѣ четыре стороны и пусть идетъ. Да еще за меня застоялъ одинъ бѣднякъ, который меня охранялъ, и сказалъ, что завтра же придутъ красные и разстрѣляютъ нашу всю деревню, а пусть онъ идетъ. И я былъ отпущенъ. А когда меня отпустили, то я не могъ никакъ двигаться, а послѣ на бой сразу. Мнѣ надо было воды, то мнѣ никто не далъ воды. Нашелся одинъ сознательный старикъ, не боясь ничего, онъ мнѣ немного помогъ, запустивъ меня къ себѣ и давъ мнѣ попить. И пробывъ я у старика до ночи, и я пошелъ нанялъ ямщика довести до своей деревни Коноваловой. Пріѣхавъ къ отцу въ двѣнадцать часовъ ночи, и я началъ стучать. Отецъ испугался и говоритъ мнѣ, что тебя приходили три раза съ винтовками арестовывать. Братъ спросилъ отца, что кто это. Отецъ сказалъ, что твой братъ пріѣхалъ. Братъ и велѣлъ отцу впустить и говоритъ, что намъ нечего бояться, если его убьютъ, то мы будемъ знать, что гдѣ онъ будетъ похороненъ. А когда я вошелъ въ домъ отца, то тутъ быстро меня узнали свои родные и хотѣли приготовить сухарей, отправить меня скитаться. Но тутъ же быстро узнавъ, кулаки нашей деревни пришли, меня опять арестовали и повели меня разстрѣлять самосудомъ. А когда меня привели, то я пришелъ и спрашиваю: „Въ чемъ дѣло?“ Мнѣ говорятъ кулаки: „Что, устояла ваша власть?“ — и говорятъ, что мы тебя, бандита, разстрѣляемъ, и приговорили меня разстрѣлять на кладбищѣ. Но я благодаря своему упорству, я имъ сказалъ, что: „Гады, стрѣляйте меня на мѣстѣ, а я туда не пойду“. А въ это время староста Каневъ Иванъ Ивановичъ выразилъ обществу: „За что мы его разстрѣляемъ? Сегодня — бѣлые, а завтра — красные. Намъ всѣхъ не перестрѣлять, да и глупо будетъ“, — и велѣлъ отпустить, что онъ и такъ убитъ: „Пущай отдыхаетъ, дѣло не наше“. Меня отпустили домой. Но я домой не пошелъ, а зашелъ къ одному бѣдняку, который меня заложилъ подъ перину, и я тамъ спасся, меня больше года не нашли».
Изъ воспоминаній Григорія Іосиповича Прокудина,
жителя деревни Байкаимъ Кузнецкаго округа Сибирскаго края. 1918 годъ
Отъ стѣнъ дома волной шелъ и захлестывалъ холодъ. Дровъ отрядили мало. Михаилъ ежилъ плечи, дулъ въ ладони. Внутри, въ легкихъ, перекатывались остатки молодого жара.
Онъ тихо, какъ котъ, ступая, пошелъ по дому. Медленно, слоновьи тяжело наступая на всю ступню, поднялся по лѣстницѣ. Холодъ и молчаніе, и больше ничего. Эти — затаились. Не шевелятся, не болтаютъ на ихнемъ заморскомъ.
Стекла трещали отъ ударовъ мороза. Морозъ синимъ кулакомъ билъ и билъ въ окна.
«И будетъ еще лютѣй, — подумалъ Михаилъ и почесалъ щеку, и еще и еще почесалъ, чтобы щека разогрѣлась отъ жесткаго карябанья, — ажъ звѣзды вымерзнутъ».
Онъ нутромъ чуялъ: еще жесточе завернетъ зима.
Что жъ они, въ Рождество-то, умерли, что ли?
Тишина жутью залѣпляла уши.
Черезъ стекла длинными иглами входили и входили, вползали звѣзды въ грудную клѣтку.
Михаилъ постучалъ себя кулаками по груди, будто кто-то тамъ у него засѣлъ, плѣненный: звѣрокъ ли, птица. И надо, разломавъ ребра кулаками, выпустить его на волю.
Охлопалъ себя ладонями по плечамъ, по-ямщицки: такъ у нихъ въ Новомъ-Буянѣ ямщики, послѣ перегона, топчась на снѣгу, охватывались, сами себя грѣли. Хлопки гулко раздались и истаяли въ пьяной тишинѣ.
Шелъ по коридору. Чуялъ себя червемъ, проползающимъ сквозь слой тихой земли. Изъ-подъ двери сочился свѣтъ. А, все жъ таки не спятъ. Не спятъ!
Любопытство закололо плечи ершовыми плавниками. Ляминъ остановился и приникъ щекой къ притолокѣ. Сощурилъ глазъ. Ему не впервой было подсматривать.
Глазъ, судорожно дергаясь въ глазной впадинѣ, зрачкомъ шарахаясь, искалъ среди нихъ, сидѣвшихъ за столомъ, Марію.
Да, вотъ она.
Сглотнулъ. Кадыкъ дрогнулъ. Квадратъ людскихъ затылковъ надъ квадратомъ стола. Странно застыли. Словно слушаютъ. Страшную музыку. А можетъ, пріятную. Ангелы имъ поютъ на небеси!
Руку воздѣлъ, чтобы дверь толкнуть. Рука замерла. Сжалась въ кулакъ. Кулакъ ко лбу поднесъ. Подглядывать — продолжилъ.
Чтобы шевельнулись, ожили — ударилъ сапогомъ о сапогъ.
Затылки задвигались. Появились профили и лица. Профили оборачивались другъ къ другу. Лица опять застывали холодными блинами, острыми тесаками. Михаилъ рыскалъ зрачками: цесаревича не видѣлъ. Спитъ, болѣзный. А елка-то гдѣ?
Вспомнилъ, какъ самъ въ лѣсу рубилъ. Самъ тащилъ сюда.
И цесаревичу — показывалъ. Схвативъ за стволъ, мелко трясъ, и безшумно отрясался на паркетъ мелкій жемчугъ снѣга.
А цесаревичъ слабо, больнымъ котенкомъ, улыбался, показывалъ клычки и мелкіе, какъ у матери, нижніе зубы. И протягивалъ руку, и палецъ касался зелени иголокъ, какъ раскаленной въ печи кочерги. Руку отдергивалъ. Михаилъ всѣмъ тѣломъ дергался въ тактъ: такъ пугалъ царенка. А потомъ смѣялся, грубо и хрипло, и цесаревичъ вторилъ ему: звонко, жаворонкомъ. И Михаилъ, опомнившись, кричалъ: «Отставить!»
Тяжесть елки на плечѣ. Корявый стволъ, духмяная хвоя, крѣпкій спиртовый запахъ. Ему приказали, онъ исполнилъ, дѣловъ-то.
«Небось, спитъ въ комнатенкѣ своей. Мать укрываетъ его одѣялами. Свое, небось, отдаетъ, дочерины наваливаетъ. А то рядомъ съ нимъ подъ одѣяло заползаетъ, тѣломъ грѣть».
Задрожалъ подъ гимнастеркой. Холодъ пробирался подъ шинель. Шинелишка мала, въ плечахъ жметъ. «А какъ царевны? Имъ-то что въ сугробѣ, что въ спальнѣ, одно. Тоже другъ съ дружкой… можетъ, и кровати сдвигаютъ…»
Онъ догадывался вѣрно: цесаревны въ лютѣйшіе морозы спали парно — Ольга съ Татьяной, Марія съ Анастасіей.
Зрачки поймали выблескъ пламени. Уши уловили легкій трескъ. Горѣли въ каминѣ дрова. Время сжирало дерево, людскія тѣла, воздухъ и камни. Оно оказывалось, какъ ни крути, сильнѣе огня и всего, что Михаилъ зналъ.
«Тоска имъ тутъ… Тоска». Цесаревича увидалъ, какъ въ туманѣ.
Мялся съ ноги на ногу. Но отъ дверной щели не отходилъ.
Изъ щели сочился нездѣшній свѣтъ. Такого онъ въ своемъ, сѣромъ и грязномъ, кровавомъ мірѣ не видалъ и врядъ ли уже увидитъ.
Поэтому глядѣлъ жадно, хищно.
Елка стояла на столѣ. Въ центрѣ стола, какъ въ центрѣ міра. На одномъ краю стола и на другомъ пылали и чадили двѣ свѣчи: одна — огарокъ, другая тонкая и крѣпкая, съ рвущимся, какъ кровь изъ аорты, пламенемъ. Иглы топорщились такъ рьяно, что вѣтки казались толще руки. Сизыя, синія иглы. Кожу на спинѣ Лямина закололо: будто бы морозомъ изъ залы дико, темно дохнуло.
Ни одной игрушки на елкѣ. Ни свѣчки жалкой.
Онъ слѣдилъ, какъ Марія, зябко поведя плечами подъ тонкой вытертой козьей шалью, подняла руки и огладила ближайшую къ ней вѣтвь, какъ оглаживала бы дикую, опасную росомаху: съ любопытствомъ, испуганно и нѣжно. Бѣлая рука, будто хрустальная. Будто — игрушка, и виситъ, качается… плыветъ.
Его проняло: оказывается, человѣкъ — тоже игрушка!
— Да еще какая, — выплюнулъ сквозь зубы безслышно, — еще какая выкобенистая…
Что у нихъ тамъ на столѣ? Рождество — безъ пирога, безъ утки, запеченной въ яблокахъ, безъ французскаго салата оливье съ раковыми шейками и анчоусами? Сидѣли, гладили пустую скатерть. Анъ нѣтъ, вонъ тарелка; и на тарелкѣ нѣчто. Присмотрелся. Хлѣбъ! Просто, крупно нарѣзанный ржаной хлѣбъ. Цесаревичъ взялъ въ руки кусокъ хлѣба, понюхалъ. Нюхалъ такъ долго, что нога Михаила затекла, и онъ тряхнулъ ею, лягнулъ тьму. И чуть сапогъ съ ноги не сронилъ.
Мать сидѣла горделиво, жестко. Расширѣвшая старая спина, а жесткій юный хребетъ. Онъ часто видѣлъ, какъ бывшая царица, сидя въ креслѣ, вытягиваетъ впередъ себя ноги, не желѣзныя, живыя; распухшія, больныя. Разношенныя, когда-то роскошныя туфли спадаютъ. Пальцы въ толстыхъ носкахъ шевелятся, брови и ротъ искривлены страданіемъ. Будто кислаго поѣла, лимонъ изжевала. Тогда Михаилъ странно, постыдно жалѣлъ ее.
Татьяна склонилась къ матери, такъ двигаются тряпичныя куклы. Въ рукѣ она держала бѣлый квадратъ. Конвертъ, подумалъ Михаилъ сперва, письмо! Нѣтъ: тетрадь. Михаилъ разглядѣлъ: странная тетрадка-то, узкая, что твоя чехонь, и вовсе не бѣлая, а лиловая. Татьяна ближе посунулась къ царицѣ и обняла ее за шею. Зашептала въ ухо. Шопота онъ не слыхалъ — слишкомъ далеко сидѣли. Царица взяла тетрадь медленно, словно лунатикъ. Такъ же медленно притиснула къ груди.
Царь смотрѣлъ взглядомъ долгимъ, скучнымъ. Потомъ перевелъ водянистые, стеклянные глаза на елку.
И глаза стали зеленые. Глубь болота.
Царскіе глаза, перламутрово катаясь подо лбомъ, что-то увидѣли на обложкѣ тетради. Николай протянулъ руку ладонью вверхъ. Александра положила въ нее тетрадочку. Тетрадь величиной съ ладонь. Записная книжка? Михаилъ слышалъ, какъ онъ дышитъ. Затылки дрогнули. Сидящая къ нему спиной обернулась. Анастасія. Она держала ножъ. Узкій, длинный.
И навѣрное, остро наточенный. Впрочемъ, есть ли у нихъ наждакъ? Прозрачный цесаревичъ призрачно улыбался.
Надо отнять ножъ. Какъ ни крути, это оружіе.
И тутъ онъ не выдержалъ. Рванулъ дверь на себя. Бронзовая ручка въ видѣ оскаленной морды льва обожгла пальцы.
Онъ не зналъ, что скажетъ. Да все равно было.
— Здррасте, мое почтеніе! — Издѣвательски, пѣтушино взвился голосъ. — Съ Рождествомъ… ха-ха, Христовымъ всю компанію! — Кегли головъ дрогнули, покатились — кто набокъ, кто къ нему, кто прочь. — Какъ тамъ, волсви со звѣздою… путешествуютъ?..
Анастасія хотѣла встать строго, да не вышло. Стулъ упалъ съ грохотомъ. Цесаревичъ пропалъ. Да былъ ли?
— Съ Рождествомъ Христовымъ васъ!
Глаза скользили по царственнымъ головамъ.
Вотъ она, вотъ.
Руки Маріи, прежде сильныя, тяжелыя, обливныя, исхудали. Щеки ввалились. «Да, ѣдятъ скудно. А откуда мы харчей напасемся?» Глаза огненно, охально очерчивали мягкія выпуклости груди подъ чистой, и, казалось, хрустящей сѣрой бязью. Марія часто и сильно дышала, и ему почудилось — хрипитъ она, простужена.
«Немудрено. Такой холодъ на дворѣ и въ домѣ».
— Садитесь съ нами, — съ трудомъ выжалъ изъ посинѣлыхъ губъ царь.
Сѣсть? Не сѣсть?
Подумалъ про караулъ.
«Мужики меня потеряли. И Пашка… тоже».
Ольга и Татьяна вскочили. Обѣ уступали мѣсто. Ему, охраннику — великія княжны!
Въ груди будто искра разгорѣлась; кишки заполыхали. Сѣлъ. Безсмысленно потянулъ со стола салфетку, злобно смялъ въ грязныхъ пальцахъ. Анастасія рядомъ. Косилась, какъ кошка на мышь, на мозоли на его пальцахъ — отъ винтовки.
О чемъ говорить? Не о чемъ говорить.
«Я для нихъ грязь. Пыль. Они мнѣ черезъ голову смотрятъ. Хуже коняги, хуже быка я для нихъ. Скотину хотя бы кормятъ, ублажаютъ. Ласковое слово бормочутъ. Ну вотъ сѣлъ я. Молчатъ! И будутъ молчать».
Самъ не понимая, какъ это изъ него стало вырываться, плескать крыльями, вылетать, онъ хрипло запѣлъ:
— Ой Самара городокъ, безпокойная я! Безпокойная я, успоко-о-ой ты-и ме-ня…
«Вотъ вамъ. Вотъ. Вмѣсто Рождественскихъ тропарей вашихъ!»
На Марію не смотрѣлъ. Будто она рѣяла гдѣ-то высоко, надъ потолкомъ, надъ зимними ночными облаками.
— Платокъ тонетъ и не тонетъ… потихонечку плыветъ! Милый любитъ ай не любитъ — только времячко ведетъ!
«Ишь, сидятъ. Слушаютъ. Да она бы, царица, мнѣ бъ, если могла — по губамъ бы кулакомъ дала!»
— Милый спрашивалъ любови! — Пѣлъ уже зло, съ нажимомъ. Билъ голосомъ, какъ молоткомъ, по словамъ. — Я не знала, што сказать! Молода, любви не знала! Ну и…
Марія встала. Онъ увидѣлъ это затылкомъ.
— Жалко отказать!
Ухмыляясь, скалясь, вотъ теперь обернулся къ ней. Глазами стегнулъ по ея глазамъ, по щекамъ. Синій отъ холода носъ, а щечки-то горятъ.
— Папа, можно, я угощу господина… товарища Лямина?
Глаза поплыли вбокъ, хлестнули столъ. Пальцы Маріи скрючились и цапнули кусокъ ржаного. Она подала хлѣбъ Михаилу, какъ милостыню.
И онъ взялъ.
Пѣсню прервалъ.
«Глупо все. Глупо».
Елка топырила сизыя лапы. Изо ртовъ вылеталъ паръ. Михаилъ вонзилъ зубы въ ржаной и сталъ жевать, ему самому показалось, съ шумомъ, какъ конь — овесъ въ торбѣ.
Доѣлъ. И какъ шлея подъ хвостъ попала — опять запѣлъ.
Губа поднималась, лѣзла вверхъ; осклабился, обнажилъ желтые отъ курева зубы.
— А раньше я жила не знала, што такое кокушки! Пришло время — застучали кокушки по жопушкѣ!
Царица закрыла ротъ рукой. Будто бы ее сейчасъ вырветъ. Дверь въ другую комнату раскрылась, какъ крышка треснувшей шкатулки; вышелъ, ступая соннымъ гусемъ, цесаревичъ, настоящій, во плоти, обѣими руками держалъ на плечахъ одѣяло, какъ шкуру медвѣдя; одѣяло волочилось по полу, подметало мусоръ.
Алексѣй глядѣлъ круглыми напуганными глазами. Такъ глядитъ изъ клѣтки говорящій попугай, не понимая, что лепечутъ странные страшные люди.
— Съ Рождествомъ Христовымъ, мама, папа! Сестрички!
— Кокушки… по жопушкѣ… — тихо, все тише повторилъ Ляминъ. Съ чернаго хлѣба онъ опьянѣлъ, и водки не надо.
Анастасія ловко сунула руку подъ елку. Вытащила нѣчто. Онъ думалъ, это подарокъ, а это оказалась тарелка съ гречневой кашей. И, о чудо, сверху каши лежало смѣшное, коричневое!
Котлета, давясь отъ неприличнаго смѣха, догадался онъ.
Анастасія подвинула по столу тарелку ближе къ Алексѣю. Въ ея глазахъ стояли слезы. Опять ненастоящія, хрустальныя елочныя висюльки. И сейчасъ прольются-разобьются.
— Алешинька… это тебѣ…
Каша и котлета, какъ это мило. Нѣжно.
Михаилу захотѣлось плюнуть на полъ. И ударить кулакомъ эту елку на столѣ, и сшибить къ чортовой матери.
Но онъ не ударилъ. И не плюнулъ.
Марія такъ ясно, прямо смотрѣла. Она не глядѣла на елку; ея взглядъ горячимъ сургучомъ лился на него, злого, потеряннаго, застывалъ, запечатывалъ.
Алексѣй затрясся, сдернулъ съ плечъ одѣяло, подложилъ подъ себя, на сидѣнье, сѣлъ. Ему въ руки воткнули ложку. У ложки крутилась, голову кружила витая ручка. Серебро почернѣло, и витки спирали вспыхивали рыбьей чешуей. Михаилъ смотрѣлъ, какъ цесаревичъ ѣстъ. И самъ шумно подобралъ слюни. И вытеръ кулакомъ ротъ. Часы въ другой, иншей, инакой, за семью морями, комнатѣ забили: бом-м-м-мъ, — одинъ разъ. И задохнулись.
Часъ ночи. Часъ.
И, когда они всѣ, вся семья, встали за столомъ, всѣ, какъ по командѣ, перекрестились и запѣли: «Рождество Твое, Христе Боже нашъ, возсія мірови свѣтъ разума, въ немъ бо звѣздамъ служащіи звѣздою учахуся Тебѣ кланятися, Солнцу Правды!» — онъ всталъ, пятясь, онѣмѣвшей рукой оттолкнулъ прочь отъ себя тарелку со ржанымъ, она заскользила по столу, докатилась до края, чуть не упала, и Марія, закусивъ губу, поймала ее, да неудачно: тарелка живой рыбой вырвалась у нея изъ рукъ, грянулась объ полъ и разбилась. Хлѣбъ разлетѣлся.
— …и Тебе вѣдѣти съ высоты Востока! Господи, слава Тебѣ-е-е-е-е!
***
Михаилу въ носъ ударила вонь сырыхъ портянокъ. Красногвардейцы дрыхли кто какъ, вповалку. Кто на кроватяхъ; кто на полу. Поломъ не гнушались: а какая разница, отъ панцырной сѣтки все одно холодомъ несетъ. Михаилъ угнѣздился у окна. Черезъ раму дуло. Вѣтеръ на улицѣ мужалъ, наглѣлъ. Ляминъ вылѣзъ изъ шинели, накинулъ ее на плечи, медленно потянулъ на голову. Натягивая, уже спалъ. Во снѣ ему привидѣлось — онъ ищетъ Пашку, ищетъ, ищетъ и найти не можетъ. А она вродѣ бы храпитъ тутъ же, рядомъ. Возлѣ. И онъ тычетъ кулакомъ въ мягкое, пахучее женское тѣсто — а натыкается на колючія заиндивѣлыя доски заплота. И занозы всаживаются ему въ кулакъ, и онъ выгрызаетъ ихъ зубами, и кровь на снѣгъ плюетъ, и матерится.
…Густо, пряно, маслено гудѣлъ колоколъ. Мощный, басовый.
Цари шествовали по улицѣ во храмъ Покрова Богородицы, а впереди, съ боковъ и сзади шли конвойные. Передъ носомъ царя мотался колоколомъ кургузый, недорослый, въ полушубкѣ съ чужого плеча, солдатъ по прозвищу Буржуй. Слѣва шли, на всякій случай винтовки въ рукахъ, а не за спиной, Сашка Люкинъ и Мерзляковъ. Справа шагалъ четко и сильно, будто почтовые штемпели подошвами сапогъ ставилъ на бѣлыхъ конвертахъ снѣга и льда, Андрусевичъ. Рядомъ съ нимъ — комиссаръ Панкратовъ. Ляминъ замыкалъ конвой. Ребра сквозь шинель чуяли ледяную плаху приклада.
Ремень давилъ грудь. Онъ поправилъ его большимъ пальцемъ; пошевелилъ пальцемъ внутри голицы. Палецъ ощутилъ, ласково осязалъ кудрявый бараній мѣхъ рукавичнаго нутра. «Хорошія голички, Пашкѣ спасибо, уважила».
Это Пашка ему пошила. И ловко же все умѣла, быстро. Что винтовку шомполомъ почистить, что щи въ чугунѣ задѣлать — пустыя-постныя, а пальчики оближешь.
А интересно вотъ, да, она-то, она умѣетъ что постряпать?
Забавно шли въ церковь: впереди не родители, а дѣти. Гусакъ и гусыня назади, а выводокъ передъ собой вытолкнули. И быстро же дѣвки перебираютъ ногами. Шубенки пообтрепались. А залатать некому и нечѣмъ.
«Лоскуты имъ, что ли, гдѣ раздобыть овечьи. Пашку заряжу, починитъ».
Марія ступала, ему такъ чудилось, легче всѣхъ.
«Какъ по пуху, по снѣгу идетъ. А снѣгъ подъ ней… музыкой пищитъ, скрипитъ…»
Народъ около церкви кучковался, сбивался, густѣлъ, вздувался черными и сѣрыми пузырями. Мѣхъ шапокъ лучился жесткимъ наждачнымъ инеемъ. Мужики шапки сдергивали у самаго входа, передъ надвратной иконой Одигитріи, сжимали въ рукѣ или крѣпко притискивали къ груди, крестясь. Бабы не улыбались; обычно въ Рождество всѣ улыбались, сіяли глазами и зубами, а тутъ какъ воды въ ротъ набрали. Будто — на похороны пришли, не на праздникъ.
Михаилъ понялъ: народъ согнался на царей дивиться.
Ну, зырьте, зырьте, зѣваки. Такого-то больше нигдѣ не узрите.
А только у насъ, въ Тобольскѣ! Посреди Сибири, снѣжной матушки!
Вмѣстѣ влились густымъ людскимъ варевомъ внутрь церковнаго перевернутаго котла: и точно, какъ на днѣ котла, копоть иконъ со взлизами золотыхъ тарелокъ-нимбовъ, черныя выгнутыя стѣны, и катится по нимъ жидкая соль слезъ и пота, застываетъ, серебрится.
Цесаревны встали цугомъ, какъ лошади, запряженныя въ карету, Алексѣя дядька въ тѣльняшкѣ держалъ на рукахъ; потомъ бережно опустилъ на огромную, погрызенную временами каменную плиту. Александра Ѳедоровна стояла въ ажурной вязаной шали. Край шали, съ бѣлыми зубцами, касался щеки и, видимо, непріятно щекоталъ ее; царица разсѣянно подсунула подъ шерсть пальцы и отогнула ее, и шаль мигомъ сползла ей на плечи, на воротникъ лисьей шубы.
Священникъ пѣлъ, гремѣлъ ектенью, да увидѣлъ простоволосую. Насупился и выбросилъ впередъ руку, какъ дирижеръ, а старуха уже испуганно платокъ на лобъ водружала. Устрашилась! Какъ простая! Какъ мѣщанка, какъ баба деревенская!
А что, они такіе же люди, какъ всѣ мы. Точно такіе. И кровь у нихъ не голубая, а красная.
«Какъ наше знамя».
Гордо подумалъ, и морозъ когтями голоднаго кота подралъ у него подъ лопатками.
Они стояли: мужъ и жена, и жена глядѣлась выше мужа. Малорослый полковничекъ-то при супружницѣ. Чуть бы ему подлиннѣй вытянуться. Или это она — на каблукахъ?
Скосилъ внизъ глаза. Изъ-подъ шубы царицы торчали сѣрые тупоносые катанки. Снѣгъ на нихъ подтаялъ въ храмовомъ теплѣ, и капли воды сверкали отраженіемъ свѣчного огня.
Михаилъ съ трудомъ перекрестился.
Для него Богъ былъ, и уже Бога не было. Какъ это могло такъ совмѣщаться? Онъ не зналъ. А раздумывать на эту тему было не то чтобы боязно — недосугъ.
— Блажени плачущіи, яко тіи утѣшатся! — гремѣлъ архіепископъ Гермогенъ.
Рядомъ съ царицей стояла баба въ огромномъ, какъ стогъ сѣна, коричневомъ шерстяномъ платкѣ съ длинными кистями. Когда архіепископъ грянулъ: «Блажени кротцыи, ибо тіи наслѣдятъ землю!» — по щекамъ бабы потекли быстрыя веселыя слезы. Она грузно повалилась на колѣни и, быстро и сильно осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, повторяла шлепающими, лягушачьими, большими губами:
— Охъ, блажени! Охъ, блажени!
И все крестилась, крестилась. У Михаила замелькало въ глазахъ, будто онъ на крылья мельницы глядѣлъ.
Нехорошо вокругъ творилось. Народъ все прибывалъ. Все душнѣй становилось, дышать было невмочь. Народъ текъ и текъ, трамбовался, груди прижимались къ спинамъ, и перекреститься нельзя было, не то чтобы свѣчку горящую держать. Кто-то ахнулъ и упалъ безъ чувствъ; расталкивая локтями и колѣнями толпу, съ трудомъ выдрались, вынесли на морозъ, на солнце. Двери храма не закрывались. Гермогенъ служилъ, голову задиралъ, слѣдилъ за паствой. Дьяконъ мельтешилъ, то подпѣвалъ, то кадило подавалъ, и курчавые завитки дыма обвивали повиликой торчащія изъ раструбовъ парчовыхъ рукавовъ руки-грабли.
«И стрѣляютъ попы, и картошку копаютъ, и охотятся. Все умѣютъ. Не бѣлоручки».
Мысли подо лбомъ вспыхивали насмѣшливо, гадко.
…Родители старались: молились, крестились, и дѣти крестились.
…Они крестились всѣ по-разному. Какъ неродные.
Анастасія остро, будто клювомъ дятла — кору, клевала, била себя въ лобъ, грудь и плечи. Будто бы себя — наказывала. Татьяна медленно, нѣжно подносила щепоть ко лбу. Алексѣй крестился восторженно, ласково. Онъ ласкалъ себя, привѣтствовалъ. Возлюби ближняго, какъ самого себя, — а и самого-то себя любить не умѣемъ! Ольга крестилась гордо и размѣренно. Ея симфонія звучала торжественно, какъ и требовало того торжество Рождества.
Марія крестилась незамѣтно. Широко, будто не рукой, а воздухомъ. Порывомъ вѣтра. Онъ чувствовалъ вѣтеръ, отъ нея доносящійся. Жмурился, какъ слизнувшій сметану котъ: брежу, спятилъ! Марія приподнялась на цыпочкахъ, улыбаясь далекому, гремящему золотому Гермогену, и ея ступни оторвались отъ пола, она зависла надъ холодными выщербленными грязными плитами, повисѣла чуть — и плавно, очень медленно поплыла надъ поломъ, впередъ, къ амвону, ибо ее никто не тѣснилъ: вся толпа стояла и давилась за спиной, сзади.
«Умомъ я тронулся, мама родная. Богородица, помоги».
Вотъ сейчасъ онъ готовъ былъ повѣрить въ кого и во что угодно.
Въ спину Лямина уперлась жесткая кочерга чужого локтя. Завозились, завздыхали.
— Ой, божечки! Вонъ они, вонъ они!
Конвойные тѣснились, ворчали. Отъ Андрусевича крѣпко тянуло табакомъ. Смуглыя ноздри округлялъ. Ляминъ видѣлъ: курить хотѣлъ, мучился. Сашка Люкинъ сплюнулъ, слюна попала на плечо царя, на его шинель безъ погонъ. Держалась за сукно утлой сѣрой жемчужиной.
Архіепископъ тяжко, съ натугой пропѣлъ одну громоподобную фразу, вторую. У Михаила заложило уши. Панкратовъ презрительно поднялъ плечи, и погоны коснулись его ушей, отмороженныхъ красныхъ мочекъ.
Дьяконъ вдругъ выше, высоко поднялъ горящую свѣчу. Гермогенъ раскинулъ руки — въ одной дикирій, въ другой трикирій. Перекрестилъ руки; огонь заполыхалъ мощнѣе на сквознякѣ, морознымъ копьемъ пронзающемъ толстую плотную духоту.
Дьяконъ, широкогрудый, мощный, какъ баржа по веснѣ на Иртышѣ, груженная углемъ, набралъ въ легкія щедро воздуху.
— Ихъ Величествъ Государя Императора и Государыни Императрицы-ы-ы-ы-ы…
Сашка Люкинъ посмотрѣлъ на Лямина, какъ на зачумленнаго.
— Што, сбрендили? — беззвучно проронилъ Мерзляковъ.
— Ихъ Высочествъ!.. Великихъ Княжонъ Ольги, Татіаны, Маріи, Анастасіии-и-и-и…
Буржуй дернулъ плечами и заверещалъ:
— Эй ты, стой! Заткнись!
Куда тамъ! Вокругъ вся могучая толпа странно, едино качнулась и празднично возроптала. Пискъ Буржуя угасъ въ гудящемъ и плывущемъ пространствѣ. Сгинулъ во вспышкахъ — въ угольномъ подкупольномъ мракѣ — лимонныхъ, прокопченныхъ страданіемъ нимбовъ и алыхъ далматиковъ.
— Его Высочества Великаго Князя, наслѣдника Цесаревича-а-а-а… Алексія-а-а-а-а!
— Молчать! — беззвучно изъ-подъ висячихъ табачныхъ усовъ крикнулъ Андрусевичъ.
— Многая, многая, мно-о-о-огая… лѣ-е-е-е-е-ета-а-а-а-а!
Конвой увидалъ то, что видѣть было нельзя. Народъ валился на колѣни, и его было съ колѣнъ не поднять. Ни ружьемъ, ни штыкомъ, ни прикладомъ.
Если бы они сейчасъ всѣхъ перестрѣляли, перекосили въ этой проклятой вонючей церкви изъ пулемета — никто бы все равно съ колѣнъ не всталъ.
Темный воздухъ рѣзко, радостно просвѣтлѣлъ. Ляминъ задралъ башку: откуда свѣтъ?
«Будь проклятъ этотъ свѣтъ. Этотъ чортовъ храмъ!»
Старался не смотрѣть на Панкратова. Теперь комиссаръ ему задастъ! Почему — ему, онъ и самъ не зналъ. Старшимъ у нихъ былъ Мерзляковъ, мрачный молчунъ. Лишь глянѣтъ — вытянешься во фрунтъ. Глаза такіе, бандитскіе, собачьи, ножами рѣжутъ.
Толпа качнулась впередъ, назадъ. Толпа готова была подхватить царей на руки. Проклятье! Какъ мать.
Толпа — мать, и царь — отецъ. Какъ все просто. И пошло.
Какъ обычно устроенъ міръ.
Но теперь мы его перестроимъ. Перекроимъ!
И никакимъ Гермогенамъ… въ ихъ ризахъ, въ парчѣ…
— …та-а-а-а-а…
Подъ куполомъ эхо умерло. И кусками слезъ и дыханія обваливалась, какъ штукатурка, тишина.
Гермогенъ счастливо перекрестилъ паству. А рука его дрожала.
…Мерзляковъ и Панкратовъ дождались отпуста и цѣлованія креста. Народъ уходилъ медленно, нехотя, люди оглядывались; и глядѣли даже не на царей — на нихъ, стрѣлковъ, на конвой, будто они были какіе попугаи заморскіе.
Михаилъ зло скрипнулъ зубами.
При выходѣ изъ церкви постарался бокомъ, локтемъ задѣть Марію, прижаться. Она хотѣла шарахнуться, онъ видѣлъ; потомъ удержалась, дрогнула круглымъ, какъ рѣпа, подбородкомъ, губы расползлись въ робкой улыбкѣ.
— Извините. Я васъ задѣла.
— Это я васъ задѣлъ.
Снѣгъ капустно, хрипло хрустѣлъ, пѣлъ, пищалъ подъ сапогами, валенками, ботами, котами, катанками, лаптями, башмаками. Ляминъ зналъ: комиссаръ и Мерзляковъ остались въ церкви. Они сейчасъ архіепископа и дьякона вилами, какъ ужей, къ стѣнѣ прижмутъ.
А можетъ, и къ стѣнкѣ поставятъ. Сейчасъ быстрое время, и быстрыя пули.
***
Ляминъ раскуривалъ «козью ножку». Свернулъ изъ старой газеты. Пока сворачивалъ, читалъ объявленія въ траурныхъ рамкахъ: «ВЫРАЖАЕМЪ СОБОЛѢЗНОВАНІЯ…», «СЪ ПРИСКОРБІЕМЪ СООБЩАЕТЪ СТАТСКІЙ СОВѢТНИКЪ ИГОРЬ ѲЕДОРОВИЧЪ ГОНЗАГО О КОНЧИНѢ ЛЮБИМОЙ СУПРУГИ ЕКАТЕРИНЫ…»
Смерти, смерти. Сколько ихъ. Смерть на смерти сидитъ и смертью погоняетъ. Въ жизни нынче вокругъ только смерть — а онъ все живъ. Вотъ чертяка. Втягивалъ дымъ и себѣ удивлялся.
Ушки на макушкѣ: слушалъ, что товарищи балакаютъ.
И снова удивился: раньше такъ къ ихъ безтолковому, жучиному гудѣнію тщательно, съ подозрѣніемъ, не прислушивался.
— А Панкратовъ-то у насъ игдѣ?
— Исчезъ! Корова языкомъ слизала!
— Таперя гуляй, рванина!
— А чо гуляй-то, чо? Раскаталъ губищу-тъ!
— Да на Совѣтѣ онъ.
— Какъ такъ?
— Какъ, какъ! На нашемъ Совѣтѣ!
— На Тобольскомъ, да-а-а-а!
— Срочно собралися.
— А чо срочно? Бѣляки подступаютъ?
— Самъ ты бѣлякъ! Заяцъ!
— Но, ты мнѣ…
— Спирьку я посылалъ туды. Ужъ цѣльный день сидятъ. Спирька баетъ: такъ накурено, такъ!.. Насмолили, ажъ топоръ вѣшай. И грызутся.
— А что грызутся-то?
Козья ножка дотлѣвала, красная крохотная звѣзда пламени медленно, но вѣрно добиралась до Михаилова рта. Искурилъ, на снѣгъ горѣлаго газетнаго червяка бросилъ. Сапогомъ прижалъ.
— Да то… Спирька-то глупъ, барсукъ, тупъ… а запомнилъ. И мнѣ донесъ. На комиссара бочку катятъ. Обличаютъ. Въ мягкотѣлости! Добръ, кричатъ, ты слишкомъ. Велятъ съ бывшими энтими, съ царями, обходиться суровѣй.
— Дыкъ куды ужъ суровѣй. Въ голодѣ держимъ ихъ, кисейныхъ, въ холодѣ. Къ иному вѣдь привыкли.
— Ну да. Къ перламутровымъ блюдечкамъ, къ чайку съ вареньицемъ изъ этихъ… этихъ, ну…
— Баранки гну!
— Изъ ананасовъ.
— Они и вишневое небось трескали, и яблочное. Чай, въ Расеѣ живемъ, не въ Еѳіопіи.
— И чо хотятъ-то? Штобъ мы ихъ… энто самое?
— Дурень. Спирька тебя умнѣе. Сдается мнѣ, за рѣшетку ихъ хотятъ затолкать. Домъ — одно, тюряга — другое, понимай.
— Вретъ онъ все, твой Спирька! Брешетъ!
— Это ты брешешь, кобель блохастый.
Беззлобно перебранивались, кашляли, подъ носъ пѣсни гудѣли. Всякъ скучалъ по дому. А онъ, Михаилъ, по Новому-Буяну — скучалъ?
Спросилъ себя: тоскуешь, гаденышъ?
Отчего-то себя гаденышемъ назвалъ, и стало смѣшно до щекотки.
— А эти, эти! Попы, хитрованы! Вотъ кого надо удавить. Передавить всѣхъ, какъ вошей. Къ ногтю, и дѣловъ-то!
— А чо ты такъ на нихъ? Попы они и есть попы. Были всегда.
— Газеты читай!
— Да я жъ неграмотный.
— Врешь! Я видалъ, ты помянникъ мусолилъ.
— Да у меня матери година. Помянуть хотѣлъ.
— Видишь, читаешь, значитъ!
— А чо въ газетахъ-то?
— А то. Патріархъ Тихонъ на большевиковъ — анаѳему!
— Ана-а-а-ѳему?!
— Анаѳему, вонъ какъ…
— И чо? Велика ли сила въ той анаѳемѣ? Сказки поповскія все это!
Михаилъ отнялъ ногу отъ снѣга. Подошва сапога отпечаталась глубоко и темно, словно бѣлую сырую простыню прожегъ утюгъ. Окурокъ лежалъ тихо и мертво, вмятый въ снѣгъ.
«Сказки, сказки», — повторялъ про-себя Ляминъ, все ускоряя и ускоряя шагъ.
…Взбѣжалъ по лѣстницѣ въ домъ. Въ корридорѣ дверь чуть пріоткрыта. Ввалился бокомъ. Зналъ: тамъ не пусто. Прасковья стояла у окна. Взглядъ ея уходилъ далеко въ морозную синеву, она будто нить тянула сразу изъ двухъ зрачковъ, а нѣкто огромный, заоконный ту нить на холодный палецъ наматывалъ.
Обернулась, да ужъ лучше бы не оборачивалась. Ея лицо съ широкими, косо срѣзанными скулами будто мѣдной плошкой покатилось въ лицо Лямина, и онъ отшатнулся отъ охлеста безжалостныхъ глазъ.
— Ну что ты, — шепталъ, какъ норовистой лошади, все-таки шагая къ ней, себя превозмогая.
Женщина, онъ видѣлъ, сложила ротъ для того, чтобы смачно плюнуть. Ему въ лицо.
— Плюй! — крикнулъ онъ.
Она неожиданно и круто повернулась къ нему спиной.
Потомъ странно быстро наклонилась. Вцѣпилась себѣ въ ремень. Истеричные пальцы не сразу справились съ застежкой. Онъ изумленно глядѣлъ, какъ спадаютъ съ ногъ бабы солдатскіе порты.
Бѣлизна ляжекъ ошеломила. Пашка наклонилась до полу, выставивъ бѣлый крѣпкій задъ. Ягодицы торчали незрѣлыми помидорами. Ладонями она трогала, ощупывала половицы, какъ если бы онѣ были живыя рыбы и уплывали, ускользали.
— Ну! — теперь крикнула она. — Что стоишь! Валяй!
Туманъ заклубился передо лбомъ, надвинулся на лобъ плотной сѣрой шапкой. Ноздри, раздувшись, поймали женскій запахъ. Ноги уходили, а нутро оставалось. Качался, какъ въ лодкѣ посрединѣ рѣки.
— Ну что! Давай! Трусишь? Или…
Онъ, заплетая ногами, подбрелъ къ этому бѣлому, круглому, жаркому, — знакомому, родному. И въ этой унизительной, рабской согнутости она все равно стояла на разставленныхъ кривоватыхъ, кавалерійскихъ ногахъ крѣпкой, гордой и сильной. Сила перла вонъ изъ нея, полыхала, уничтожала его, давила; онъ былъ всего лишь насѣкомое, и его прихлопнутъ сейчасъ, сдуютъ съ ладони.
«Я возьму ее… возьму, она хочетъ!»
«Врешь: это не ты возьмешь, а тебя возьмутъ. И съѣдятъ. И выплюнутъ».
Уже прижимался животомъ къ ея горячему, вздрагивающему твердому заду. Качался вмѣстѣ съ ней, терся объ нее. Умиралъ, дышалъ захлебисто, ладони уже сами, не слушаясь, хватали свисающія подъ гимнастеркой тяжелыя мягкія груди. А если кто войдетъ!
«Составятъ тебѣ компанію, и ее отнимутъ… выдернутъ у тебя изъ рукъ… повалятъ…»
Мутились пучеглазыя, глупыя рыбы-мысли.
Вдругъ Пашка вывернулась изъ-подъ него винтомъ, крутанулась, выгнула спину. Брякалъ ремень. Мѣдно, звонко брякало о ребра сердце. Онъ ловилъ ее по комнатѣ ошалѣлымъ медвѣдемъ, голоднымъ шатуномъ, а она уворачивалась, и на щекахъ вспыхивали ожоги — это она лупила его по щекамъ, да, ахъ, а онъ только-что понялъ.
Пощечины звучали тупо и глухо, будто били въ коверъ палкой, выбивая пыль. Потомъ прекратились.
Гимнастерка поверхъ ремня. Лифъ разстегнутъ. Пахнетъ лиліями отъ ея живота! Въ банѣ часто моется, не то что они, заскорузлые мужики. Онъ слышалъ свое дыханіе, и оно такое громкое было, что — оглохъ. Тонкимъ комаринымъ пискомъ зазвенѣлъ въ вискахъ далекій сопрановый колоколъ.
«Ко Всенощной звонятъ, въ Покрова Богородицы», — билась кровь, разрывала мозгъ.
***
Вспоминать можно всяко.
Можно лечь спать, смежить вѣки, и подъ лобъ полѣзетъ всякая чушь.
Можно бодро и упруго итти, а сапоги все равно тоскливо вязнутъ въ нападавшемъ за ночь, густомъ, какъ бѣлое варенье, снѣгу, — и то, что помнишь, будетъ летать передъ тобой голубемъ, воробьемъ.
Можно курить на завалинкѣ, долго курить: искурить цигарку, а потомъ новую свернуть, а потомъ, когда табаку не останется въ карманѣ, дѣлать видъ, что куришь, посасывая клокъ бумаги; такъ выкроишь себѣ кусъ времени, а прошлое обступитъ, затормошитъ, не дастъ покоя.
И выход только одинъ — итти къ солдатамъ и еще табаку просить, чтобъ одолжили.
…Когда прибыли сперва въ Тюмень, потомъ въ Тобольскъ — Совѣты сразу направили ихъ сторожить царей. Пашка пожала плечами: сторожить такъ сторожить. Ляминъ еще подерзилъ: а казаковъ царскихъ когда бить?! — да ему во-время кулакъ показали: слушайся краснаго приказа!
Они оказались въ одномъ охранномъ отрядѣ — тѣ, кто трясся безъ малаго мѣсяцъ въ утломъ вагонѣ отъ Петрограда до Тюмени: Ляминъ, Люкинъ, Андрусевичъ, Мерзляковъ, Подосокорь, Бочарова. Подосокорь тутъ же куда-то сгинулъ. Можетъ, въ Омскъ направили или въ Тюмень обратно, или куда подальше, въ Курганъ, въ Красноярскъ, въ Ялуторовскъ, въ Иркутскъ, въ Читу; а можетъ, хлопнули гдѣ — свои же, за провинность какую. Сейчасъ провиниться и пулю заработать — разъ плюнуть. Хуже, чѣмъ на войнѣ.
А война-то, дрянь такая, идетъ себѣ, идетъ.
И что принятъ декретъ о мирѣ, что нѣтъ; вотъ тоже загадка диковинная.
И земля, кого сейчасъ земля?
Вотъ вернется онъ въ Новый-Буянъ — кого тамъ земля будетъ? Народа — или опять не народа?
А кого? Кого другого?
…Вышли изъ дома, гдѣ Совѣты засѣдали, на морозъ. Пашка закурила. Спросила Михаила сквозь сизый, остро воняющій жженымъ сѣномъ дымъ: а что, они тутъ, въ этихъ здѣшнихъ Совѣтахъ, какіе, красные или другого какого цвѣта, эсеры, меньшевики или большевики? Ляминъ у нея прикурилъ. Стояли на крыльцѣ, стряхивали пепелъ въ вечерній, бѣлизной и острой радугой сверкающій сугробъ. Отвѣтилъ: а песъ ихъ пойметъ. Смѣшалось все въ Россіи, и тотъ, кто сейчасъ палачъ, завтра самъ встанетъ къ стѣнкѣ.
И мы встанемъ, хохотнула Пашка. Она всегда такъ хохотала — рѣзко, сухой и яркой вспышкой.
Хохотала, будто стрѣляла.
…Они явились туда, куда имъ приказано было, — и поняли, что не одни они тутъ стрѣлки, а есть уже въ наличіи охрана: съ собою бывшимъ царямъ изъ Царскаго Села гвардейцевъ разрѣшили взять. Питерскіе гвардейцы косились на нихъ. Они — на гвардейцевъ. Ребята простые; скоро подружились. Вмѣстѣ курили, вмѣстѣ въ караулѣ стояли. Вмѣстѣ пили, пуская бутылку съ бѣленькой по кругу, сидя на холодныхъ матрацахъ, на зыбучихъ, вродѣ какъ лазаретныхъ койкахъ.
…Вскорости послѣ помѣщенія ихъ всѣхъ, изъ Петрограда прибывшихъ бойцовъ, на охранную службу въ бывшій Губернаторскій домъ, а теперь Домъ Свободы, гдѣ подъ арестомъ содержались эти клятые цари, да ужъ и не цари вовсе, Пашка уступила ему — слишкомъ сильно и дико, какъ волкъ — волчицу, онъ домогался ее.
А когда все случилось — онъ ужъ безъ нея не могъ.
А она — безъ него? Могла ли она?
Вопросы таяли и умирали, онъ растаптывалъ ихъ окурками на снѣгу, сгрызалъ сосулькой, когда стоялъ на караулѣ у воротъ и, какъ въ пустынѣ, хотѣлъ пить.
…и вспоминалъ многое, досасывая во рту ледяную жгучую сладость, вспоминалъ все: и то, какъ на станціи, забылъ названье, вродѣ какъ Валезино, а можетъ, и Балезино, Пашка вышла купить у бабъ снѣди, а тутъ составъ взялъ да и стронулся, и пошелъ; и пошелъ, пошелъ, паровозъ задымливалъ, быстрѣе проворачивалъ колеса, тянулъ поѣздъ все быстрѣй и быстрѣй впередъ, и ухнуло тутъ у Мишки сердце въ прорубь, и онъ рванулся въ тамбуръ — а тамъ, рядомъ съ вагономъ, уже отчаянно бѣжала, семенила ногами Пашка, и лицо ея плыло въ дыму, а пальцы корчились, крючились, пытаясь достать Мишкину протянутую руку; и Мишка дотянулся, схватилъ, на ходу втащилъ Пашку въ вагонъ, а она заправила волосы за уши и, тяжело дыша, вкусно, смачно чмокнула его въ щеку; и то, какъ послѣ Екатеринбурга въ вагонъ впятился кривой гармонистъ и все ходилъ по вагону взадъ-впередъ вприсядку, на гармошкѣ наяривая, и дробно, четко сыпалъ изо рта частушки, одна другой похабнѣе; и Пашка хохотала, и всѣ хохотали вокругъ, а потомъ вдругъ она присѣла рядомъ съ маленькимъ, какъ грибъ боровикъ, гармонистомъ, поглядѣла ему въ глаза и громко, Мишка услышалъ, спросила его: «Хочешь, пойду съ тобой? Сойдемъ съ поѣзда, и пойдемъ?» А Лямину кишки ожгло дикимъ кипяткомъ, онъ не могъ ни говорить, ни хохотать, хотя, можетъ, это была такая Пашкина шутка; онъ только смогъ встать, шатаясь, какъ пьяный, и рвануть Пашку за руку отъ одноглазаго гармониста. А она вырвала руку и крестъ-на-крестъ разрѣзала его глазами. Ничего не сказала, ушла въ тамбуръ и курила, и стояла тамъ цѣлый часъ.
И то вспоминалъ, какъ, уже на подходахъ къ Тюмени, уже Пышму проѣхали, и Пашка уже расчесывала свои густые, что хвостъ коня, сѣро-русые, прямо сизые, въ цвѣтъ груди голубя, волосы, къ прибытію готовилась, вещевой мѣшокъ ужъ собрала, и тутъ составъ внезапно затормазилъ такъ рѣзко и грубо, что люди попа́дали съ полокъ, орали, кто-то осколками стакана грудь поранилъ, кто-то ногу сломалъ и тяжко охалъ, а кто стукнулся вискомъ и лежалъ бездвижный — можетъ, и отошелъ уже, — и Пашка тоже упала, гребень вывалился изъ ея руки и выкатился на проходъ, и бѣжали люди по проходу, кричали, наступили на гребень, раздавили. А Пашка стукнулась лбомъ, очень сильно, и сознаніе потеряла, и онъ держалъ ее на рукахъ и бормоталъ: Пашка, ну что ты, Пашка, очнись, — и губы кусалъ, а потомъ добавилъ, въ ухо ей выдохнулъ, въ холодную раковинку уха подъ его дрожащими губами: Пашенька.
А она ничего не слыхала; лежала у него на рукахъ, закативъ бѣлки.
И то помнилъ, какъ на одномъ изъ безымянныхъ разъѣздовъ — стояли часъ, два, три, съ мѣста не трогались, всѣ ужъ затомились, — кормила Пашка на снѣгу голубей, крошила имъ черствую горбушку, голуби все налетали и налетали, ихъ прибывало богато, и откуда только они падали, съ какихъ запредѣльныхъ небесъ, какія тучи щедро высыпали ихъ изъ черныхъ мѣшковъ, — уголодались птицы, поди, какъ и люди, — а Пашка все колупала пальцами твердую ржаную горбушку, подбрасывала хлѣбъ въ воздухъ, и голуби ловили клювами крохи на лету, а Мишка смотрѣлъ на это все изъ затянутаго сажей окна, и сквозь сажу Пашка казалась ему суровымъ мрачнымъ ангеломъ въ потертой шинели, что угощаетъ чудной пищей маленькихъ, нѣжно-сизыхъ шестикрылыхъ серафимовъ.
Вотъ именно тогда, глядя на нее въ это закопченное вагонное окно, онъ и подумалъ — вѣрнѣе, это за него кто-то сильный, громадный и страшный подумалъ: «Да она же моя, моя. А я — ея».
***
Пашка, если не въ караулѣ стояла, часто сидѣла у окна комнаты, гдѣ жили стрѣлки. Она-то сама ночевала въ другой каморкѣ — ей, какъ бабѣ, чтобы не смущать другихъ бойцовъ, Тобольскій Совѣтъ выдѣлилъ въ Домѣ Свободы жалкую крохотную комнатенку, тѣсную, какъ собачья будка; но кровать тамъ съ трудомъ помѣстилась. Въ этой комнатенкѣ они и обнимались — и Ляминъ смертельно боялся, что Пашка подъ нимъ заоретъ недуромъ, такое бывало, когда черезчуръ грозно опьянялись они, сцѣпившіеся, другъ другомъ.
Никогда при свиданьяхъ не раздѣвались — Михаилъ ужъ и забылъ, что такое голая совсѣмъ, въ постели, баба; обхватывая Пашку, подсовывая ладони ей подъ спину, жадно чуялъ животомъ то выгибъ, то ямину, то плоскую и жесткую плиту ея живота.
Животами любились. Голую Пашкину грудь и то видалъ рѣдко — разъ въ мѣсяцъ, когда на задахъ, въ зимнемъ сараѣ, гдѣ хранили дрова, разрывалъ у нея на груди гимнастерку и приникалъ ртомъ къ бѣлой, въ синихъ жилкахъ, кожѣ цвѣта свѣжаго снѣга. А Пашка потомъ, рьяно матерясь, собирала на землѣ сараюшки оторванныя пуговицы, поднималась въ домъ и сидѣла, роняя въ гимнастерку горячее лицо, и, смѣясь и ругаясь, ихъ пришивала къ гимнастеркѣ суровой нитью. Сапожная толстая игла мощной костью тайменя блестѣла въ ея жесткихъ и сильныхъ пальцахъ.
И, когда свободный часъ выдавался, Пашка заходила въ комнату къ стрѣлкамъ и садилась у окна.
И такъ сидѣла.
Ей все равно было — толчется тутъ народъ, нѣтъ ли; не обращала вниманья на курево, на матюги, на размотанныя вонючія портянки на спинкахъ стульевъ; на то, что, завидѣвъ ее, стрѣлки весело кричали: а, вотъ она, наша мамаша! пришла! явилось ясно солнышко! ну садись къ намъ поближе, а въ карточки шуранемся ай нѣтъ?!. — на эти крики она не отвѣчала, молчала, придвигала стулъ ближе къ окну — и, какъ несчастная дикая кошка, отловленная охотникомъ и принесенная въ домъ, къ теплой печи и вкусной мискѣ, въ теплую и навѣчную тюрьму, тоскливо, долго глядѣла въ лиловѣющее небо, на похоронную бѣлизну снѣговъ, на сѣрыя доски заплота и голыя обледенѣлыя вѣтки, стучащія на вѣтру другъ объ дружку.
Сидѣла, глядѣла, молчала.
И чѣмъ громче поднимались вокругъ нея веселые молодые крики — тѣмъ мрачнѣе, неистовѣе молчала она.
А когда въ комнату стрѣлковъ входилъ Ляминъ, у нея вздрагивала спина.
Онъ подходилъ, клалъ пальцы на спинку стула. Она отодвигалась.
Всѣ въ отрядѣ давно знали, что Мишка Ляминъ Пашкинъ хахаль. Но она такъ держалась съ нимъ, будто они вчера спознались.
Онъ наклонялся къ ея уху, торчащему изъ-подъ солдатской фуражки, и тихо говорилъ:
— Прасковья. Ну что ты. У тебя что, умеръ кто? Ты что, телеграмму получила?
Она, не оборачиваясь, цѣдила:
— Я не Прасковья.
— Ну ладно. Пашка.
Ляминъ крѣпче вцѣплялся въ дубовый стулъ, потомъ разжималъ пальцы и отходилъ прочь.
И она не шевелилась.
Бойцы вокругъ, въ большой и тоскливой, пыльной и вонючей комнатѣ были сами по себѣ, они — сами по себѣ. Крики и возня жили въ грязномъ ящикѣ изъ-подъ привезенныхъ изъ Питера винтовокъ, забросанномъ окурками и заплеванномъ кожурою отъ сѣмечекъ; ихъ молчанье — въ золоченой церковной ракѣ, и оно лежало тамъ тихо и скорбно, и вправду какъ святыя мощи.
А можетъ, оно плыло по черной холодной рѣкѣ въ лодкѣ-долбленкѣ, безъ веселъ и руля, и несло лодку прямо къ порогамъ, на вѣрную гибель.
***
— Подъе-о-о-омъ!
Царь уже стоялъ на порогѣ комнаты, гдѣ они съ царицей спали. Какъ и не ложился.
Бодръ? Лицо обвисаетъ складками картофельнаго мѣшка. Кожа въ подглазьяхъ тоже свисаетъ слоновьи. Мракъ, мракъ въ глазахъ. Рукой отъ такого мрака заслониться охота.
Михаилъ внезапно разозлился. И когда оно все закончится, каторга эта, цари? Усталъ. Надоѣло. Замучился. Да всѣ они тутъ, всѣ, тобольскій караулъ…
— Всѣ мы встали, дорогой… — Помедлилъ. — Товарищъ Ляминъ.
Такія спокойныя слова, и столько издѣвки.
Михаилъ чуть не загвоздилъ царю въ скулу: рука такъ сильно зачесалась.
Былъ бы мужикъ напротивъ, красноармеецъ, — такой издѣвки бъ не спустилъ.
— Давай на завтракъ! Все ужъ на столѣ! Стынетъ!
«Накармливай тутъ этихъ оглоѣдовъ. И раньше народу хребетъ грызли, и сейчасъ жрутъ. Нашу ѣду! Русскую! А сами, нѣмчура треклятая!»
Уже безпощадно, безсмысленно матерился внутри, лишь губы небритыя вздрагивали.
Царь посмотрѣлъ на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросилъ:
— А почему вы, товарищъ Ляминъ, называете меня на «ты»?
Было видно, какъ трудно ему это говорить.
А Лямину — нечего ему было отвѣтить.
…Когда въ залу шли, гуськомъ, чинно, дѣвицы въ бѣлыхъ передничкахъ — разслышалъ, какъ странно, тихо и глухо, на собачьемъ непонятномъ языкѣ, переговариваются Романовъ съ Романовой.
Потомъ — будто нехотя — по-русски забормотали.
— Отъ Анэтъ письмо. Боричка живъ, здоровъ.
— Какой Боричка? Теософъ?
— Друга нашего другъ.
— А, понялъ. Дай-то Богъ ему. Да вѣдь онъ пулеметчикомъ?
— Всѣ, къ кому прикасалась рука Друга, священны.
— Знаю. Онъ жениться на Анэтъ не собрался?
— Нѣтъ. Лучше того. Онъ скоро будетъ здѣсь. У насъ.
— Вотъ какъ. И зачѣмъ? Зачѣмъ намъ революціонеръ? Это чужакъ.
— Ты не понимаешь. Онъ родной. Деньги намъ везетъ.
— Деньги? Какія?
— Анэтъ собрала. Но я ему не вѣрю. Я боюсь.
— Чего ты боишься, душа моя?
— Всего. Возможно, Боричка ставленникъ Думы. А можетъ, и Ленина.
— Пфф. Ленинъ — странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Онъ сгинетъ, упадетъ съ балкона и разобьется. Я не держу его всерьезъ. Аликсъ, вѣрь Анэтъ, она не подведетъ.
— Я… — Тутъ они оба перешагнули порогъ столовой залы, она чуть раньше. — Я вѣрю только Другу. Онъ изъ-за гроба ведетъ насъ.
Войдя въ залу, замолкли. На столѣ стыла скудная ѣда: гречневая разсыпчатая каша, куски ситнаго безъ масла, жидкій чай въ стаканахъ съ подстаканниками.
Разсѣлись. Дѣвочки разгладили передники на колѣняхъ. Какъ ненавидѣлъ Михаилъ эту ихъ вѣчную молитву передъ трапезой!
Онъ и самъ такъ молился все свое деревенское дѣтство; почему его съ души воротило, когда цари вставали вокругъ стола и складывали руки, и читали про «хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь», — онъ не понималъ. Рты имъ хотѣлъ позатыкать грязнымъ полотенцемъ.
«Я схожу съ ума, я спятилъ. Я кощунникъ! Или ужъ совсѣмъ въ Бога не вѣрую? Спокойнѣй, Мишка, спокойнѣй. Это жъ всего лишь люди, Романовы имъ фамилія, и они читаютъ обычную молитву передъ вкушеніемъ пищи. Что разбушевался, рожа красная?»
Въ зеркалѣ напротивъ, въ черномъ пыльномъ стеклѣ съ него ростомъ, видѣлъ себя, рыжій клокъ волосъ надо лбомъ, гнѣвной дурной кровью налитыя щеки.
Помнилъ приказъ: за семьей досматривать вездѣ и всегда, поэтому не уходилъ изъ зала. Бѣгалъ глазами, щупалъ ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что подъ зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасіиномъ носу, золотыя, червонныя пряди въ темныхъ косахъ Маріи, гречишное разваренное зерно, какъ родинка, на верхней, еще безусой губѣ наслѣдника. Желтую грязную луну мѣднаго маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку съ кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ѣла, будто плакала.
Жевали молча. Отпивали изъ стакановъ.
— Молочка бы. Холодненькаго, — тоскливо и голодно, тихо сказалъ наслѣдникъ.
Царь дрогнулъ плечомъ подъ болотной гимнастеркой.
Маріинъ профиль тускло таялъ въ свѣтѣ ранняго утра. По стекламъ вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаилъ стоялъ у двери, и не выдержалъ. Отступилъ отъ притолоки, каблукъ ударился о плинтусъ. Шагъ, вбокъ, еще шагъ. Онъ двигался, какъ крабъ, чтобы встать удобнѣе и удобнѣе, исподтишка, разсматривать Марію.
Она почувствовала его взглядъ и закраснѣлась щекой. Онъ ждалъ — она обернется. Не обернулась.
А жаль. «Поглядѣла бы, хоть чутокъ».
Тогда бы, смутно думалъ онъ, — а что тогда? Завязался бы узелокъ? Зачѣмъ? На что? Сто разъ она глядѣла на него. Улыбалась ему. А все равно онъ для нея — стѣна. Бревно, полѣно, грязная лужа. И никакая улыбка не обманетъ.
А правда, кто тутъ кого обманываетъ?
…Словно яма распахнулась подъ ногами.
«Царь — насъ обманывалъ. Ленинъ — насъ обманываетъ? Охмуряетъ? Куда тянетъ за собой? Потонули въ крови, а балакаютъ о свѣтломъ будущемъ, о счастливомъ… гдѣ всѣ счастьемъ — захлебнемся… Мы — красноармейцы — обманываемъ царей: ну, что охраняемъ ихъ. Утѣшаемъ! Молъ, не бойтесь! А что — не бойтесь-то?! Вѣдь все одно къ ямѣ ведетъ. Къ ямѣ!»
И еще ударило, въ бокъ, подъ дыхъ: къ ямѣ ведутъ всѣхъ насъ, идемъ — всѣ мы.
«Такъ все одно всѣ мы… тамъ и будемъ… раньше ли, позже…»
Между бровей будто собралась тяжелая горючая тьма, величиной со спѣлую черную вишню. И давила, давила. А насъ обманываютъ командиры, продолжалъ тяжело думать Ляминъ, да еще какъ надуваютъ: отдаютъ приказъ, а мы и рады стараться; а они за спиной въ это самое время…
Что — они за спиной, — онъ и самъ бы не могъ толкомъ сказать; но понималъ, что приказъ — это для нихъ, черныхъ людей, а для господъ большевиковъ — можетъ, и не приказъ вовсе.
Господа! Товарищи! Онъ еще вчера былъ царской арміи солдатъ. И вотъ, вотъ ужасъ. Онъ — надъ своимъ царемъ — которому подчиняться долженъ, дрожа, отъ затылка до пятъ, отъ рѣсницъ до мѣстъ срамныхъ и потайныхъ, — сейчасъ хозяинъ! Конвоиръ — уже хозяинъ. Ведетъ, сторожитъ, бдитъ, — а фигура на прицѣлѣ. На мушкѣ. Не убѣжишь. Слюну безъ спросу не проглотишь.
Яма, думалъ онъ потрясенно, яма, и дѣлу конецъ.
Приказъ отдадутъ тебя разстрѣлять — и въ расходъ какъ миленькій пойдешь.
Бѣляки Тобольскъ займутъ — и царь первый тебя укнокать велитъ.
Первый! Потому что ты надъ нимъ былъ, ты порушилъ порядокъ.
«Это не я! Не я! Это такъ сложилось! Такъ приключилось! Не мы такъ все придумали! Сладилось такъ!»
Марія утерла ротъ кружевнымъ носовымъ платкомъ, обѣими руками, тонкими и сильными пальцами приподняла тарелку надъ столомъ и опять поставила на скатерть. Михаилъ слышалъ свое сопѣніе. Такъ онъ шумно дышалъ, и носъ заложило. Ему захотѣлось, чтобы она отломила своими быстрыми пальчиками кусокъ ситнаго и дала ему. Скормила, словно бы коню.
Онъ уже и морду впередъ, глупо, сунулъ.
А яма подъ ногами все чернѣла, и онъ боялся шагнуть и свалиться въ нее.
Зажмурился, головой помоталъ.
«Вконецъ я ополоумѣлъ! Дровъ пойти поколоть…»
На дворѣ солдаты пѣли громко, заливисто:
— Тамъ вдали, въ горахъ Карпатскихъ,
межъ высокихъ узкихъ скалъ
пробирался ночью темной
санитарный нашъ отрядъ!
Впереди была повозка,
на повозкѣ — красный крестъ.
Изъ повозки слышны стоны:
«Боже, скоро ли конецъ?»
Марія первой изъ-за стола встала. Вотъ сейчасъ обернула къ нему лицо.
Нѣтъ, эта не обманетъ! Не будетъ обманывать! Никогда!
Лучше дастъ себя обмануть.
«А если я ей прикажу — подъ меня… ляжетъ?»
Яма подъ ногами исчезла. Вмѣсто нея желто, тускло заблестѣли доски вымытаго поутру пола. Баба Матвѣева приходила, намыла; солдатка, щуплая, худая, ротъ большой, галчиный. Съ ней охрана и не баловала: такая тщедушная была, кошкѣ на одну ночь и той маловато будетъ, скелетикомъ похрустѣть.
— «Погодите, потерпите», —
отвѣчала имъ сестра,
а сама едва живая,
вся измучена, больна.
«Скоро мы на пунктъ пріѣдемъ,
накормлю васъ, напою,
перевязку всѣмъ поправлю
и всѣмъ письма напишу!»
Пѣсня доносилась будто издалека, изъ снѣжныхъ полей. Солнце головкой круглаго сыра каталось въ снятомъ молокѣ облаковъ, въ набѣгающихъ съ сѣвера сизыхъ голубиныхъ тучахъ. Цесаревичъ тоже поглядѣлъ на Михаила.
«Чортъ, глаза какъ у иконы. Хоть Спасителя съ мальца малюй! Да богомазовъ тѣхъ пострѣляли, повзрывали. Яма… яма…»
Въ глазахъ Маріи онъ видѣлъ жалость, и онъ перепуталъ ее съ нѣжностью. Въ глазахъ Алексѣя горѣло презрѣніе. Двѣ ямы. Двѣ темныхъ ямы.
А Пашка? Кто она, гдѣ?
…его яма. И падаетъ въ нее.
Ляминъ развернулся, какъ на плацу, и, топая сапогами, выкатился изъ залы. Вонъ отъ пустыхъ тарелокъ, отъ крошекъ ситнаго на скатерти. Пусть баба Матвѣева скатерть въ охапку соберетъ да крошки голубямъ на снѣгъ вытрясетъ.
***
…Она вѣдь никакая не старуха. А всѣ тутъ ее и видятъ, и зовутъ старухой; и въ глаза и заглаза; и она, скорбно и дико взглядывая на себя въ зеркало, тоже уже считаетъ себя старухой — ахъ, какое слово, ста-ру-ха, какъ это по-русски звучитъ глухо, вполслуха… вполуха…
Будто мягкими лапами кошка идетъ по ковру.
Нѣтъ, это она сама въ мягкихъ носкахъ, въ мягкихъ тапочкахъ сидитъ и качается въ креслѣ-качалкѣ. И все повторяетъ: старуха, старуха, ста… ру…
Мужъ подошелъ къ ней, положилъ ей руку на плечо, и кресло-качалка прекратило колыхаться.
Какъ всегда, его голосъ сначала ожегъ, потомъ обласкалъ ее.
— Аликсъ, милая. Вотъ ты скажи мнѣ.
Она подняла къ нему лицо, и оно сразу помолодѣло, прояснилось. Зажглось изнутри.
— Что, мой родной?
Царь выпустилъ ея плечо, отошелъ отъ кресла, продѣлъ пальцы въ пальцы, сжалъ ладони и хрустнулъ запястьями.
— Я вотъ все думаю. Думаю и думаю, голову ломаю. Мы вѣдь съ тобой вѣруемъ въ Бога. Такъ? Вѣрую во Единаго Бога Отца, Вседержителя…
Оба прочитали, крестясь, Сѵмволъ вѣры — шопотомъ, быстро, отчетливо.
Слышали каждое священное слово другъ друга.
— Чаю воскресенія мертвыхъ…
— И жизни будущаго вѣка. Аминь.
Опять перекрестились. Перекрестили другъ друга глазами.
— И что? Что? — Она не могла скрыть нетерпѣніе, любопытство. — Что ты мнѣ хотѣлъ сказать.
Царь пододвинулъ табуретъ ближе къ креслу-качалкѣ, сѣлъ на табуретъ верхомъ, какъ на лошадь. Хотѣлъ улыбнуться, и не смогъ.
Вздохнулъ и заговорилъ, заговорилъ быстро, сбиваясь, часто дыша, болѣзненно морщась, стремясь скорѣе, быстрѣе, а то будто опоздаетъ куда-то, высказать, что мучило, жгло, давило.
— Вотъ Серафимъ Саровскій. Батюшка нашъ Серафимъ. Преподобный… чудотворецъ. Отшельникъ. И пророкъ. Ты пророчество его помнишь, да, знаю, вижу, помнишь. И я все, все помню. Не въ этомъ дѣло. И ту бумагу, что намъ изъ шкатулки давали читать, ты же тоже помнишь. И я помню. Я не то хочу сказать. Я… знаешь.. долго думалъ, долго. Наконецъ вотъ тебѣ сказать рѣшился. Мы вѣруемъ. И вся наша Россія, вмѣстѣ съ нами, вѣровала. Въ храмахъ — во всей нашей землѣ — молилась. Лбы всѣ крестили. Посты соблюдали. Божій страхъ имѣли. Божій — страхъ! Это же самое главное. Нѣтъ Божьяго страха — нѣтъ и человѣка. Нѣтъ человѣка — нѣтъ и… да, да… государства. Земли нашей нѣтъ безъ Божьяго страха! Не можетъ, не сможетъ она… выжить…
Царица слушала, боясь хоть слово упустить.
— И вотъ, милая, мы съ тобой — вѣруемъ. Свято вѣруемъ! Молимся… каждодневно… и утромъ, и на ночь… и на службу намъ разрѣшаютъ ходить… иконы цѣлуемъ… Вслухъ ты — дѣтямъ — изъ Писанія читаешь! Все, все дѣлаемъ… какъ всѣ русскіе люди всегда… Богъ при насъ… и что же?
— И что же? — неслышнымъ шопотомъ повторила за мужемъ царица, надѣясь, ужасаясь.
— Серафимушка… онъ предсказалъ будущее, да… и ты помнишь, ты же помнишь все, ну, что было въ этомъ предсказаніи. Помнишь вѣдь?.. да?.. Онъ предсказалъ намъ… смерть…
— Смерть, — шопотомъ повторила царица.
— Да, смерть! Но я… представь себѣ, я въ это не повѣрилъ… не захотѣлъ повѣрить… Я… можетъ, я святотатецъ!.. но я… не захотѣлъ повѣрить въ нашу съ тобой смерть, въ смерть дѣтей… Я вѣрую въ Бога, да… и ты вѣруешь… и дѣти наши вѣруютъ, да, да, мы такъ ихъ воспитали, мы такъ ихъ держали всегда, всегда, въ страхѣ Божіемъ… И я… вотъ сейчасъ, во всѣ послѣдніе дни, и сію минуту, спрашиваю себя: и тебя, сейчасъ и тебя… спрашиваю: гдѣ же теперь Богъ надъ Россіей?
Царица хотѣла повторить: «Гдѣ же теперь Богъ надъ Россіей?» — и не смогла: губы не смогли вымолвить это. Царь смогъ, а она — нѣтъ. И опустила голову, голова внезапно стала тяжелой, чугунный пучокъ волосъ давилъ книзу, изъ него выпадали чугунныя шпильки, чугунные волосы развивались и плыли по чугунной шеѣ, по старымъ плечамъ, нѣтъ, ея плечи еще не старыя, они еще красивыя, она еще можетъ носить декольте!.. старуха… ста… ру…
Онъ взялъ ея руки въ свои, крѣпко сжалъ, и она чуть не вскрикнула.
— Гдѣ же? — повторилъ царь, весь сморщившись, покрививъ лобъ, губы, и зажмурился, будто не могъ перенести прямого, отчаяннаго взгляда жены.
— Я не старуха! — шопотомъ крикнула она ему прямо въ лицо.
Ея зрачки медленно становились широкими и наполняли черной стоячей водой всю сѣрую свѣтлую радужку.
Онъ испугался, поблѣднѣлъ.
— Что ты, милая?.. что, хорошая моя?.. Да нѣтъ, ну какая же ты старуха… вспомни, сколько тебѣ лѣтъ… и я тебя… я тебя…
Онъ беззвучно шепталъ: люблю, — а она уже судорогой выгибалась въ его рукахъ, и онъ уже крѣпко обнималъ ее, и, сильный, еще крѣпкій, хоть и исхудалъ на скудныхъ харчахъ, бралъ на руки, грубовато, по-солдатски, какъ тащитъ солдатъ военную добычу, и вынималъ изъ качалки, и несъ на кровать. И цѣловалъ лицо, мокрое, уже страшное.
— Прости… не буду больше… зачѣмъ спросилъ… зачѣмъ, дуракъ, затѣялъ этотъ разговоръ…
Собиралъ губами слезы съ ея щекъ.
Она рыдала и повторяла:
— Я не старуха… я не старуха… я… не…
Вытиралъ ей лицо кружевнымъ краемъ простыни.
***
Пашка то брала караулъ за Лямина, а ему шептала ласково: поспи чутокъ, отдохни получше, я за тебя постою, — то при всѣхъ обзывала его, громко и обидно, пентюхомъ и косорукимъ, если онъ вдругъ, стаскивая винтовочный ремень съ плеча, на полъ винтовку съ грохотомъ ронялъ.
То жарко и тѣсно обхватывала сильными, жилистыми руками — гдѣ угодно: въ корридорѣ, у сарая, въ комнатенкѣ своей, — то ударяла кулакомъ ему межъ лопатокъ, чуть не пинала подъ задъ, орала: вонъ пошелъ, прочь отъ меня, сволочь, гаденышъ, пяль на другихъ бабъ буркалы!
Комиссаръ Панкратовъ то повышалъ имъ жалованье, и тогда они весело шелестѣли длинными, какъ простыни, бумажками — на нихъ мало что можно было пріобрѣсть, да все-таки кое-что можно было, и бѣжали въ лавку за водкой, папиросами, свѣжимъ хлѣбомъ; то оралъ на нихъ недуромъ, грозился нерадивыхъ застрѣлить собственноручно, — и особо наглый боецъ выступалъ изъ строя и, глядя прямо орущему Панкратову въ лицо, кричалъ наперерѣзъ ему: «Стрѣляй! Меня!»
Сашка Люкинъ то протягивалъ Мишкѣ папироску, блестя зубами, подмигивая лихо, — а то вдругъ оскаливался на него не хуже крысы, шипѣлъ: «Знацца съ тобой не жалаю! Это ты, ты у меня изъ сапога керенку укралъ! Пройда!» И подскакивалъ ближе, и давалъ Лямину зуботычину.
Боецъ Мерзляковъ то обнимался съ бойцомъ Андрусевичемъ, а послѣ съ бойцомъ Буржуемъ, пьяно горланили за раскупоренной четвертью: славное мо-о-о-оре, священный Байка-а-а-алъ!.. — то тузили другъ друга, безпощадно, въ кровь, и никто не зналъ, отчего и зачѣмъ повздорили.
…такъ всѣ мы, думалъ Ляминъ: всѣ мы такіе, это наша природа, то густо, то пусто, то ласка, то битье, вотъ оно и все наше житье, — можетъ, это только русскіе люди такія сволочи, а можетъ, это на всей землѣ людишки этакъ себя ведутъ.
«Ну, если на всей, тогда тутъ и калякать не объ чемъ».
Слабъ человѣкъ, а все же, когда приласкается, лучше и чище его нѣтъ; и, видимо, Богъ тогда на мигъ просыпается въ немъ, а послѣ опять уступаетъ мѣсто чорту, и такъ всегда, и такъ вѣчно, и ничего съ этимъ и никогда ты уже не подѣлаешь.
***
Цари гуляли въ заснѣженномъ саду, межъ сугробовъ, а Ляминъ искоса смотрѣлъ на нихъ.
Не могъ побороть досаду. Она перекрывала глупую дѣтскую радость отъ того, что — вотъ онъ сторожитъ царей, и ничего ему за это не будетъ.
«Будетъ, какъ же. Будетъ подачка отъ командира».
Всѣ командуютъ ими. Тѣми, кто ниже. Кто — по землѣ стелется.
Навострилъ уши. Царь, подъ руку съ женой, проходилъ мимо, снѣгъ громко скрипѣлъ подъ ихъ валенками.
Говорили по-русски. Рѣдкость для нихъ. Все больше трещали межъ собой на чужихъ языкахъ.
— Анэтъ все понимаетъ.
— Что?
— Что дѣлать надо.
— Опасно все, милая.
— Богу будемъ молиться. Отецъ Алексій поддержитъ.
— Я… за дѣтей страшусь.
— Какъ будто я — нѣтъ! И потомъ, мужъ Матрены…
Царь досадливо, широко, какъ косецъ, махнулъ рукой.
— Что крымецъ?
— Крымецъ — чудо! Онъ намъ…
Вѣтеръ отнесъ слова.
Валенки заскрипѣли оглушительно, близко. Шли рядомъ. Будто не видя его, Михаила.
Онъ замеръ — какъ въ тайгѣ, когда примѣтишь медвѣдя. Передъ медвѣдемъ — или стой какъ мертвый, или припусти безъ оглядки, царапайся буреломомъ, на дерево влѣзь, а убѣги.
— Онъ скоро уѣдетъ.
— Скатертью дорога.
— Ты шутишь!
— Я искренне, отъ сердца.
— Хорошо. Тогда я treasures…
Остановились. Николай — къ нему спиной.
Ляминъ не шевелился.
Но царь почуялъ взглядъ.
Не обернулся, нѣтъ. Какъ на охотѣ — осторожно — повелъ головой черезъ недвижное каменное плечо.
«Я для него — медвѣдь. Понялъ, гадъ. Меня — боится».
Лицо царицы заслонила голова царя.
«Двуглавый орелъ. Гусь и гагара. Что съ Россіей выдѣлали, хищники».
Царь шагнулъ вбокъ по снѣгу, солнце горѣло ясно, на царицу упала тѣнь царя.
Ляминъ увидалъ ея лицо — напуганное, съ мѣшками подъ подбородкомъ, съ обвислой кожей подъ совиными глазами, растерянное, — отжившее.
«Все, поняли. Сейчасъ перейдутъ на свою попугайскую рѣчь».
И вѣрно, по-ненашему залопотали.
Снѣгъ уже хорошо, мощно подтаивалъ. На мостовой въ громадныхъ лужахъ отражалось чистое, будто досиня отстиранное небо.
Михаилъ однажды внезапно, безъ стука и доклада, распахнулъ дверь гостиной залы — и увидѣлъ, какъ быстро царица спрятала что-то въ мѣшокъ, лежащій на колѣняхъ. Въ грубую мѣшковину скользнуло стремительное, слѣпящее. Рѣзануло по глазамъ.
«Бисеръ какой-нибудь. Вышиваетъ? Ну не лѣзть же къ ней, не шариться».
Бисеръ такъ ослѣпительно не блеститъ.
Царица заслонилась рукой отъ бьющаго въ окно могучаго солнца.
— Простите, гражданка. Кушать-то не пора еще?
Старуха вскинула глаза, и въ нихъ онъ прочиталъ: «Сгинь, сердобольный».
А вѣжливыя кривыя губы презрительно вылѣпили, глухо и тупо, будто лошадь шла по мостовой въ обвязанныхъ холстиной копытахъ:
— Когда приблисится время, я вамъ тамъ снать, косподинъ Ляминъ.
— Товарищъ.
— Товарищъ.
Вышелъ, нарочно громко стуча сапогами.
Били косо и отвѣсно лучи. Вздымались дикіе, многогорбые сугробы. Чернѣлъ снѣгъ на взгорьяхъ. Небо смѣялось синью, бѣлыми зубами облаковъ. Кони мчались по улицѣ, изъ-подъ копытъ летѣли ошметки мокраго снѣга, грязь, вода. Свистъ разрѣзалъ вѣтеръ острымъ тесакомъ! Отпилилъ одинъ синій кусокъ, другой! Тройки мчались, бубенцы нагло гремѣли, кони скакали, пристяжные воротили морды отъ коренниковъ.
— Мама! Мама! Кони!
Михаилъ стоялъ у двери. Винтовка — къ ногѣ.
Онъ не разслышалъ, что сказала царица, наклонившись низко къ сыну и судорожно, шершаво гладя его по встрепанной русой головѣ.
Донеслось только:
— …спасеніе…
Папахи, красными лентами перевязанныя. Кожаныя куртки нараспашку. Бурки и бекеши. Потрепанныя шинелишки. Кто въ чемъ. Телѣги, тройками запряженныя, полныя людской кипящей, горячей каши, неслись мимо дома и исчезали въ синемъ дыму мартовской улицы, и таялъ звонъ, гасли пьяные крики.
Александра Ѳедоровна грузно поднялась надъ прилипшимъ къ окну сыномъ.
Ея рука — у него на затылкѣ.
«Какъ покровъ. Защищаетъ».
Ляминъ все понялъ, кто ворвался въ городъ.
А вотъ она, видать, по-своему поняла.
***
…и Пашка, и Мишка каждый вечеръ вмѣстѣ со всѣми ложились спать.
Бойцы — въ большой комнатѣ; Пашка — въ каморкѣ, рядомъ.
За день уставали. Но иногда, хоть и ломалъ, гнулъ сонъ, — уснуть не могли.
Что такое сонъ? А что такое время?
Ляминъ иной разъ, когда не спалось, среди ночи подходилъ къ большому, въ рѣзной рамѣ, зеркалу въ гостиной Дома Свободы. Глядѣлъ на себя, и себя — стѣснялся. Волосъ еще рыжій у него, даже густо-алый, — чертовскій волосъ, Пашка любитъ взять его за чубъ и дергать, и трясти, и шептать: ахъ ты, рыжій, рыжій, безстыжій.
Стоялъ въ зеркалѣ, глядѣлъ на себя, и вдругъ нелѣпо и просто думалъ: а можетъ, это не я?
Я, что это за слово такое, я? «Я, я, я», — повторялъ про-себя Мишка, пялился въ зеркало, оно старательно отражало всего его, отъ фуражки до носковъ сапогъ, но все же это былъ не онъ — не тотъ, на кого онъ такъ напряженно смотрѣлъ. Тотъ, другой, настоящій, жилъ гдѣ-то глубоко внутри него, и никакое зеркало не смогло-бы его отразить.
У того, другого, было дѣтство; было отрочество; былъ міръ; была семья, и была любовь, и была большая рѣка, онъ звалъ ее — Волга, Волженька. Вотъ онъ — настоящій Минька былъ; а этотъ? Кто такой этотъ?
Злой, съ рѣзко торчащими скулами, съ тяжелыми глазами. Самъ тяжелый, какъ чугунъ, пнетъ — убьетъ. И стрѣлять не надо.
Но и стрѣляетъ онъ тоже мѣтко. Навострился за всѣ эти стрѣляльные годы.
Зеркало внезапно смѣщало серебряныя плоскости, сдвигало лучи. Фигура Мишки безпомощно падала вбокъ, въ пустоту. Онъ вздергивалъ надъ головой руки, самъ смѣялся надъ собой. Отраженіе возвращалось, и это опять былъ другой человѣкъ, не онъ. Что толку въ той же гимнастеркѣ? Въ тѣхъ же порткахъ? Изъ зеркала глядѣлъ онъ — тотъ, какимъ онъ, возможно, будетъ черезъ десять, черезъ двадцать лѣтъ. Сѣдой и старый.
«Вотъ сказку самъ себѣ говорю. И какъ вѣдь складно».
…и вдругъ его осѣняло: это не въ зеркалѣ смѣщались лучи — это смѣшивались и смѣщались времена, и онъ самъ себѣ потерянно шепталъ: нѣтъ времени, времени-то нѣтъ, нѣтъ, — и искалъ глазами настѣнный царскій календарь, чтобы удостовѣриться: есть время, все-таки есть, онъ самъ себѣ лжетъ.
Календарь висѣлъ на стѣнѣ, отрывной, маленькій, смѣшной, свѣтился въ ночи квадратнымъ фонаремъ, на желтой бумагѣ мотались черныя надписи: «ВОСХОДЪ СОЛНЦА. ЗАХОДЪ СОЛНЦА. ЛУНА: ПОСЛѢДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ». Четверть, усмѣхался онъ, Луна будто водка. Время, оказывается, еще было. Плыло.
Онъ смотрѣлъ на сегодняшнее число на нищемъ листкѣ календаря и думалъ: зачѣмъ оно, время? Чтобы не запутаться? Чтобы окончательно не потерять голову? И не сойти съ ума?
«Нѣтъ времени, нѣтъ, нѣтъ. Времени — нѣтъ. Боже, прости меня, что жъ я такое несу!»
Ночное зеркало терпѣливо отражало, какъ онъ идетъ по гостиной залѣ, какъ отворяетъ дверь и выходитъ вонъ. Отражало его чуть сутулую, широкую спину. Потомъ отражало плотно закрытую, облитую луннымъ свѣтомъ дверь.
…а Пашка спала рядомъ. За стѣной.
Тонкая стѣнка, и тонкая грань сна.
…иногда они могли, тоскуя, видѣть сны другъ друга.
***
Во снахъ только и приходили улицы села Ужуръ Енисейской губерніи. Безъ радости, безъ чуда, одно чудо — приволье. Унылые тракты, загаженные курями дворы. Полынная сизая степь, опрокинутый гигантскій черпакъ оловяннаго неба надъ ней, прокаленнаго — лѣтомъ, звенящаго отъ морозной высоты — зимой. Дворъ Филатовыхъ, бѣдняцкій, жалкій: плетеная стайка для пары куръ, покосившійся заплотъ. За чьими-то заплотами кони ржутъ, коровы взмыкиваютъ: тамъ богато живутъ. По веснѣ бабы волокутъ на рѣчку Ужурку за собою тачки съ бѣльемъ — полоскать, и колеса вязнутъ въ непролазной грязи. Иная, кто помоложе да посильнѣе, играя подъ рубахой мышцами, на плечѣ корзину съ бѣльемъ несетъ.
Охъ ты, да вѣдь это она сама, Пашка Филатова, и несетъ!
А Пашкѣ — лѣтъ десять, не больше. Надрывается, а тащитъ.
Не баба она никакая, а просто шпанка сопливая! Но жилы крѣпкія, какъ веревки.
Не дотащитъ — мать въ кровь изобьетъ.
Мать у Пашки не какъ у всѣхъ. Отецъ, Дмитрій Филатовъ, ее на сѣверахъ, Марѳу, подцѣпилъ, когда на царскомъ флотѣ служилъ. Съ мачты сорвался — флагъ прицѣплялъ, — на палубу желѣзную рухнулъ, думалъ, костей не соберутъ. Въ лазаретѣ — починили. Да не до конца: одна рука такъ и не гнулась, неважнецки переломъ заросъ, голова потряхивалась, какъ у куклы ватной. Однако молодъ былъ, и на передъ еще силенъ, и сивая поморка, молчаливая Марѳа, легла подъ него на лѣтнемъ, шуршащемъ и дышащемъ пьянью травъ сѣновалѣ, въ рыбачьемъ поселкѣ подъ славнымъ градомъ Архангельскомъ. Да съ сѣверовъ они въ Сибирь подались — рыбакъ изъ Дмитрія все одно не вышелъ бы, а про Сибирь чудеса разсказали. Поѣздомъ поѣхали, въ самомъ дешевомъ вагонѣ; Филатовъ скалился: «Въ телячьемъ». Нарѣзали надѣлы, имъ въ Ужурѣ цѣнной землички не досталось, жили, считай, на скотьемъ выгонѣ. Начинай съ нуля хозяйство, морячокъ! А какъ начинать, коли и калѣка, и въ мошнѣ пусто?
Домъ изъ лиственницы хотѣлъ возвести, а сложилъ срубъ еловый. Жену сталъ бить. Оказалось вдобавокъ, что по-русски говоритъ она совсѣмъ худо: а онъ и не понималъ, то ли финка она, то ли норвежка. Изъ-подъ сивыхъ волосенокъ, если крѣпко ударитъ, со лба по щекѣ слишкомъ яркая кровь текла.
Трясъ за плечи: а ты кто такая?! Кто такая ты мнѣ, кто такая?!
Пашка глядѣла изъ-за печи, жмурилась, какъ котъ.
Однажды по веснѣ печь развалилась: подъ половицами затлѣлъ уголекъ, въ щель завалился; начался пожаръ. Кирпичи разсыпались, гремѣли по полу. Пашка истошно визжала. Мать и отецъ угрюмо собирали калѣчные кирпичи. Новую печь Филатовъ клалъ. Такъ же молча, мрачно. Изрѣдка выходилъ на косое крыльцо, курилъ еще морскую, флотскую трубку. Люто глядѣлъ на яркій мартовскій снѣгъ.
Пашку часто били: и за провинность, и просто такъ. Послѣ Пашки Марѳа родила еще пятерыхъ, и всѣхъ Господь прибралъ. Кто задохнулся, въ родахъ обкрученный пуповиной, кто въ простудномъ жару отпылалъ, кто крысинаго мора наѣлся. Филатовъ злобно радовался: все ртовъ меньше.
Жили впроголодь.
Пашка съ мальчишками водилась, плавала въ рѣчкѣ Ужуркѣ, ныряла, шибко бѣгала. Отецъ вмѣстѣ съ ней ѣздилъ на озера; Пашка закидывала сѣти, какъ заправскій рыбакъ. На сѣверъ поѣхали съ сосѣдомъ, охотиться на волка. Пашка безбоязненно перевязывала пойманному звѣрю лапы, палку въ пасть совала, трогала желтый зубъ.
И на медвѣдя пошли. И добыли звѣря. Пашка видала, какъ отецъ пропоролъ чернаго, громаднаго медвѣдя рогатиной. Боролся. Пашка холодно думала: «А ну какъ батьку задеретъ!» — и вся горячо, мелко дрожала. Темная кровь лилась по черной шерсти медвѣдя, онъ ревѣлъ натужно, густо, отчаянно.
…такъ же, какъ тотъ медвѣдь, будутъ потомъ вопить убиваемые ею на войнѣ люди.
Надъ зелеными, бирюзовыми зимними рѣками, зимородками, и новогодніе синіе сугробы будутъ пятнаться краснымъ. А она только будетъ перезаряжать винтовку и тихо сквернословить. И молчать. И стрѣлять.
…Пятнадцать ей сравнялось, когда ее вытолкнули замужъ за бѣдняка Илью Бочарова. «Мы нищіе, а у него лошадь и телѣга!» — вѣско сказалъ отецъ. Дѣвки расплетали Пашкѣ пшеничныя, съ бѣлыми, будто сѣдыми прядями, косы, пѣли заунывно, плачуще. Мыли ей ноги въ тазу. Подолъ рубахи мокъ въ ледяной водѣ. Мать подошла и погладила ее по головѣ, Пашка поежилась и сморщила губы, будто ее опять били.
Ее и продолжили бить: мужъ. Въ первую ночь избилъ. «За что?» — кричала Пашка. На будущее, хмыкалъ Бочаровъ, для острастки. «Баба кулакъ любитъ. Шелковѣе подстелится».
По теплу Бочаровъ увозилъ Пашку на Енисей, въ Красноярскъ, и тамъ они баржи разгружали. Давали скудную деньгу. Бочаровъ подкидывалъ деньги на ладони, они валились на землю, онъ оралъ Пашкѣ: «Собирай! Дура! Чо таращисся!» Пашка наклонялась и ловила прыгающія монеты, а мужъ толчкомъ въ спину ее на колѣни валилъ: старайся лучше!
Въ Красноярскѣ тротуары деревянные. Да ужъ асфальтомъ принялись заливать. Супруги устроились въ бригаду по укладкѣ асфальта. У Бочарова руки насквозь прочернѣли. Пашка народомъ командовала, стала помощникомъ десятника. Подъ ея началомъ и мужъ трудился. Бѣшенствовалъ отъ этого. Ходуномъ ходили тяжелыя, каменныя челюсти. Пашка ночи боялась. Молчала, когда билъ. А билъ все сильнѣе, чтобы — мучилась. «Скоро насмерть забьешь», — вышептала однажды, утирая ладонью со вспухшихъ губъ горячую юшку.
Синія звѣзды свѣтили въ косорылое окно. Бѣлыя. Красныя.
Такая звѣзда и шепнула ей въ оглохшее ночное ухо, подъ окровяненную бѣлую прядь: бѣги, Пашка, пока цѣла.
Она заховала на груди, подъ пуховымъ платкомъ, остатки жалованья, шла на ямскую станцію и молилась: только-бы ямщику до города хватило. До какого — не знала. Уѣхать, и баста.
Хватило до города Иркутска, и еще оставалось.
Гдѣ тебя высадить, царевишна, на вокзалѣ, можетъ, желѣзномъ, а?.. — спрашивалъ ямщикъ, осаживая лошадей. Пашка кивала.
Выбралась изъ кошевы. Снѣгъ пищалъ подъ катанками. Страстно, восхищенно глядѣла на каменный вокзалъ: красивъ, что тебѣ царскій дворецъ!
И прямо на вокзалѣ, еще и ночлега сыскать не успѣла, подхватилъ ее разбитной и веселый типъ. Улыбался, вѣжливо за локоть трогалъ. Пашка придирчиво щупала румяную рожу зрачками: добрый-ли? ласковый-ли? «Безъ мужика — пропаду», — шептала сама себѣ беззвучно, обреченно холодными губами, идя за нимъ волчицей, слѣдъ въ слѣдъ.
А мужикъ даже подъ локотокъ не бралъ. Вродѣ какъ берегъ.
Улицы чужого города мелькали и вспыхивали, дома бредово наклонялись, будто бы Пашка выпила вина. Рѣзные наличники искрились инистыми деревянными кружевами. Отъ иныхъ домовъ хотѣлось откусить, какъ отъ пряника. Ранняя зима обнимала крѣпкимъ злымъ морозомъ. Явились въ темный смрадный подвалъ. За столами кучно сидѣли люди, люди. Затылки ихъ и руки освѣщались бѣлой слѣпой лампой подъ грязнымъ марлевымъ абажуромъ. По столамъ бѣгали, рѣзвились карты. Мелькали масти, мелочевка, двойки и тройки, дамы, валеты, тузы. Людскія руки ошарашенно ловили картонную нечисть. Пашкинъ вокзальный кавалеръ усѣлся за столъ на вѣнскій, кокетливо гнутый стулъ, подъ нимъ мышино пискнувшій, и стало ясно: онъ здѣсь свой-родной. А вѣдь я даже не знаю, какъ звать его, подумала Пашка и робко коснулась ладонью плеча мужчины подъ добротнымъ шевіотовымъ пиджакомъ.
Она стояла сзади него, за вѣнскимъ стуломъ.
Пиджакъ распахнулся, Пашка изумленно увидала подъ нимъ жилетъ, на груди — брегетъ на золотой цѣпочкѣ.
— Вас какъ зовутъ?
— Это неважно, — руки его тасовали и разбрасывали карты по столу, попугайскій носъ потнымъ крючкомъ клевалъ табачный синій дымъ, ротъ нагло смѣялся, — тебѣ-то зачѣмъ? ты жъ мнѣ на одну ночь! Утромъ разбѣжимся, и прости-прощай!
Пашка повернулась и пошла вонъ.
Обернулся онъ. Швырнулъ ей въ спину:
— Гриха я! Гриха!
Остановилась. Лбомъ прижалась къ закрытой, обитой изодранной черной кожей, пахнущей табакомъ и мочой двери. Тѣло скрипнуло вродѣ стула, поворачивая кости, ребра, бедра къ новой, опасной жизни.
Она осталась.
…Той ночью Гриха Бомъ — такъ онъ звалъ себя — выигралъ много, еле разсовалъ змѣино шуршащія деньги по карманамъ. Въ подворотнѣ, уже подъ утро, на него напали. Онъ отбивался ретиво. Билъ точно, умѣло, страшно. Пашка слѣдила, какъ ходятъ гирьки-кулаки. Онъ уложилъ двоихъ, третій убѣжалъ. Въ синякахъ, въ крови, вытирая ладонью лобъ и щеки, онъ довольно усмѣхнулся:
— Не пришлось стрѣлять. Какъ я ихъ.
Пашка молчала и смекала: стрѣлять, значитъ, оружіе при себѣ.
Гриха вытащилъ изъ кармана пистолетъ и поигралъ имъ передъ носомъ Пашки.
— Видалъ миндалъ?
Стрѣльнулъ вверхъ. Въ ночи раскатился сухой и рѣзкій звукъ. Погасъ въ оклеенныхъ игрушечнымъ инеемъ вѣтвяхъ.
Пашка протянула руку.
— Дай мнѣ.
— Тебѣ?
Округлилъ глаза, но пистолетъ передалъ. Пашка подняла оружіе, прищурилась.
— Видишь то гнѣздо? Лѣвѣе?
— Вижу. Ха-ха!
«Смѣешься, гадъ, какъ бы не заплакалъ».
Выстрѣлила. Черный клубокъ гнѣзда, осыпая иней, падалъ медленно, важно. Застрялъ въ вѣтвяхъ возлѣ самой земли.
Гриха выхватилъ у женщины пистолетъ. Блестѣлъ зубами.
— Ишь, стрѣлялка! Наша? Своя?
— Не ваша. И ничья. Съ отцомъ охотилась.
Мужчина крѣпко взялъ женщину подъ локоть. Локоть къ боку прижалъ.
— Охотница, однако. Намъ такія нужны.
Пошелъ быстро, крупно шагая, и она не отставала.
…Гриха Бомъ грабилъ, игралъ и убивалъ. Жили въ комнатенкѣ, въ каменномъ двухъэтажномъ домѣ напротивъ Крестовоздвиженскаго храма. Приходили люди: русскіе, казаки, гураны, китайцы. Однажды поздно вечеромъ, на ночь глядя, заявилось человѣкъ десять — всѣ раскосые, потные, смуглые, съ черными и рыжими тощенькими бороденками. Будто вехотки къ подбородкамъ приклеены. Гриха раскосыхъ разсадилъ, долго съ ними не толковалъ; разъ, два и все рѣшено.
— Прасковья! Чаю намъ. Нѣтъ! Лучше водки.
Пашка вытащила изъ буфета прозрачную, зеленаго, какъ ангарскій ледъ, стекла четверть. Разлила по стаканамъ прозрачную пьяную бѣлую кровь.
— Закусить чѣмъ? Селедка есть, картошка холодная.
— Тащи, мать.
«Мать, мать, а дѣтей нѣтъ».
Раскосые выпили, съѣли всю селедку и картошку, разломали въ крошки остатки ситнаго. Ушли.
— Кто это?
— Хунхузы.
— На что они тебѣ?
— Не твоего ума дѣло.
Пашка взъярилась.
— Я съ тобой живу, и не моего!
Отъ крика на-двое треснуло стекло закопченной, какъ свиной окорокъ, керосиновой лампы.
Гриха, тяжко качнувшись, вылѣзъ изъ-за стола. Пашку облапилъ.
— Люблю, когда орешь. Взыгрываетъ во мнѣ все. Волчица! Не вопи, будто рожаешь. На дѣло съ ними иду. Хунхузы, — замасленно улыбнулся и тоже вродѣ раскосый самъ сталъ, — братья, маньчжуры. Надежные. Не подведутъ.
Пашка сѣла на кровать, плакала и утиралась занавѣской.
…Изловили ихъ: и Гриху, и хунхузовъ. Они успѣли перебить — застрѣлить и зарѣзать — всѣхъ жителей купеческаго дома на Крестовоздвиженской улицѣ; да ограбить не успѣли — мимо тащилась старуха съ ведром мороженыхъ омулей, увидѣла огни
въ ночномъ домѣ, услышала истошные крики — и такъ, съ ведромъ омулей, задыхаясь, еле волоча ноги, и притопала къ будкѣ, гдѣ дремалъ городовой. Толстякъ, оглушительно свистя, побѣжалъ къ дому, шашка била ему по ногамъ; онъ вытащилъ изъ кобуры револьверъ и стрѣлялъ въ воздухъ. Старуха присѣла возлѣ омулей и ошалѣло гладила мертвыхъ рыбъ по головамъ, по выпученнымъ глазамъ.
Мертвыми омулями по комнатамъ валялись тѣла — въ кроватяхъ, на полу. Семьи иркутскаго купца Горенко изъ двѣнадцати человѣкъ больше не было. На подмогу городовому уже ѣхали въ авто урядники. Свистъ перебудилъ полгорода. Гриху и хунхузовъ поймали въ дверяхъ; одного хунхуза, что укрылся, скорчившись, за купеческой повозкой, за выгибомъ мощнаго колеса, застрѣлили во дворѣ. Отстрѣливались, да повязали быстро.
На судѣ изворотливому Грихѣ удалось доказать: зачинщики — хунхузы, онъ тутъ сбоку-припеку. Хунхузовъ — кого къ стѣнкѣ, кого въ тюрьму, кого на каторгу; а Гриху — всего лишь на поселеніе въ Якутскую губернію.
…Пашка впервые тряслась въ поѣздѣ. Оглядывалась безпомощной мышью по сторонамъ. Стѣны качались. Въ окнѣ мимо глазъ летѣли длинные мертвые омули стылыхъ рельсовъ. Къ ея широкому, круглому и жесткому, какъ неспѣлое яблоко, плечу привалился Бомъ, дремалъ. Черезъ бѣльмо грязнаго стекла видѣлись станціи, полустанки, разъѣзды.
Поѣздъ, лязгнувъ всѣми желѣзными костями, всталъ; они съ Грихой пересѣли въ широкія сани, лошадь потрясла заиндивѣлой мордой, тронула, за ними въ кошевѣ ѣхалъ конвой. Платокъ съ кистями, яркій, бѣлый съ крупными розами, плохо согрѣвалъ: морозъ лютовалъ, въ черно-синихъ небесахъ злорадно играли сполохи, скрещивали свѣтовые клинки.
Чернобревенная, низкая изба, словно перевернутый, брошенный на снѣгъ чугунокъ. Вошли, промерзшіе, снѣгъ отряхнули; Пашка, кряхтя, стащила съ Грихи овчинный тулупъ, вывернула его путаными кудрями наружу, прижала къ лицу и заревѣла въ вонючій мѣхъ.
— Что мы тутъ дѣлать будемъ!
— Ничего. Погибать.
Мужчина сѣлъ на лавку, Пашка встала на колѣни и стянула съ него валенки.
Часы съ боемъ, на кухонномъ столѣ въ рядъ скалки лежатъ. Теплый еще духъ, недавно люди отсюда съѣхали. Пашка отыскала въ шкафу мѣшочекъ съ мукой. Развязала завязку. Въ мукѣ, веселясь, ползали черви. Она, жмурясь отъ отвращенія, просѣяла муку черезъ сито, вытряхнула съ крыльца личинки, замѣсила тѣсто на водѣ. Гриха языкомъ нащупалъ во рту катышекъ, плюнулъ на полъ.
Топили долго. Выстывшая изба прогрѣвалась тяжко, доски трещали. Увалились въ кровать, высокую, какъ вмерзшая въ рѣчной ледъ пристань. Дрожали. Прижимались крѣпко. Холодными граблями рукъ Гриха когтилъ Пашкину рубаху. Пока возился, сердце умерло. Плюнулъ холодной слюной ей въ лицо. Она вытерла щеку о подушку, пахнущую куринымъ пометомъ.
— Что плюешься-то. Заплевался.
— Принеси водки. Она въ карманѣ тулупа.
Пашка послушно сползла съ кровати, ежилась, сама зубами вырвала затычку. Бомъ глотнулъ и ей протянулъ:
— Согрѣйся.
Она закрыла ладонью ротъ и головой замотала.
Легла. Гриха тяжело, медленно и хрипло дышалъ. Огненно, крѣпостью спирта, сгустился ночной воздухъ. Бомъ засмѣялся страшно, хрипато, засопѣлъ. Пашка не поняла, не помнила, какъ онъ ее ударилъ въ первый разъ. Кулакъ всунулся подъ ребра, потомъ расплющилъ грудь. Пашка охнула. Бомъ билъ ее подъ одѣяломъ. Одѣяло стало мѣшать. Лягнулъ ногой, скинулъ на полъ. Теперь у кулака появился размахъ. Тупые удары раздавались, будто били въ старый коверъ: бухъ, бухъ. Тѣло у Пашки жесткое, животъ поджарый, нерожавшій. Грудь круто встаетъ, два бѣлыхъ снѣжныхъ яра.
Гриха лупилъ по груди, по животу, по лицу хотѣлъ — Пашка лицо въ подушку прятала.
Ногой сбросилъ женщину на полъ. Самъ соскочилъ съ кровати и охаживалъ ногами.
Пашка, катаясь по полу, смутно думала: хорошо, ноги его голыя, безъ сапогъ, сапогами бы — убилъ.
Билъ долго. Утомился. Задохнулся. Вспотѣлъ.
Пашка лежала на холодномъ полу добытымъ въ тайгѣ, убитымъ звѣремъ.
Звѣзды острыми спицами прокалывали плотную, бѣлосинюю, хвойную шерсть мертвой ночи.
…какъ шла черезъ тайгу, какъ на телѣгахъ подвозили, какъ побиралась по старовѣрскимъ селамъ, клянча хоть корочку, хоть кроху, — не помнила. Память дымомъ заволокло.
Побои болѣли. Медленно заживали. Она шла, въ отсырѣлыхъ тяжелыхъ катанкахъ, въ городскомъ модномъ пальтецѣ, въ чужой казачьей папахѣ — стащила съ плетня; синяки на ея лицѣ издали было видать: разноцвѣтныя, какъ нефтяныя, на лужахъ, пятна.
Брела и повторяла: какъ хорошо, Господи, вотъ ты намъ эту чортову войну послалъ, на испытаніе, Господи, но зато я поѣду бить нашихъ враговъ, Господи, Ты-же видишь, я смогу, я хочу.
То брела, то везли, то опять тащилась нога за ногу. Ночевала гдѣ придется.
Счастье, что не убили шальные люди.
Такъ добралась до Томска.
…На призывномъ пунктѣ ей въ лицо долго глядѣлъ сивый, съ залысинами, худолицый офицеръ.
— Что глядите? Я вамъ что, икона?
Офицеръ слушалъ, какъ рѣзкій, пронзительный голосъ Пашки гаснетъ въ углах пустой, плохо побѣленной комнаты.
— А вы что смотрите?
— Вы какъ сивый меринъ.
Обидныя слова вырвались сами и весело разлетѣлись по комнатенкѣ.
Офицеръ тепло, необидно разсмѣялся.
— Лучше сказать: старый меринъ. — Искоса опять глянулъ Пашкѣ — прямо въ глаза. — Зачѣмъ явились?
Оглядывалъ ея потертые катанки, грязныя полы пальто.
Пашка подобрала подъ ребра и безъ того тощій животъ.
— Запишите рядовымъ бойцомъ! Въ ополченцы иду!
Офицеръ разглядывалъ Пашкины большія, какъ у мужика, сложенныя на животѣ руки.
— Я запишу васъ… — Медлилъ. Пашка ждала. — Сестрой милосердія, въ Красный Крестъ.
Офицеръ быстро поднялъ глаза отъ Пашкинаго живота опять къ ея глазамъ, ко лбу.
Ея лицо все было красно; казалось, вотъ-вотъ кожа лопнетъ и кровь брызнетъ, такъ разгнѣвалась.
— Нѣтъ!
Офицеръ пригладилъ сивыя патлы.
— Что вы такъ кричите…
— Только на фронтъ! Я — на фронтъ!
Офицеръ всталъ, отодвинулъ ногой стулъ, онъ противно проскрежеталъ ножками по полу, и подошелъ къ Пашкѣ.
— Но ты же дѣвка, — произнесъ тихо, зло и отчетливо.
Теперь Пашка сама заглянула офицеру глубоко въ сѣрые, лошадиные глаза.
— Я не хочу больше быть дѣвкой. Я — солдатъ.
Развернулась, какъ въ строю; офицеръ изумленно слѣдилъ, какъ она выходитъ и хлопаетъ дверью.
…Стояла у крыльца призывного пункта. Свечерѣло. Дождалась, пока на крыльцо не вышелъ офицеръ, что говорилъ съ ней въ пустой бѣлой комнатѣ.
Офицеръ закурилъ трубку, обернулся и увидѣлъ Пашку.
Она грѣла рукавицей красный замерзшій носъ.
— Ты что тутъ? — спросилъ сквозь дымъ, прищурясь.
— Я-то? А червонецъ у васъ занять вотъ хочу.
— Червонецъ? Золотой?
Усмѣхался. И она тоже, вродѣ какъ въ поддержку ему, усмѣхнулась.
Надъ нимъ? Надъ собой?
— А хоть бы и рублями бумажными. Разницы нѣту.
Офицеръ дымилъ, пыхалъ трубкой. На его сивой головѣ кособочилась кудрявая черная папаха. Онъ опять глядѣлъ Пашкѣ въ лицо, будто икону глазами щупалъ, ласкалъ.
— Мы съ тобой что, казаки? — На ея бѣлую грязную папаху кивнулъ. — Давай мѣняться? Я твою хоть почищу.
Пашка надвинула папаху на брови. Мѣхъ сползъ до самыхъ рѣсницъ.
— Я все это, — ударила себя ладонями по поламъ пальто, потомъ цапнула ногтями папаху, — смѣняю только на шинель.
— Да солдаты тебя… засмѣютъ! А вѣрнѣй всего, съѣдятъ. Какъ овцу, зажарятъ. Зачѣмъ денегъ просишь?
— Телеграмму хочу отбить на почтампѣ.
— Кому?
— Царю, — быстро, какъ заученный урокъ, выдохнула.
Ждала — офицеръ расхохочется, а то и разсвирѣпѣетъ. Глядѣла, какъ долго онъ рылся въ карманахъ: сперва въ одномъ, потомъ въ другомъ, за подкладкой шинели. Раскрылъ кулакъ. На его ладони, въ шрамахъ, мозоляхъ и табачной несмываемой желтизнѣ, лежалъ желтый кругляшъ. Золотой червонецъ.
— Отбѣй, — просто сказалъ офицеръ.
Пашка стояла оторопѣло. Офицеръ всунулъ ей червонецъ въ руку, пошелъ, остановился, поглядѣлъ на нее вполоборота, махнулъ рукой, опять пошелъ, медленно ставя на кислый грязный снѣгъ ноги, потомъ все быстрѣе и быстрѣе.
…Читала, въ который уже разъ, и телеграфная длинная бумага дрожала въ рукахъ, и буквы вылавливала зрачками, какъ черныхъ, вразбродъ плывущихъ подъ прозрачной бѣгущей водою, мелкихъ рыбъ.
«ВЫСОЧАЙШЕЕ НАШЕ РАЗРѢШЕНІЕ ДАЕМЪ ГОСПОЖѢ БОЧАРОВОЙ ВЪ ТОМЪ ЗПТ ЧТО ОНА МОЖЕТЪ СРАЖАТЬСЯ НА РУССКО-ГЕРМАНСКОМЪ ФРОНТѢ КАКЪ РЯДОВОЙ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМІИ ТЧК СЪ ПОДЛИННЫМЪ ВѢРНО ТЧК ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ ВТОРОЙ».
Отнесла телеграмму въ батальонный штабъ. Того офицера, сиваго, съ залысинами, въ штабѣ не было; за столомъ сидѣлъ другой, до того толстый, что табуретъ подъ нимъ тихо трещалъ.
— Что у васъ?
Протянулъ руку.
— Высочайшее разрѣшеніе записаться въ батальонъ.
— Что за разрѣшенье?
Пока читалъ — брови взлѣзали все выше, выше на складчатый, жирный лобъ.
А глаза добро свѣтились, улыбчиво, какъ у доброй собаки.
Съ натугой всталъ, а табуретъ упалъ.
— Зачисляю! Рядовой… какъ тамъ тебя? Бочарова! — Повернулся къ двери. Часовой выгнулъ спину и выпятилъ грудь. — Ѳедоръ! Выдать дѣвицѣ… бабѣ… гхм, госпожѣ… Бочаровой солдатскую форму! Всю чтобъ, отъ и до!
— Слушаюсь, вашество!
— И ополченскій крестъ, — громко сказала Пашка.
— И фуражку, и ополченскій крестъ! — еще громче выкрикнулъ толстый офицеръ.
Пашка украдкой понюхала ладонь. Она еще пахла почтовымъ сургучомъ и соленымъ, желѣзнымъ ароматомъ долго сжимаемаго въ кулакѣ золотого червонца съ гордымъ профилемъ царя Николая, — царь то римскимъ воиномъ на монетѣ глядѣлся, то сытымъ, довольнымъ соннымъ котомъ.
…волосы падали на полъ. Зеркало передъ нею не мерцало, и она не могла себя видѣть, какъ она странно преображалась. Изъ дѣвки получался парень, да еще какой лихой, залихватскій. Волосы падали, расползались живыми червями вокругъ голыхъ ступней, — а тамъ, сзади, за табуретомъ, за спиной, укрытой казенной простыней, ждали высокіе, по колѣно, солдатскіе сапоги. Ножницы брякали и скрипѣли, и волосы падали, нѣжно и безслышно, тихо лаская воздухъ, и это умирало прошлое.
Потомъ надъ затылкомъ зажужжала машинка. Она холодила уже лысое темя, скрежетала по голому затылку, еще что-то незримое счищала, уничтожала, — добивала. Головѣ становилось холодно. Голова звенѣла, какъ ледяная. Какъ стеклянная чаша, рождественскій господскій хрусталь.
— Вставай!
Встала. Простыню съ нея сдернули. Отрясли состриженные клочья волосъ на полъ. По своимъ жалкимъ нищимъ волосамъ она шла къ сапогамъ, къ сложеннымъ аккуратно штанамъ, гимнастеркѣ, шинели. Разстегивала юбку; юбка сползала на полъ и накрывала волосы. Разстегивала и сдирала съ себя бѣлую холщовую сорочку. Влѣзала въ штаны. Велики были; и утягивала ремень, и ей уже протыкали шиломъ новую дыру въ плотной, добротной кожѣ.
Втискивала руки въ рукава гимнастерки, и понимала: эта болотная суровая шкура — на много дней, мѣсяцевъ, лѣтъ; а можетъ, и навѣчно.
Толкала ноги въ сапоги. Сапоги на лыткахъ болтались. Уже несли портянки, и усаживали ее опять на табуретъ, и учили, какъ ногу портянкой обмотать правильно, чтобы при ходьбѣ кожа не сбилась въ кровь.
Несли фуражку; безъ кокарды, правда, но съ мѣднымъ ополченскимъ крестомъ.
На крестѣ было написано, на всѣхъ четырехъ сторонахъ, и хорошо, издали различалось: ЗА, ВѢРУ, ЦАРЯ, ОТЕЧЕСТВО.
Къ поясу прикрѣпляла, сопя громко, два подсумка, слѣва надъ животомъ и справа.
Внесли бѣлую, какъ ея давешняя грязная, только чистую папаху, и Пашка въ растерянности запихала ее за пазуху.
Въ руку ей, какъ слѣпой, втиснули винтовку.
Выпрямилась, солдатъ Бочарова. Глядѣлась въ другихъ, чужихъ людей, какъ въ зеркало.
Въ ихъ глазахъ видѣла — себя; и живыя зеркала одобряли, хорошо отражали ее, новую.
Подняла глаза и поглядѣла наверхъ, на штыкъ: прямой, не покривленный, а кто-то ужъ этою винтовкой воевалъ, стрѣлялъ изъ нея и штыкомъ кололъ, а можетъ, и нѣтъ, вродѣ новехонькая она, непользованная.
— Солдатъ Бочарова! Кру-гомъ!
Она повернулась четко, рѣзко, будто вѣкъ шагала на плацу.
…Та первая ночь въ казармѣ помнилась недолго. Она постаралась ее забыть, и у нея получилось.
Ночь, и жесткая койка, и чужія руки лѣзутъ, чужія колѣни бьютъ подъ солнечное сплетеніе. Кто и кому сказалъ, что она баба? Все оружіе — два подсумка, котелокъ, скатанная шинель, сапоги. Она пожалѣла, что не стащила, не уволокла съ собой Грихинъ хунхузскій кривой ножъ. Чужія тѣла лѣзли и лѣзли, и заслоняли лунный молочный свѣтъ въ зарѣшеченномъ окнѣ, и молоко луны къ утру скисало, а ночной бой все шелъ: лѣзли — она била кулакомъ, лѣзли — она била жесткимъ подсумкомъ, попадая то въ подглазье, то по зубамъ, и тогда нападающій вылъ и костерилъ ее послѣдними, похабными словами. Слова эти она знала наизусть. Лѣзли — и въ чужой лобъ, въ чужое лицо она тыкала сапогомъ, еще не успѣвшимъ изгрязниться, лѣзли — размахнувшись, крѣпко била котелкомъ, и выпуклымъ днищемъ его, и краемъ; лѣзли — била локтемъ подъ дыхъ, била ногой — и носкомъ, и пяткой — въ твердую грудную кость, въ ребра, въ жесткія вздутыя мышцы рукъ и желѣзные животы. Била, и мысль мелькала, сладкая и злорадная: раньше — меня били, а теперь — я! Она сама не ожидала въ себѣ такой силы, и откуда сила взялась, и не оскудѣвала, только свинцомъ наливались кулаки. А она ударовъ не чуяла; сама себѣ казалась мѣшкомъ съ беззвучнымъ, сырымъ рѣчнымъ пескомъ; все въ пескѣ таяло, и все отъ него отталкивалось.
По казармѣ гуляли короткіе вскрики, какъ сполохи за окномъ. Изрѣдка выстрѣливалъ жесткій, мѣдный матъ. А такъ — все происходило молча, и молча сопѣли, и молча били, и молча отползали.
Дверь отлетѣла. Чуть не сорвалась съ петель. Въ темную спальню хлынулъ корридорный свѣтъ. На порогѣ стоялъ унтеръ-офицеръ Черевицынъ. Прооралъ, разѣвая пасть шире охотничьей, въ гонѣ, собаки:
— Отставить драку! На гауптвахту всѣ хотите?! Скопомъ — подъ разстрѣлъ?!
Солдаты бросались на койки. Заползали подъ одѣяла.
Кто лежалъ поверхъ одѣялъ, вытянувъ худыя, въ кальсонахъ, еще живыя, а будто мертвыя, ноги.
Пашка, мрачно горбясь, сидѣла на койкѣ, затолкавъ кулаки подъ мышки.
Кулаки ея были разбиты въ кровавую, страшную кашу. На лицѣ цвѣли кровоподтеки.
— Рядовой Бочарова!
— Я!
Встала, и даже не шаталась. Стояла, широко разставивъ босыя ноги, въ нижнемъ мужскомъ бѣльѣ.
— Что творите тутъ?!
Она крикнула лишь одно слово унтеръ-офицеру.
— Отбилась!
Въ звенящей тишинѣ всѣ слышали, какъ отчетливо выговариваетъ Черевицынъ каждый слогъ.
— Я ничего! Не скажу начальству! Завтра занятія, какъ обычно! Поняли?! Спать!
Дверь закрылъ неплотно. Изъ-подъ двери сочился, ползъ по полу золотой червякъ раздавленнаго свѣта.
Пашка отшагнула назадъ и повалилась на койку. Лежала, глядѣла въ потолокъ.
Слышала, слушала, какъ вокругъ нея къ потолку поднимаются чужіе шопоты, хрипы, ворчанья. Она зачѣмъ… чуть что… будетъ намъ… бабы, што ль, не видалъ… кулакъ тяжелый… боецъ?.. она боецъ?.. ты боецъ?.. ни разу больше… подлые вы… а ты лучше… ее теперь… завтра рано подымутъ… какъ обычно… разоспишься на печкѣ у мамки… рожу расквасила… а не просятъ, не лѣзь… кто бы зналъ… соломы бы… подстелилъ… тихо… храпитъ уже?..
Пашка и правда уже спала, не накрываясь; разбросавъ руки; и одна рука тяжело свѣшивалась съ кровати, и кровь наполняла кончики разбитыхъ пальцевъ, туго и больно стучала въ нихъ, прося выхода. Изъ-подъ губы на подушку сочилась сукровица. Солдатъ, что первымъ лапалъ ее, поправилъ подъ ея головой подушку. Потомъ стащилъ со своей койки верблюжье казарменное тощее одѣяло и осторожно закрылъ ее, эту полоумную, сильную какъ медвѣдица, странную бабу.
…время проѣхало чернымъ паровозомъ, и уже рота защищала ее, будто бы она была малый цыпленокъ или пушистый гусенокъ, и не давала ей дѣлать того, чего бабѣ нельзя; и дивилась на ея владѣніе винтовкой, на то, какъ она ловко и зло, что тебѣ хорошій мужикъ, брала препятствія; какъ не боялась стрѣлять; какъ не боялась глядѣть тебѣ въ лицо.
Она всегда глядѣла солдатамъ прямо въ лицо. Такая ужъ у нея была привычка.
Битая, она хорошо и крѣпко била. Гнутая, она ни передъ кѣмъ не гнулась.
Ее въ ротѣ такъ и звали: наша Пашка! — и больше никакъ; она сама такъ поставила дѣло; а зима шла, то ковыляла, то бѣжала, разсыпая пули звѣздъ, по синимъ жестянымъ сугробамъ въ сѣрыхъ, величиной съ солдатскіе сапоги, катанкахъ, и обреченно дымили пуще самокрутокъ надъ инистыми крышами краснокирпичныя трубы, и Пашка смотрѣла бѣшеной зимѣ въ спину и думала: бѣги, зима, бѣги, а вотъ твой февраль.
И февраль принесъ ей и всѣмъ другимъ приказъ: пятнадцатый резервный батальонъ отправить на фронтъ.
…офицеры говорили ей мягко, настойчиво: рядовой Бочарова, ѣзжайте вмѣстѣ съ нами, въ штабномъ вагонѣ! тамъ вамъ будетъ удобно! какъ у Христа за пазухой, поѣдете! — но она трясла головой, и можно было подумать: она или глухая, или припадочная.
До самаго Молодечно Пашка ѣхала вмѣстѣ со всѣми, со всѣми солдатами своей родной роты, въ теплушкѣ, и вмѣстѣ со всѣми мерзла, и вмѣстѣ со всѣми ѣла, и вмѣстѣ со всѣми пила, и вмѣстѣ со всѣми ругалась и хохотала, и вмѣстѣ со всѣми молилась.
И только глухою ночью, подъ жесткій стукъ неотвратимыхъ колесъ, подложивъ подъ жесткую скулу жесткую ладонь, плакала она — одна.
***
…И Михаилу тоже снились сны.
Жизнь снилась; а вдругъ она и вправду вся — до капли, до куриной косточки — приснилась?
…Сизые лѣса сбѣгали съ горъ внизъ, къ слоистой, свѣтящейся водѣ. У берега вода прозрачная, чуть желтоватая, какъ спитой чай. Волга. Волженька.
«Волженька», — шепталъ маленькій Минька, лежа на животѣ на пескѣ, перебирая камни и ракушки. Рядомъ валялся рыбій скелетъ. Мертвая рыбья морда смѣялась. Минька трогалъ длинныя бѣлыя иглы призрачныхъ, подводныхъ реберъ.
Его никто въ Новомъ-Буянѣ и не кликалъ — Минька; всѣ звали — Рыжій.
Рыжій, айда на рѣку! Рыжій, ты зачѣмъ у отца долото стащилъ?! Рыжій, эй, признавайся, — ты часовенку поджегъ?!
…Никто на селѣ не зналъ, какъ на самомъ дѣлѣ Мишка родился. Баба Лямина мучилась четверо сутокъ. Весь языкъ себѣ искусала, всѣ пальцы. Схватки все нагнетали внутри боль, а лонныя кости не расходились. На пятыя сутки Еѳимъ Ляминъ быстро, нервно перекрестился на икону Пантелеймона цѣлителя, выхватилъ изъ ноженъ саблю, съ которой воевалъ въ геройскихъ войскахъ генерала Скобелева подъ Шипкой, подошелъ къ жениному ложу, — тамъ возвышался огромный, шевелящійся, стонущій женскій сугробъ. Рядомъ навытяжку стояла старшая дочь, Софья, наготовѣ держала толстую швейную иголку со вздѣтой суровой ниткой.
Старая мать Еѳима опустилась на колѣни передъ роженицей. Бормотала молитвы и постоянно, мелко крестила блестящее, страшное, потное лицо снохи.
Молнія сабли ударила между людскихъ лицъ. Изъ разрѣза обильно потекла слишкомъ яркая кровь. Простыня и перина мгновенно пропитались алымъ. Бабьи потроха шевелились, мерцали, кровили, вспыхивали, и въ этомъ шевеленіи выпукло просвѣчивала головка младенца и согнутыя колѣнки. Ребенокъ лежалъ въ утробѣ головою вверхъ, къ желудку матери, ножками — къ выходу изъ тьмы. Лезвіе чуть задѣло нѣжную кожицу.
Все кровоточило, плыло, билось, уплывало. Еѳимъ чуялъ — разумъ теряетъ. Бросилъ саблю, она брякнулась о половицу и зашибла хвостъ толстому рыжему коту. Баба закатила бѣлки. Свекровь уже вынимала руками, темными и корявыми, какъ корни стараго степного осокоря, изъ кровавой ямы материнаго живота крошечное тѣльце, и шевелились, вздрагивая и сгибаясь, червяки-ноги, ящерицы-руки. Софья портновскими громадными ножницами обрѣзала пуповину.
Еѳимъ закричалъ дико:
— Шей! Живо!
Софья втыкала въ окровавленную, скользкую кожу иглу, никакъ не могла проткнуть, ревѣла, ротъ кусала.
Еѳимъ стоялъ, обхвативъ руками лысѣющую голову. Красный червячокъ на колѣняхъ у старухи корчился. Старая мать сидѣла на полу, разставивъ ноги, ниткой заматывала ало-лиловый кровоточащій отростокъ. Дочь тянула вверхъ нить, игла дырявила родную плоть. Рана закрывалась жуткимъ, бугристымъ швомъ. Софья затянула узелъ и перегрызла нить. Шарахнулась къ буфету. Вытащила четверть. Еле подняла стеклянную зеленую тяжесть: на днѣ, сонно, бредово отсвѣчивая луннымъ зеркаломъ, плескался спиртъ.
Еѳимъ подставилъ горсть. Софья плеснула. Еѳимъ склонился, пыхтя, надъ улетѣвшей далеко женой, разжалъ руки. Спиртъ вылился на свежій шовъ, обжигая дикую рану, смывая кровь жестокимъ прозрачнымъ огнемъ. Родильница не двинулась.
Такъ и лежала, запрокинувъ голову, и подушка медленно, безконечно валилась на полъ, все валилась и валилась.
…Еѳимъ Михайлычъ Ляминъ отмѣнно избы рубилъ. Срубы его стояли намертво, несгибаемо, какъ солдаты на взятой высотѣ, — не разстрѣлять, не растащить по бревну, только сжечь. Огонь, онъ все возьметъ. Еѳимъ училъ мальчишку Миньку плотницкому дѣлу. «И Самъ Христосъ-отъ, — дулъ, плевалъ на руки, на красныя вспухшія горошины мозолей, — плотникомъ былъ, смекай!» Минька вертѣлъ топоръ въ рукѣ, блескъ лезвія рѣзко билъ по глазамъ, Минька щурился, точь-въ-точь повторялъ движенья батьки.
Въ десять Мишкиныхъ лѣтъ они оба, отецъ и сынъ, отъ грѣха, чтобы попъ не подалъ въ суд за сожженную ребятней часовню, наново срубили ее изъ пахучей, нѣжной липы, и Мишка самъ залѣзалъ на куполъ, обхвативъ его ногами, какъ бока быка, укрѣпляя золоченый стальной крестъ.
Еѳимъ послѣ смерти жены и матери поднималъ двоихъ дѣтей одинъ. Къ нему приводили невѣстъ — онъ отворачивался, будто отъ поганой кучи, выходилъ на крыльцо, раскуривалъ трубку, сердито пыхалъ ею. Мишка возникалъ за спиной тѣнью. Солнце садилось за Волгу. Отецъ любилъ глядѣть на закаты и Мишку къ этому созерцанью пріохотилъ.
Такъ стояли оба, Мишка дышалъ отцовымъ табакомъ, раздувалъ ноздри. Мишкѣ однажды скупо разсказали, какъ отецъ извлекъ его на свѣтъ Божій, и онъ, ложась спать, осторожно щупалъ странный узкій бѣлый шрамъ, стрѣлой летящій черезъ грудь — по ребрамъ — къ паху: слѣдъ отцовой сабли.
Саблю ту батька держалъ въ сундукѣ, а сундукъ запиралъ на ключъ, а ключъ носилъ на черномъ гайтанѣ вмѣстѣ съ натѣльнымъ тяжелымъ крестомъ, мѣдной птичьей лапой прожигавшимъ когда-то бравую, нынче впалую мужицкую грудь.
…Пошевеливались жуками и стрекозами, нѣжно вздрагивали надъ Волгой звѣзды. Сама Волга чудилась чудовищной розовой рыбой, хвостъ терялся въ дальнемъ маревѣ, темная башка съ радужными щеками и выпученнымъ луннымъ глазомъ вставала торчмя, плыла въ небеса. На томъ берегу рыбаки закидывали сѣти, жгли костры. Красные угли кострищъ тлѣли внутри ночной печи, бѣлая полоса кварцеваго песка горѣла во тьмѣ серебряной царской шашкой. Распорядокъ міра былъ незыблемъ; его могъ расшевелить лишь грозовой вѣтеръ. Мишка нюхалъ воздухъ. Ясное небо изливало полночную ласку, но Мишка, какъ звѣрь, чуялъ сырой холодный сиверко изъ-за гребня Жигулей. Гроза шла съ востока. Ворочалась чернымъ медвѣдемъ въ надоѣвшей за зиму берлогѣ.
Часы сложились въ минуты, минуты сжались, какъ пальцы въ кулакъ. Время сошлось въ одну точку, и изъ нея ударила первая ярко-розовая молнія. Она отвѣсно, саблей, протыкающей врага, вошла въ черную зеркальную поверхность рѣки. Громыхнуло надъ головой, и Мишка со страху присѣлъ: небо раскололось, и черепъ его раскололся. Тучи вили черную бѣшеную шерсть. Молніи уже метались, били куда хотѣли — и въ воду, и по берегамъ. На островѣ посередь Волги загорѣлся огромный осокорь. Факеломъ пылалъ. Огонь отражался въ водѣ, и вода колыхалась, какъ геенна огненная, — черная, адская, золотая. Кто-то страшно далеко, какъ съ того свѣта, кричалъ съ того берега — то ли на помощь, то ли окликалъ опрометчиво уплывшаго на лодкѣ наперерѣзъ грозѣ друга. Громъ перекатывалъ булыжники надъ крышей ляминской избы, а они оба, отецъ и сынъ, стояли подъ навѣсомъ крыльца, глядѣли, какъ косо, сплошной серебряной стѣной, хлещетъ ливень, заслоняя звѣзды, берега и деревья. Вода въ Волгѣ пучилась и вздувалась.
— Не завидую, — бросилъ Мишка, — рыбакамъ сейчасъ… Муторно имъ…
Еѳимъ выколотилъ трубку о перила крыльца и омочилъ руку въ потокахъ ливня.
— Вотъ такъ и мы, — непонятно сказалъ, мрачно, — вотъ такъ и мы же…
Мишка не сталъ допытываться. Вдругъ хрипло, пьяно, юно захохоталъ. Веселье же! Хляби небесныя отворились!
— Вотъ землица хлебнетъ! Возжаждала! Пить же хочетъ!
Отецъ молчалъ, тискалъ черную, вишневаго дерева трубку въ желтыхъ кривыхъ пальцахъ.
…Послѣ грозы, на самомъ разсвѣтѣ, отецъ и сынъ направились къ берегу. Ноги по щиколотку вязли въ сыромъ сѣромъ пескѣ.
— Хорошо, лодку не отвязало. Въ такую бурю уплыла бы, что твоя щука, и перевернулась. Ладь новую. Расходы.
Мишка сѣлъ на весла. Гребъ упорно, размашисто. Еѳимъ разматывалъ сѣти. Пахло гнилыми водорослями, въ заводи колыхались на алѣющей утренней водѣ золотые дѣтскіе кулачки кувшинокъ. Сквозь чистые водяные слои различалось дно съ крупными, скошенными будто рубиломъ камнями.
— Вонъ, вонъ ходитъ, — шепнулъ Мишка, вглядываясь. — Рѣзвая. Не уйдешь.
Взялся за другой конецъ сѣти; закинули. Сѣть уходила въ воду медленно, плавно.
— Бать, это сазаны, ей-Богу!
Длинная тѣнь промелькнула и ушла за корму.
— Не божись, Минька. Осетръ это. Ну, давай же…
Шевелились беззвучно губы: молился рыбацкой молитвой.
Великанская рыба опять прошла мимо лодки. Спокойная утренняя вода качнулась. Сѣть натянулась. Осетръ сталъ рваться, бороться. Лодка кренилась, черпала бортомъ уже алую, кровавую воду. Тянули вмѣстѣ. Мишка вцѣпился въ сѣть клещомъ. Мышцы напрягались сладко, тревожно. Рыба пыталась уйти во что бы то ни стало. Мощный осетръ волокъ лодку за собой, какъ на буксирѣ. Еѳимъ матерился. Изъ воды показалась обмотанная сѣтью остроугольная сѣрая морда, костяные торчки на загривкѣ. Дугой выгнулась спина въ костяныхъ зубьяхъ. Хвостъ расплескивалъ воду. Осетръ, бѣшенствуя, перевернулся брюхомъ вверхъ, и Мишка увидалъ усы на мордѣ и жалкій, ребячій, печально округленный ротъ.
На мигъ стало жалко живое. «Онъ же умираетъ! Умираетъ, какъ всѣ мы, люди и звѣри!» Отецъ не далъ взорваться ненужной жалости. Рыбалка — это работа, и тяжелая, какъ любой мужицкій трудъ. Потянуть сѣть, намотать на руку, выпростать рыбу, подвести черпакъ. Дѣлать все надо быстро, сноровисто, иначе побѣдишь не ты, а тебя. Это — война.
«Война, все на свѣтѣ война».
Мысли плыли рыбами, а руки дѣлали дѣло. Когда втаскивали осетра, лодку чуть не перевернули. Отецъ ругнулся замысловато. Мишка вычерпывалъ воду бѣшено, быстро, сильно. Опростали. Осетръ взбрыкивалъ, закутанный въ сѣть, и Еѳимъ тюкнулъ его весломъ по башкѣ. На глазахъ и бѣлой губѣ рыбины выступила кровь.
И опять Мишку какъ ремнемъ ожгло.
«Кровь, у него и кровь красная, какъ навродѣ наша».
Губы облизалъ. Глядѣлъ, какъ отецъ продѣваетъ въ ротъ и черезъ жабры рыбѣ — куканъ, крѣпкую и гибкую вѣтвь краснотала.
«Я никого, никого на свѣтѣ, и никогда не убью».
А солнце тѣмъ временемъ выкатилось надъ рѣкой, заполонило собой все небо, изъ краснаго сдѣлалось желтымъ, изъ желтаго — бѣлымъ, заливало ранней жарой излучину Волги, мощныя овечьи кудри Жигулей, острова, лежащіе посреди стрежня крупными тусклыми зелеными яшмами, темножелтый, сырой послѣ грозы песокъ, бакены съ рыбьими стеклянными глазами фонарей, лодки съ рыбаками, пухлыя теплыя, какъ женскія груди, медленно и важно плывущія облака, полосатые створные знаки, груженныя углемъ и пескомъ баржи, колесные пароходы, и плицы глухо шлепали по водѣ, горящей алыми и золотыми огнями.
Осетръ лежалъ на днѣ лодки. Острой мертвой мордой — къ носу. Хвостомъ — къ кормѣ.
Когда хвостъ дрогнулъ и ожилъ, Мишка рѣзко выкрутилъ весло въ уключинѣ, бросилъ на лодочный бокъ.
— Батя! — Задыхался. — А давай отпустимъ!
— Что, кого? Куда?
— Куда-куда! Осетра! Онъ… какъ человѣкъ!
— Хехъ, вонъ ты куда загнулъ. Дуракъ! Самъ же ловилъ! Да онъ съ икрою! Засолимъ!
«Да это еще и мать, можетъ. Мать! Икру… вымечетъ! А мы его разрѣжемъ… выпотрошимъ…»
На мгновенье мелькнула дикая, изъ до-временныхъ сновъ, картина: баба на кровати, вся въ крови, и выгнутая, какъ играющая рыба, сабля надъ ея могучимъ животомъ.
И отцу то же видѣнье на мигъ примстилось. Оба — одно увидали.
Еѳимъ зажмурился, опять ругнулся сквозь прокуренные желтые клыки.
Мишка склонился надъ осетромъ, трогалъ дрожащей рукой его радужно блестѣвшія подъ солнцемъ щеки, костяной хребетъ, перегнулся черезъ бортъ, закрылъ ладонью глаза, дергалъ плечами. Слезы сами текли. Самъ себя ненавидѣлъ.
…Жили трудно. Еѳимъ сперва батрачилъ, потомъ самъ разжился скотиной; за коровами и конемъ старательно ходила Софья. Замужъ Софью никто не бралъ, хоть она и ликомъ вышла, и ростомъ, и повадкой. Еѳимъ цѣдилъ: «Заговоренная ты! Сглазъ на тебѣ!» — плевалъ въ сторону, крестился, однажды въ церковь сельскую пошлепалъ, скрипя зубами, — ставить свѣчу Софьѣ за здравіе и очищеніе отъ всякой порчи и скверны.
Мишка рыбачилъ, рыбу продавалъ на рынкѣ въ Самарѣ. Любилъ скопище людское. Народъ на рынокъ разодѣтый являлся. Рынокъ, церковь, кладбище — вездѣ принарядиться людямъ охота. И любопытствуютъ, и себя выгодно выставляютъ. Мишка стоялъ надъ разложенной на прилавкѣ рыбой, сырой духъ билъ въ ноздри пьянѣе водки.
— Эй, народъ, налетай, рыбку свѣжую хватай!
Рядомъ торговка въ платкѣ съ сѣрыми шерстяными кистями любовно поправляла капустный листъ наверху ведра. Изъ-подъ капустнаго уха мелькало рыжее, золотое.
— Что это у тебя, мать? Маслята?
— Грузди красные, разуй глаза!
Платокъ сползъ бабѣ на затылокъ. Подъ солнцемъ сверкнули неожиданно яркіе, цыплячье-желтые волосы. Мишка глядѣлъ безотрывно.
— Пошто зыришь?
— А пондравилась!
— Прямъ ужъ такъ?
— Адресочекъ есть?
— Есть, есть, да не про твою честь!
Весело швырялись легкими, пустячными словами. Народъ текъ мимо торговцевъ широкой шумной, пестро-солнечной рѣкой.
Къ Мишкѣ подошла пара. Усатый господинъ крѣпко держалъ спутницу подъ локоть, будто боялся: убѣжитъ. Женщина держала спину прямо, и груди нахально торчали впередъ двумя островерхими пирамидками. Мужчина брезгливо, двумя пальцами взялъ скользкаго, нагрѣтаго солнцемъ судака за хвостъ, хотѣлъ перевернуть. Судакъ выскользнулъ и свалился на землю, въ пыль.
— Живой? — холодно спросила дама.
— А то! Свѣжачокъ!
Судакъ лежалъ въ пыли, не шевелился.
— Мертвый, — надменно процѣдилъ мужчина. — И глазъ синій. А долженъ быть розовый. Съ кровью.
Баба съ груздями, поднявъ и склонивъ по-птичьи голову, внимательно слушала.
Дама внезапно наклонилась и подняла съ земли судака. Рыба раскрыла пыльныя жабры и слабо шевельнула хвостомъ.
— Купимъ, Мишель! Тяжеленькій! Лина уху сваритъ. Хочу ухи.
— Уха должна быть изъ осетра!
Господинъ зафыркалъ, какъ котъ.
— Сварганьте тройную, — брякнулъ Мишка и снялъ картузъ, какъ въ церкви.
Передъ грудастой дамой — снялъ.
— Платье попачкаешь! — сердито кинулъ господинчикъ.
Мишка рванулъ изъ-подъ корзины грубую бумагу, ловко свернулъ кулекъ.
— А вотъ пожалста!
Женщина медленно опустила въ кулекъ судака. Мишка ловилъ глазами ея глаза и не могъ поймать.
— А стерлядью торгуешь? — ворчливо спросилъ мужчина.
Мишка стоялъ съ кулькомъ въ рукахъ. Рыбій хвостъ сорочьимъ перомъ торчалъ.
— Всю ужъ раскупили. Съ ранья я…
— Съ ранья! — скрививъ усатую котячью морду, передразнилъ господинъ. Вытащилъ бумажникъ. Бросилъ на прилавокъ деньгу. — Пойдемъ, Заза!
Женщина наконецъ наткнулась зрачками на зрачки Мишки. Его изнутри опахнуло дикимъ кипяткомъ. Хорошо, что быстро отвела глаза.
Онъ протянулъ кулекъ. Упряталъ деньги за голенище.
— Кушайте на здоровье.
Слѣдилъ, какъ подолъ бѣлаго платья мететъ пыль.
— А я изъ Дубовой Рощи, — хитро сказала баба и накинула на желтые волосы сѣрый платокъ.
— Такъ ты наша! Буянская. Рядомъ.
— Да, рядышкомъ.
Мишка наклонился, снялъ съ ведра капустный листъ, цапнулъ скрюченными пальцами верхній груздь, зажевалъ.
— Отмѣнный посолъ. Умѣешь. Я тебя въ Дубовой Рощѣ найду.
— Заплутаешь искать!
— Не заплутаю. Солдатка?
— Догадался…
— А я догадливый.
…Тогда же вечеромъ Мишка, какъ на водопой, притекъ въ Дубовую Рощу и бабу разыскалъ. Изба на окраинѣ, три куры лѣниво траву щиплютъ передъ незатворенной калиткой. Баба сопѣла и всхлипывала подъ нимъ, а ему его тѣло казалось чугуннымъ и ржавымъ. Чугуннѣе, тяжелѣе всего давило и гнуло внизу живота. Когда избавился отъ темной тяжести — закричалъ облегченно, радостно. Баба наложила потную ладонь ему на орущія губы и зашипѣла: тише ты, чумной, живность перебудишь, а ну быкъ взыграетъ. «Я самъ быкъ», — довольно выдохнулъ Мишка, привалился щекой къ щекѣ бабы и тутъ же уснулъ. Баба выползла изъ-подъ него, горячаго, какъ изъ печки, и, пока онъ спалъ, напекла блиновъ на водѣ, изъ грубой сѣрой муки. Добыла изъ буфета банку меда. Марлю развязала. Смазала блины медомъ: масло все на жарку извела. Мишка во снѣ раздувалъ ноздри, чмокалъ, какъ младенецъ. Баба свернула трубочкой блинъ и поднесла къ сонному рту. Мишка ѣлъ блинъ во снѣ, глоталъ, не давился, глаза не открывалъ. Улыбался.
***
По веснѣ Мишка посватался къ новобуянской красавицѣ Натальѣ Ереминой.
Самъ не зналъ, какъ это все вышло. И не то чтобы онъ на дѣвку заглядывался. И она на него не косилась. И не танцовалъ онъ съ ней въ широкой, для веселья слаженной, избѣ знахарки Секлетеи; и не увязывался за нею на Волгу или на Воложку, плавно, ласково обтекающую кудрявый отъ ракитъ и густыхъ осокорей Телячій островъ. Не леживали они близко на желтомъ жаркомъ песочкѣ, не обнимались подъ старымъ вязомъ за околицей. Ни отцу, ни Софьѣ Мишка не говорилъ про Наталью ничего. А вотъ однажды утромъ поднялся, вылилъ на себя за сараями, босыми ногами стоя на нестаявшемъ въ тѣни снѣгу, ведро колодезной воды, крѣпко и зло растерся холщовымъ полотенцемъ, нацѣпилъ чистую рубаху, заправилъ подъ ремень въ чистые портки, полушубокъ накинулъ — и, съ мокрыми еще волосами, поперъ по мѣсиву грязной, въ лужахъ, дороги, по распутицѣ, въ домъ къ Ереминымъ.
Еремины богатыми слыли. Павелъ Еѳимовичъ держалъ маслобойку и домашнюю мельницу. Батраковъ, правда, не держалъ: семья большая, всѣ работали, даже маленькая Душка скотинѣ корму задавала, а еле вилы поднимала. А малютка Галинка на Волгу полоскать бѣлье ходила: къ корзинѣ веревку привязывала и такъ волокла — по травѣ ли, по снѣгу. Выполощетъ, руки холодомъ водянымъ ей сведетъ, грѣетъ ихъ дыханьемъ. Потомъ опять корзину тяжелую, съ мокрымъ бѣльемъ, тащитъ въ буянскую гору.
Марѳинька стряпала, Сергѣй помогалъ отцу косы точить, Иванъ помоломъ занимался, вмѣстѣ съ Игнатомъ. «Парни съ мельничошкой лучше меня справляются!» — хвастался передъ сельчанами Ереминъ.
Одиннадцать дѣтей, шутка-ли сказать! А Наталья — старшая. Смуглая, какъ татарка. И раскосая. Да Павелъ Еѳимычъ самъ раскосый, что тебѣ калмыкъ. Церковный староста; всѣ ему кланяются, когда по улицѣ движется, горделивѣй царя.
Жонку взялъ — воспитанницу помѣщика Ушкова. Польку. Въ православіе крещена Анастасіей. Волосья длинные, русые, завиваются на концахъ. Одного родитъ — другимъ ужъ беременна. «Ты чего, Павлушка, жонку-то безъ перерыва брюхатишь?.. штобъ на гулянки не хаживала?.. хитеръ ты боберъ!» — кричалъ ему черезъ плетень, смоля черную трубку, сосѣдъ Глѣбъ, одноногій старикъ, — ногу въ Болгаріи потерялъ.
Мишка мокрые вихры ладонями пригладилъ. Ежился на мартовскомъ тепломъ и сильномъ вѣтру.
Осторожно въ дверь постучалъ.
— Эй! Хозяева! Можно?
Донесся стукъ желѣзныхъ плошекъ, духъ грибной похлебки. Заскрипѣла жалобно дверь, отирая руки о передникъ, вышла Настасья.
— Здравствуйте, Настасья Ивановна.
— Здравствуй и тебѣ, Михаилъ. Пожаловалъ съ чѣмъ?
Мишкины скулы налились краснымъ ягоднымъ сокомъ.
— Да я это…
— Вижу, что это. Проходи.
Толкнула маленькимъ кулакомъ дверь. Мишка стащилъ сапоги и мягко, какъ лѣсной котъ, ступая, прошелъ за Настасьей въ залитую солнцемъ залу. На покрытымъ бѣлой скатертью столѣ въ вазѣ стояли вѣтки вербы. Пушистые заячьи хвосты цвѣтовъ усыпаны золотой пыльцой.
Мишка стоялъ передъ Настасьей босой, смѣшной. Самъ себя ненавидѣлъ.
— Я это, свататься пришелъ.
— Одинъ пришелъ?
— А что, не одному надо?
Еле видно улыбнулась Настасья.
— Къ кому присватываешься? У меня всѣ дочки махоньки.
— Не всѣ. Наталья — на выданье.
— А, вонъ ты мѣтишь куда.
Медленно повернула голову къ косорылому, подслѣповатому окну, будто высматривала на дворѣ кого. Мишка невольно залюбовался гордой шеей, тяжелымъ русымъ пучкомъ, оттягивавшемъ затылокъ женщины книзу: дома ходила съ непокрытой головой. «Бѣленькая, а дѣтки всѣ смуглявые получились. Ереминскія кровя пересилили, азиатскія».
Стоялъ, переминался. Ждалъ.
Настасья отвѣчать не торопилась.
Наконецъ обернулась.
— Приходи попозже, покалякаемъ.
— Это какъ попозже? — Обозлился. — Черезъ два дни, черезъ годокъ?
— Яковъ за Рахилю семь лѣтъ работалъ и еще семь, — сурово изронила Настасья.
Мишка глядѣлъ на недвижные, лежащіе снулыми мальками поверхъ вышитаго фартука пальцы. «Ручонки красивыя, какъ у барыньки, а изработанныя».
Пальцы дрогнули, стали мять и дергать нити вышивки.
Крикнула въ пріоткрытую дверь:
— Наташка!
Молчаніе. Потомъ послышался топотъ по половицамъ босыхъ ногъ. Влетѣла Наталья, ступни изъ-подъ юбки загорѣлыя, на смуглыя румяныя скулы съ висковъ кудри жгучія, вороньи, свисаютъ, крутятся въ кольца. Глаза летятъ бѣшеными шмелями впереди лица. Увидѣвъ Мишку, вмигъ присмирѣла. Воззрилась на мать. Стояла, губы кусала.
Настасья повела подбородкомъ къ плечу.
— Сватается къ тебѣ, видишь-ли.
Наталья глаза въ полъ опустила. Внимательно половицу разглядывала.
Мишка ощущалъ, какъ время, уплотнившись и отяжелѣвъ, больно стучитъ ему по оглохшимъ ушамъ.
— Эхе-хе, птенцы. Что молчите? — вздохнула мать. — Никто изъ васъ не готовъ. Наташка юна, да и ты цыпленокъ. Еще поднаберитесь жизни. Ума-разума наберитесь. Тогда и домъ можно заводить. И дѣтей. А кто вы теперя? Сами дѣти!
Сердито махнула рукой. Наталья вскинула на Мишку глаза. Онъ шагнулъ назадъ, будто босой ступней на угли наступилъ. Помолчалъ, еще потоптался медвѣдемъ, ниже, еще ниже голову повѣсилъ, вотъ-вотъ шея переломится. И повернулся, и пошелъ прочь, не поклонился даже.
По двору шагалъ — Наталья догнала. По плечу легонько ребромъ ладони стукнула.
Онъ сначала останавливаться не хотѣлъ, смутился и разозлился. До калитки дошелъ, тогда обернулся. Наталья стояла поодаль. Не догоняла его. Онъ самъ, вразвалку, подошелъ. Сапоги глубоко уходили въ грязь, въ колотый ледъ.
— И что?
— А ты что?
Вразъ засмѣялись. «И вѣрно, дѣти мы еще».
Мишка, будто бабочку ловилъ, нашелъ руку Натальи, крѣпко сжалъ. Она руку грубо выдернула.
— Больно!
— И мнѣ больно.
— Ой, отчего?
— Влюбился я въ тебя.
— Ой ли! Гдѣ это ты успѣлъ? Я на гулянки къ Секлетеѣ не хожу!
— Ты себя на селѣ не запрячешь.
Наталья дула на руку, какъ на обожженную.
— Охота была прятать!
— И отъ меня не укроешься. Точно тебѣ говорю.
— Ишь, храбрецъ. Среди овецъ!
У Мишки пересохли губы. Босыя ноги Натальи плыли въ грязи, двѣ смуглыхъ лодки.
— Я тебѣ… хочу…
— Ну, что?
— Ноги вымыть… въ тазу… какъ Господь ученикамъ…
Наталья хохотнула. Вѣтеръ отдулъ ей вороную прядь и приклеилъ къ губамъ.
— Ты не Христосъ, и я не твоя ученица!
— Будетъ время, всему научу.
— Нахалъ, ишь!
Но не расходились. Такъ и стояли у калитки.
Настасья глядѣла на нихъ въ окно. Мишка еле различалъ въ косомъ квадратѣ немытаго съ зимы стекла: бѣлые разводы, легкія цвѣтныя пятна, движенье, будто сосульки подъ солнцемъ съ крыши капаютъ, плачутъ. Ни глазъ, ни волосъ, одно вспыхиванье. Наталья покосилась на окно, вздохнула.
— Иди уже, Минька. Тебѣ еще гулять треба!
— А тебѣ?
— А на мнѣ хозяйство.
Опять ея руку поймалъ, и она не отняла.
— Вмѣстѣ будемъ хозяйство ладить.
— Ой! Напугалъ! Да у тебя и своего-то дома нѣтъ! Въ отцовомъ живешь!
— Срублю. Недолго.
Теплая рука, теплое смуглое Натальино лицо рядомъ. Скулы широкія, глаза узкіе.
Мишка лицо приблизилъ.
— Калмычка…
— Что мелешь. Русскіе мы. Еремины, по прозванью Балясины.
Мишка внезапно сделалъ шагъ въ сторону. Подъ стрѣхой стояла кадка, полная талой воды. Схватилъ кадку, легко приподнялъ — и опустилъ рядомъ съ босыми ногами Натальи. Взялъ ея ногу обѣими руками и въ кадку макнулъ. И Наталья не воспротивилась. Стояла покорно и глядѣла, какъ парень ей ногу моетъ.
И другую вымылъ. И заливисто засмѣялась дѣвушка.
— Такъ я-же щасъ ихъ наново запачкаю!
— Грязни. На здоровье.
«Я сдѣлалъ, что хотѣлъ».
Наталья толкнула ногой кадку. Грязная вода вылилась на землю.
Мишка стоялъ съ мокрыми руками. Обтеръ руки о портки.
Попятился къ калиткѣ. Отворилъ.
Уже за калиткой стоя, обернулся и сухой, наждачной глоткой выдавилъ:
— Я еще тебя въ банешкѣ всю буду купать.
И пошелъ. Наталья вслѣдъ смѣялась.
— Банникъ тебѣ пальцы отломаетъ!
***
Жара ближе къ сѣнокосу ударила знатная. Трава, ягоды на глазахъ кукожились и подсыхали. Бабы шутили: въ лѣсахъ вокругъ Барбашиной Поляны дикая малина сама въ варенье превращается, и варить не надо. Софья готовила наряды къ сѣнокосу: бѣлый платокъ, бѣлую, съ красной строчкой по подолу, холщовую юбку.
— Минька! Я тебѣ рубаху нагладила.
— Спасибочки! Какъ въ господскомъ дому. Я прямо бариномъ гляну!
Глядѣлся въ зеркало съ отломаннымъ углышкомъ. Самъ себѣ не нравился.
«Глаза у тебя, парень, просятъ пить-гулять. А рожа скучная. И правда, жениться надо».
Метнулъ косой взглядъ на Софью.
«И эта въ дѣвкахъ засидѣлась. Вѣчная монашенка».
Софья стояла съ чистой глаженой рубахой въ распяленныхъ рукахъ.
— Минька! Дай надѣть помогу!
Дался покорно, конемъ голову наклонилъ, шею согнулъ. Софья напялила ему на плечи рубаху, поправляла воротъ.
— Косо пошила… неровно лежитъ…
— Кому меня разглядывать.
Еѳимъ уже стоялъ на порогѣ съ двумя литовками.
Взбросили косы на плечи, пошли, широко шагая. За ними, мелко и быстро перебирая ногами, спѣшила Софья съ маленькой, будто игрушечкой, косенкой. Той смѣшной косенкой траву срѣзала Софья быстро и ловко, мгновенно выкашивая лужайку или зеленую ложбину на угорѣ. Бабы сноровкѣ ея люто завидовали.
Сельчане уже трудились во-всю. Угоръ надъ Волгой былъ весь усѣянъ бѣлыми, алыми, розовыми, синими, небесными рубахами, юбками, поневами, сарафанами: бабы и мужики дружно поднимали косы, остро и быстро двигали ими надъ шелестящей травой, вонзали въ самую травную, мощную гущу. За блескомъ лезвій трава ложилась покорно, обреченно. Выкосъ все росъ, расширялся, угоръ постепенно обнажался, а дѣвки шли за косцами съ граблями и сгребали накошенное въ кучи и стожки. Кто посильнѣе да помускулистѣе — сбиралъ стожки въ настоящій стогъ, очесывалъ его граблями и охлопывалъ.
Еѳимъ и Мишка взбросили литовки. Косы запѣли въ ихъ рукахъ, почти подъ корень срѣзая могучую траву.
— Гнѣздо не срѣжь. Тутъ козодои гнѣзда вьютъ.
— Ну и срѣжу? Невелика бѣда.
— А если Господь твое — срѣжетъ?
— У Іова вонъ срѣзалъ. Да Іовъ Ему опять же молился. И Господь ему — все вернулъ.
Косы пѣли и визжали рѣзко, тонко, длинно.
Еѳимъ криво усмѣхнулся. Потъ текъ по его губѣ.
— Сынокъ-отъ у меня Писаніе, оказывается, читаетъ.
Мишка вскинулъ косу высоко, захватилъ сразу полкруга травы вокругъ себя.
— Да это мнѣ Софья читывала. Я и запомнилъ.
Вжикали косы. Потянуло пьянымъ цвѣточнымъ духомъ. Мишка скосилъ глаза. Никого. Обернулся. Сзади и чуть сбоку, ступая по травѣ осторожно и легко, шла Наталья и рѣзво, быстро косила; справа отъ нея шла Софья, еще поодаль двѣ бабы со двора Уваровыхъ гребли скошенное.
Бабы всѣ были въ лаптяхъ, а Наталья босикомъ.
Косовище въ рукахъ Мишки мгновенно вспотѣло и заскользило.
Молчалъ, сильнѣе сжалъ губы. Дѣлалъ видъ, что ее не замѣтилъ, не видѣлъ.
За бабами, подальше, шелъ Степанъ Липатовъ, косой возилъ, какъ тяжелымъ молотомъ въ кузнѣ. Хлипкій былъ Степанъ, хворалъ вѣчно. Вѣтеръ дунь — и свалится: съ кашлемъ, съ хрипомъ. Въ жару — въ обморокъ падалъ. Вотъ и сейчасъ лобъ, какъ баба, бѣлымъ мокрымъ платкомъ обвязалъ, чтобы солнце не ударило.
Шуршала трава. Визжали и плакали косы. Блестѣли подъ свирѣпымъ, добѣла раскаленнымъ солнцемъ узкія, какъ стерляди, лезвія. Впередъ, впередъ, не останавливайся, рѣзвый сѣнокосъ! Еще великъ угоръ, а скосить къ закату надо. А пить-то уже какъ охота, да и ѣсть тоже.
Мишка облизнулъ губу. Больше не глядѣлъ въ ту сторону, гдѣ косила Наталья.
Она-то его прекрасно видѣла. На траву, на лезвіе не глядѣла, а глядѣла на Мишку, и глаза ея искрили, смѣялись. Софья исподтишка за ними обоими наблюдала. Софьѣ по веснѣ ужъ донесли: Минька къ Наташкѣ свататься шасталъ. Да все съ весны замолкло. Замерло, а можетъ, и сгасло. Невѣдомо то.
Тянули грабли траву. Переступали въ травѣ босыя ноги. Кто въ лаптяхъ да въ онучахъ, счастливѣй босоногихъ былъ: трава щиколотки рѣзала не хуже ножа.
И вдругъ — короткій рѣзкій крикъ. Наталья ажъ присѣла отъ боли на траву.
Мишка первымъ бросился къ ней. Не думал, что задразнятъ, засплетничаютъ. Просто — рванулся.
— Наташка! Что?!
Глядѣла смущенно, глаза прощенья просили.
— Да дура неловкая. Лезвіемъ рѣзанула.
Кровь изъ порѣзанной лодыжки щедро хлестала, поливала траву.
Мишка сорвалъ съ себя рубаху. Рвалъ на куски сильными руками, терзалъ, какъ дикій котъ — утку. Всю на клочки разодралъ. Тряпками рану Наташкѣ заткнулъ. Полосами рваной ткани сталъ туго-на-туго перевязывать.
— Ой-ей, ты не шибко крѣпко! Распухнетъ, коли жилу перетянешь.
— Безъ тебя знаю.
Наталья вытягивала ногу по травѣ. Мишка пыхтѣлъ. Бабы сгрудились, стояли надъ ними, цокали языками, ахали.
— Бѣдняжечка Наташечка! Сама себя!
— Такъ вить дѣло недолгое…
— Кажда минутка на счету… а вотъ дѣвка свалилась!
— Я не свалилась, — Наталья голову приподняла, — щасъ все пройдетъ.
Бѣлый платокъ сползъ ей на брови. Черные калмыцкіе глаза горѣли гнѣвно. На себя сердилась.
Мишка завязалъ охвостья, ладонь положилъ на Натальино колѣно. Она руку его съ колѣна скинула.
— Спасибо.
— Богъ спасетъ.
— Ступай домой!
— Еще чего. Напрасно.
Тяжело поднялась съ примятой травы. Выстонавъ, косу подхватила. Шагнула впередъ. Еще впередъ. И пошла, пошла, пошла. Засвистѣла коса. Мишка Натальей залюбовался. Подшагнулъ къ ней и, сам не зная, что творитъ, положилъ руки ей на плечи.
И отдернулъ, какъ отъ огня.
Она продолжала косить, ничего не сказала. Будто слѣпень сѣлъ, посидѣлъ, не укусилъ, улетѣлъ.
…Солнце когда на закатъ перевалило, стали обѣдать. Сѣли въ тѣни телѣгъ. Лошади стояли въ тѣнечкѣ уже наметаннаго большого стога, вздыхали, жевали скошенную траву. Софья разстелила на травѣ два широкихъ полотенца, вынула изъ телѣги мѣшочекъ. Изъ мѣшочка на полотенце вывалились: круглый ситный, круглый ржаной, ножъ, блестѣвшій не хуже астраханской сельди, а вотъ и рыбка вяленая, каспійская тарань, а вотъ въ банкѣ разварной сазанъ съ ломтями вареной ярко-желтой икры. Пучки луку зеленаго, да въ обвязанномъ платкомъ чугункѣ — вареная прошлогодняя картошка. Первый чеснокъ, зубчики Софьей заботливо почищены. Да въ пузырькѣ изъ-подъ аптечнаго снадобья — крупная сѣрая соль.
У Мишки слюнки потекли. Предвкушалъ трапезу.
— Софья! А пить, пить-то взяла ай нѣтъ?
— А то. Забывчива, думаешь?
Встала, наклонилась надъ краемъ телѣги. Изъ-подъ мѣшковъ вытащила четверть. Тамъ булькалъ темный квасъ. Софья тяжело вздохнула.
— Нагрѣлся, собака. Какъ ни упрятывала…
Мишка ѣлъ, пилъ. Глаза у него будто на затылкѣ выросли. Хотѣлъ оглянуться на Наталью, да себя поборолъ. Въ тѣни громаднаго осокоря, росшаго на скатѣ угора, стояла телѣга Ереминыхъ. Наталья держала въ обгорѣлыхъ на солнцѣ рукахъ ломоть, крупно откусывала, жадно жевала. Смотрѣла въ затылокъ Мишкѣ.
Мишка утеръ ротъ ладонью, легко всталъ съ земли. Глазами Наталью нашелъ. Подошелъ, чуть подгибая въ колѣняхъ ноги, пружиня въ шагѣ. Отъ теплой земли, отъ горячей скошенной травы вверхъ поднималось марево. Натальино лицо колыхалось, видимое какъ сквозь кисею.
Присѣлъ рядомъ съ ней, на травѣ сидящей, на колѣни.
Вдругъ Наталья сама ладонь ему на колѣно положила. И руку не снимала.
Ея зубы хлѣбъ во рту мѣсили.
Мишка боялся шевельнуться.
— Ты что? — беззвучно спросилъ.
Наталья тихо засмѣялась.
— Рыжій ты, — сквозь смѣхъ выдавила. — Да я еще подумаю.
Даже лобъ у Мишки подъ картузомъ покраснѣлъ.
— Я красный, ты черная, какіе дѣтки получатся? — такъ же шопотомъ, да грубо, прямо въ потное дѣвичье лицо кинулъ онъ.
Загорѣлая рука сползла съ Мишкинаго колѣна. Наталья дожевывала хлѣбъ. Проглотила. Крѣпче узелъ бѣлаго платка на затылкѣ завязала. «Будто снѣжная шапка на башкѣ, и не таетъ», — бредово думалъ Мишка. Марево завивалось вокругъ нихъ. Пахло раздавленной земляникой.
Отъ ближняго стожка вѣялъ ароматъ донника.
На мигъ Мишкѣ почудилось: они оба — въ стогу, и онъ цѣлуетъ Наталью безотрывно.
***
Снарядили Еремины телѣгу на самарскій рынокъ — мукой да маслицемъ поторговать. Мельничошка и маслобойка работали безъ простоя, наняли Еремины все-таки двухъ батраковъ, семьей не справлялись. Сельчане, видя, что Мишка по Наташкѣ сохнетъ, шутили: «Тебѣ бы, Минька, къ Павлу-то Еѳимычу батрачить пойти, вотъ и слюбились бы съ Натальей Павловной».
Ходилъ кругами, какъ котъ вокругъ утицы въ камышахъ, и все повторялъ: рыжій я, рыжій, рыжій, для нея противный. «Поцѣловать бы хоть разикъ! Глядишь, и попробовала бы, какова любовь-то на вкусъ».
Увидѣлъ разукрашенную, въ честь путешествія въ Самару, ереминскую телѣгу: съ привязанными къ бокамъ красными и бѣлыми ленточками, съ зелеными березовыми вѣтками, съ вплетенными въ конскую сбрую золочеными кисточками. Побѣжалъ, босой, ступни жнивье кололо. Догналъ, запыхавшись. Наталья сидѣла поверхъ мѣшковъ. Она видѣла, какъ онъ бѣжитъ, глядѣла молча, строго.
Догналъ. Конь шелъ медленно, телѣга тряско переваливалась съ боку на бокъ. Младшая сестра Натальи, Душка, щеки въ оспинахъ, обнимала грузный мѣшокъ съ мукой, остро вонзала маленькіе раскосые глазенки въ мрачнаго Мишку. Онъ быстро шелъ рядомъ съ телѣгой. Ловилъ глазами глаза Натальи.
— На рынокъ?
— А то куда!
Душка отвѣчала бойко, громко, быстро. Будто собачка лаяла.
— Меня возьмете? Гляжу, у васъ мужиковъ нѣтъ. А ну нападутъ? Добро отымутъ!
— Есть. Вонъ братанъ спитъ!
За мѣшками, за крынками съ масломъ и правда кто-то сонный валялся. Сергѣй, младшій братъ.
— Какой это мужикъ. Кошкѣ на ночь не погрызть.
Вдругъ Наталья подняла рѣсницы. Мишку будто двѣ черныхъ пчелы ужалили.
— Прыгай. Поможешь мѣшки сгружать.
— Да и торговать помогу! Я умѣлый!
На ходу въ телѣгу запрыгнулъ. Умостился къ Натальѣ поближе.
Солнце било отвѣсными лучами въ головы и плечи. Наталья пошарила за спиной, вытащила чистое полотенце.
— На. Затылокъ обвяжи. Напечетъ.
…На рынкѣ Мишкѣ не пришлось стаскивать наземь мѣшки, банки, жбаны и крынки — торговали прямо съ телѣги. Конь стоялъ послушно, печально. Наталья коню на холку накинула холстину, отъ жары спасала. Масло народъ покупалъ прямо крынками. Ереминское масло на самарскомъ торжищѣ славилось. Мишка исподтишка разглядывалъ Наталью. Развышитая рубаха, крохотные красные камни въ смуглыхъ мочкахъ. Широкія, и впрямь калмыцкія скулы. Высокая шея.
— Шея у тебя башня, — самъ себѣ прошепталъ. Наталья услышала.
— А у тебя — воротный столбъ!
Душка торговала мукой. Волосы, руки, грудь уже бѣлые, какъ снѣгомъ замело. Совокъ въ рукѣ, малявка, держитъ неумѣло, муку на ящикъ-прилавокъ то-и-дѣло просыпаетъ.
А все-жъ народъ громко, во весь голосъ толкуетъ, на Душку косясь:
— Вонъ, вонъ! Эта рябая! Гляди-ка, ишь, бойкая торговля!
Наталья рѣжетъ масло, тайкомъ слизываетъ съ широкаго квадратнаго ножа-тесака.
— Языкъ обрѣжешь.
Мишка и вправду пугается.
— Еще чего! Я ловко.
Сергѣй въ большой кошель деньги собиралъ. Мишка на кошель косился.
Вдругъ конь странно, безумно мотнулъ головой, дико заржалъ и пошелъ, пошелъ впередъ, ступая безъ разбору, давя копытами чужую снѣдь, разложенную на мѣшковинѣ и холстахъ на жаркой землѣ!
— Эй! Балуй!
Мишка напрягся. Раздумывать было некогда. «Сейчасъ взыграетъ, на дыбки встанетъ. Копыта опуститъ — небось кого передавитъ! Быстрѣй надо!» И уже не думалъ. Ринулся впередъ. Забѣжалъ впереди обезумѣвшаго коня. Подхватилъ подъ-уздцы. Конь лягался задними ногами. Оглушительно ржалъ прямо Мишкѣ въ ухо. Мишка кряхтѣлъ, упирался въ землю ногами. Держалъ крѣпко. Вцѣпился въ поводья. Конь выпучилъ бѣшеный глазъ, грызъ удила, рвался. Мишка стоялъ и держалъ. Устоялъ. Крынки въ телѣгѣ попадали. Растаявшее на жарѣ масло вытекало изъ-подъ марли. Въ телѣгу прыгнулъ приблудный котъ, жадно слизывалъ потеки масла и сметаны.
Наталья подбѣжала къ коню.
— Гдѣ тебя укусило?.. ты скажи, скажи, Гнѣдышка… гдѣ…
Шарила по мокрой лоснящейся, шелковой конской шкурѣ руками, ладонями. Пальцами — искала. Кулаки Мишки побѣлѣли, крѣпко сжатые. По губамъ коня текла слюна.
— Вотъ… ага…
Наталья чуть присѣла, засунула руку между конской ногой и брюхомъ. Бока раздувались, ребра сквозь гнѣдую шкуру ободами бочонка просвѣчивали.
— Клещъ какой! Жирный!
Лицо Натальи сморщилось, она выпростала изъ-подъ конскаго брюха руку. Между ея скрюченныхъ пальцевъ Мишка съ отвращеніемъ увидѣлъ круглый черный раздутый шаръ великанскаго клеща.
— За животягами не услѣдишь… и вродѣ на ночь въ конюшнѣ чистила его, мыла…
— Дай раздавлю, — сказалъ Мишка.
— Да у тебя-жъ руки заняты. Ты лучше Гнѣдышку держи.
Конь сопѣлъ, храпѣлъ. Глазъ свѣтился синей сизой сливиной.
— Ты мнѣ подъ ногу бросай.
— Уползетъ!
— Пусть попробуетъ.
Наталья кинула клеща на землю. Мишка вдавилъ его босой пяткой въ твердую землю. Нѣжная пыль мукой облѣпила его ступню. Наталья присѣла на корточки.
— Дай гляну, сдохъ ли. Они жесткіе, гады.
Юбку въ пыли пачкала. Мишка оглаживалъ коня по холкѣ.
— Ну да, живой, дрянь!
Сергѣй нашелъ въ телѣгѣ, въ соломѣ, молотокъ, бросилъ Натальѣ. Она поймала.
Била по клещу, какъ по гвоздю. Мишка разсмѣялся.
— Все, шабашъ. Въ землю вбила! Какъ зерно, прорастетъ!
Наталья разогнулась. Тяжело дышала. Заправляла смоль волосъ подъ платокъ. Душка поднимала въ телѣгѣ упавшія крынки, тряпицей подтирала масляныя и сметанныя лужи. Конь успокоился, ржалъ тихо, благодарно.
— Проголодался? — спросила Мишку Наталья.
Не смотрѣла на него. Только вбокъ и внизъ.
— Есть немного.
— На. Похлебай сметанки.
Вынула изъ телѣги и протянула ему крынку.
— А ложки жъ нѣтъ!
— А ты прямо черезъ край. Мы тутъ не въ трактирѣ.
Мишка взялъ крынку изъ рукъ Натальи, и тутъ она на него посмотрѣла. Будто раскаленной, изъ печи вынутой кочергой полоснуло ему по лицу. Пилъ изъ крынки сметану, чуть закисшую на жарѣ, а глазъ отъ глазъ Натальи не отрывалъ.
И она — не отрывала.
…Изъ ереминскаго дома Павла Еѳимыча на лютую войну взяли.
…А когда Мишка на войну ушелъ, биться съ непріятелемъ за вѣру, царя и отечество, Наталья недолго въ дѣвкахъ побыла.
Черезъ полгода послѣ Мишкинаго отъѣзда обженили Наталью со Степаномъ Липатовымъ, хлипкимъ да болѣзнымъ, изъ стариннаго казачьяго рода. Издавна жили казаки Липатовы въ Жигуляхъ. И все у нихъ силачи рождались, только вотъ одинъ Степанъ — выродокъ: въ груди узкій, въ плечахъ хилый, ножки что спички, то-и-дѣло кашляетъ, самъ сутулится да еще на животъ жалуется. Бабки-знахарки его ужъ и всякими отварами поили, и надъ нимъ нашептывали — безполезно. Такимъ уродился, видать.
А зачѣмъ Наталья согласіе дала? А низачѣмъ. Такъ просто. Одиноко одной. Да и мать передъ иконами, на колѣняхъ, плакала: бобылкой нельзя быть, соломенной невѣстой — нельзя! Гдѣ твой Минька? Богъ вѣсть. И не вернется! Убьютъ его, какъ пить дать. Или уже убили.
Сваты отъ Липатовыхъ пришли, съ хлѣбомъ-солью. Наталья вышла изъ дальнихъ комнатъ, голову смиренно наклонила.
Потомъ, ночью, край кисейной занавѣси себѣ въ ротъ засовывала, грызла — такъ кричать, во весь голосъ ревѣть хотѣла. Да отъ всего семейства стыдно. Себя борола, руки кусала. Встала съ кровати, молилась всю ночь.
…Въ Буянѣ на водонапорной башнѣ то красный флагъ воздѣвали, то трехцвѣтный. Выстрѣлы сухо хлопали. Когда бѣлые село занимали — разстрѣливали и жгли. Красные захватывали — не лучше отличались. На Ереминыхъ не посягали: у всѣхъ мужчинъ въ семействѣ — ружья охотничьи, у Павла Еѳимыча — турецкая винтовка, нарѣзная тяжеленькая берданка. Стрѣляли всѣ мѣтко. Даже дѣвки. Наталья сама стрѣляла и не разъ на охотѣ въ зайца попадала. Домъ крѣпкій, что тебѣ крѣпость. Ни бѣлые, ни красные его не трогали. Будто замоленный былъ, заговоренный.
Да попросту — боялись.
А Мишка? Что Мишка?
Ушелъ себѣ и ушелъ. Куда ушелъ? Подъ пули.
…Революція пришла, загрызла рыбу-время красной кошкой.
Софью изнасиловали красные. Она послѣ того повѣсилась въ сараѣ на конской уздѣ. Избу Ляминыхъ подожгли, съ четырехъ сторонъ весело, съ трескомъ горѣла, яркимъ пламенемъ, какъ соломенная Кострома на масленицу. Еѳимъ пошелъ на Волгу, сѣлъ въ лодку, отвязалъ ее отъ столба, выплылъ на стрежень, помолился на солнцѣ и кувыркнулся въ воду. А вода-то была ледяная — апрѣль, рѣка вскрылась, крупныя льдины со зловѣщимъ шорохомъ двигались внизъ, къ морю, мелкія грязныя льдинки плыли быстро, какъ пестрые утята, на иной льдинѣ сидѣла собака, морду поднявъ, выла, не хотѣла смерти.
***
Они долго ѣхали сюда, ѣхали безъ страха, но съ тоской и тревогой, ѣхали черезъ всю страну, что еще такъ недавно была ихъ страной, и они владѣли ею, и она была подъ ними, подъ русскими царями, — и ничего, что она, царица, рождена ангальтъ-цербстской нѣмкой, а въ немъ намѣшано и англійской, и нѣмецкой крови — черезъ край прольется; они все равно были русскими, наперекоръ всему, и это была ихъ Россія, — а теперь уже вовсе и не ихъ, — а чья же тогда?
Ничья, можетъ, и ничья. Разбродъ во властяхъ; разбродъ въ умахъ.
И война не закончена. Война идетъ.
Они такъ долго сюда ѣхали, что имъ казалось — они будутъ ѣхать такъ всегда, подъ ними грохотали колеса, шумѣли и вздрагивали пароходныя плицы, подъ ними неслась и разстилалась и убѣгала назадъ, за поворотъ, за горизонтъ, земля, и ее они любили, а вотъ любила ли ихъ она?
Теперь на это не было отвѣта.
И сами себя они боялись обмануть.
А когда пріѣхали, прибыли въ Домъ Свободы — и смѣшно такъ прозывался домъ, какъ въ насмѣшку надъ ними, а можетъ, въ укоръ, — забыли, что гдѣ-то грохочутъ пушки и рвутся снаряды, забыли, какъ дѣвочки натягивали на головы платки сестеръ милосердія, чтобы бѣжать въ размѣщенный во дворцѣ госпиталь для тяжелораненыхъ, а Бэби вертѣлся передъ зеркаломъ въ новенькой шинели — ѣхать на фронтъ, въ Ставку, съ отцомъ; забыли, какъ народъ бѣжалъ по улицамъ Петрограда съ плакатами: «ВОЙНА ДО ПОБѢДЫ!», «РАЗГРОМИМЪ ПРОКЛЯТАГО НѢМЦА!»; забыли, какъ царь блѣдными губами повторялъ передъ народомъ, передъ министрами, передъ семьей, самъ съ собою, наединѣ: «Будемъ вести войну, пока послѣдній врагъ не уйдетъ съ земли нашей». Они все забыли. Память горѣла дикой раной, но они замотали ее плотными лазаретными бинтами.
Они все забыли, и войну, и эту пошлую, звѣрью революцію; ихъ землю выбили у нихъ изъ-подъ ногъ, какъ табуретъ, и они закачались на вѣтру, — еще не повѣшенные, но уже летящіе.
А другъ другу улыбались. Сами себѣ — въ забвеніи своемъ — боялись признаться. Сами себя хвалили, сами себя ругали. А если хвала и ругань доносились извнѣ — старались не слышать.
Николай садился напротивъ жены, ласково улыбался ей, бралъ ее за руки и шепталъ: Аликсъ, ты сегодня превосходно выглядишь, ты такая у меня красивая, я ослѣпну отъ твоей красоты.
Она не вѣрила, а дѣлала видъ, что вѣрила. Чтобы ему сдѣлать пріятное.
Спасибо, родной, вотъ я и весела.
Она ему что-то доброе, милое быстро, оживленно говорила въ отвѣтъ, заговаривала ему зубы, чтобы онъ не вспомнилъ, не понялъ, что они живутъ взаперти, что дворца больше нѣтъ, а есть суровый, бѣдный пустой домъ, гдѣ они одни — подъ присмотромъ грязныхъ красныхъ солдатъ; лепетала, улещивала, усовѣщивала, совѣтовала, ласкала, — развлекала, а онъ вдругъ сильнѣй сжималъ ея старыя, уже морщинистыя руки, и она испуганно слушала его голосъ, каждый малый звукъ въ немъ, каждый хрипъ: «Знаешь, я не чувствую время. Я пересталъ его ощущать. Аликсъ, мнѣ кажется, никакого времени нѣтъ. Нѣтъ и не было. Я отрываю отъ календаря листки и удивляюсь: на нихъ оттиснуты какія-то числа, какія-то цифры. Я гляжу на нихъ и не понимаю, что это такое. Тысяча девятьсотъ восемнадцать, пятнадцать, двадцать три, девять, тридцать, одиннадцать. Какое-то лото, барабанныя палочки. Барабанныя палочки, слышишь! Я ничего не понимаю. Время исчезло. Вотъ ты мнѣ скажи, ты, только ты, — оно есть или его уже нѣтъ?»
Царица, сжимая его руки, глядѣла на него круглыми отъ ужаса глазами. А голосъ дѣлала сладкій, нѣжнѣйшій. «Да, милый, да. Оно есть. Оно намъ подарено Богомъ. Чтобы мы совсѣмъ не заблудились, не потерялись. Чтобы мы не лишились разума и…»
Жена замолкала, и онъ обезпокоенно самъ теперь жалъ, тискалъ ея руки, спрашивалъ хрипло, тревожно: и чего? Чего? И — чего?
И тогда царица долгимъ взглядомъ проникала въ него, и ея безумные зрачки, водяныя, рѣчныя радужки проходили сквозь него, насквозь, и выходили наружу, какъ пули, навылетъ.
«И любви», — говорила она еле слышно.
…а когда ложились спать, холодъ наваливался на нихъ и обнималъ ихъ, подъ толстымъ жуткимъ одѣяломъ холода они все крѣпче обнимали другъ друга, и царь шепталъ женѣ на ухо, подъ сѣдую печальную прядь: знаешь, если мы тутъ всѣ выживемъ, если живы останемся, если — выйдемъ на свободу, то, пожалуйста, не спорь со мной, я такъ рѣшилъ, я это на самомъ дѣлѣ давно рѣшилъ, только тебѣ не говорилъ, да что тамъ, ты и такъ все сама знаешь, я — стану — патріархомъ.
Жена ахала и клала ему обѣ ладони на горячій лобъ, а онъ тихо смѣялся и бормоталъ: охлаждай, охлаждай меня холодненькими ручками своими, я весь горю, я вотъ думаю — я для этого дѣла на землѣ и назначенъ, что я всѣ эти годы дѣлалъ на тронѣ, ума не приложу, я же просто священникъ, я — для церкви, я всю жизнь мечталъ объ этомъ, и здѣсь, въ этой сибирской лютой зимѣ, сижу и мечтаю, лежу и мечтаю, и думаю, что это было бы самымъ правильнымъ, наиболѣе вѣрнымъ для меня, да что тамъ — для меня: для всѣхъ! Для всѣхъ насъ! Знаешь, я чувствую, что это мой путь! Золотомъ, золотомъ свѣтится онъ. Горнимъ золотомъ, милая. И мнѣ стыдно, что я… слишкомъ мягкій для войны, хоть я и хорошо умѣлъ воевать, слишкомъ мягкій для моего народа, для васъ всѣхъ, семьи моей. Я иногда чувствую: я стою будто въ свѣтѣ. И онъ такъ мягко, мягко обнимаетъ меня. И мнѣ тогда такъ стыдно, стыдно! И я такъ плачу тогда! Но ты, ты не видишь. Я боюсь тебя разстроить. Я плачу одинъ. Ты прости меня за это, пожалуйста, прости.
…и жена бормотала, сумасшедшая, растрепанная, глядя несчастными глазами, счастливо плача, теперь уже въ жесткое горячее ухо ему: мнѣ не за что тебя прощать, ты для меня святѣе святого, и, если бы ты уже былъ — патріархъ, я бы первая попросила у тебя благословенья.
***
— Эй! Ляминъ! А ты слыхалъ таково имя — Троцкай?
Михаилъ медленно, старательно раскуривалъ самокрутку.
Раскурилъ, тогда поднялъ глаза на кричащаго.
Лешка Уховертъ стоялъ неблизко, поодаль, потому и оралъ.
Лешка страшной жестокостью отличался, а еще силенъ былъ, какъ три быка: ему въ лапы не попади — раздавитъ, и только кости хрустнутъ. Иные въ отрядѣ съ нимъ пробовали бороться. Выходило себѣ дороже.
— Нѣтъ! Не слыхалъ!
— Глухой ты! Ищо услышишь!
— А ты — слышалъ?!
Перекрикивались, какъ на пожарѣ. Михаилъ косился на ноги Уховерта: безъ сапогъ, а портянками обмотанныя.
— Я — да!
— И чо?
— Да одинъ такой! Мнѣ Куряшкинъ говорилъ: въ Москвѣ, гритъ, власть у йо щасъ большая!
— Важнѣй Ленина, или какъ?
— Да кто жъ его знатъ! Можетъ, и важнѣй! Тамъ ихъ, героевъ-то да вождей, самъ чортъ разберетъ!
— Зачѣмъ же ты мнѣ — про него — баешь?!
Уховертъ, перетекая мощнымъ тѣломъ съ боку на бокъ, подплылъ по солнечному хрусткому снѣжку къ Михаилу. До ноздрей Лямина донесся водочный духъ.
— А затѣмъ, — Лешка наклонился, и сильнѣй, острѣй запахло спиртомъ, — что будь готовъ, солдатъ, ко всему.
Говорили тише.
— Къ чему это?
— А къ перемѣнѣ.
— Чего?
— Власти. Власти, дурень, чего-чего!
Совсѣмъ тихими стали рѣчи. Дымъ окуривалъ наклоненную голову Лямина.
— Будто ты про власть много чего знаешь.
— Да ужъ не менѣ тебя.
— Менѣ, болѣ. Болтунъ.
— Щасъ, болтунъ. Изъ Питера намедни братъ Колосова Игнатки вернулся. Розсказни разсказывалъ.
— А ты слыхалъ?
— Если бъ не слыхалъ, не калякалъ бы.
— И что слыхалъ?
— Тамъ во дворцѣ одномъ всѣ наши владыки собрались. Подъ началомъ Ленина, понятно. И думу думали. Колосовъ Никитка, Игнаткинъ братъ, тамъ былъ и все запомнилъ. Все.
— Что — все-то? Кончай загадками брехать.
— Я не брешу. Скоро насъ отсюда, изъ Тобольска, вмѣстѣ съ нашими царями, выродками, погонятъ.
— Куда погонятъ?
— Въ друго мѣсто. Никитка говоритъ — на Уралъ.
— Чо мы на Уралѣ-то забыли?
— Да не мы забыли.
— Уралъ великъ.
— Екатеринбургъ имѣю въ виду. Тамъ, Игнатка разузналъ, у власти одинъ ушлый мужикъ. Исайка Голощекинъ.
— Изъ бѣдняковъ?
Михаилъ затягивался глубоко, вдыхалъ дымъ и носомъ, и ртомъ, чтобы глубже прошелъ, опьянилъ, насытилъ усталое тѣло обманомъ краткаго отдыха.
— Изъ самыхъ что ни на есть.
— Это хорошо. Нашъ, значитъ.
— Значитца, да.
— Да команды никакой вѣдь не было къ отъѣзду.
— Это понятно. Да все къ этому идетъ. Никитка врать не будетъ.
— А что, Никитка допущенъ былъ къ высокимъ разговорамъ? Простой красноармеецъ?
Окурокъ тлѣлъ, дотлѣвалъ въ согнутыхъ, сцѣпленныхъ грязнымъ заскорузлымъ кольцомъ пальцахъ.
— Простой! — Уховертъ хохотнулъ. — Мы нынче всѣ не простые. Нынче — власть народа. Смекай, значитца, чья власть? На-а-аша. То-то же. Щасъ всякій-каждый — до верховъ долѣзть можетъ. И съ самимъ Ленинымъ балакать. Никитка — балакалъ.
— Не вѣрю!
Насмѣшка изогнула табачныя губы Лямина.
— А я — вѣрю. Толку что не вѣрить?
— Ладно, — мирно сказалъ Ляминъ. — Къ свѣдѣнію принялъ. И что это означаетъ?
— Какъ — что?
Уховертъ, не мигая, глядѣлъ въ заросшее щетиной лицо Лямина.
— Мы можемъ ужесточить режимъ охраны?
— А-а, вотъ ты о чемъ. — Лешка плечами пожалъ. — Хочешь, и ужесточай. Веселись въ свое удовольствіе. Надо же имъ отомстить, негодяямъ.
«Гляди-жъ ты, какъ всѣмъ намъ они насолили».
Вспомнилъ, какъ царицу въ газетахъ рисовали отвратной проституткой, чернобородаго Распутина рядомъ съ ней — грознымъ остроклювымъ коршуномъ, только безъ портокъ, а царя — съ длинными хищными зубами, и кровь съ клыковъ на мундиръ каплетъ.
Кровавые! Изверги!
«Вмѣсто того, чтобы ихъ пустить въ расходъ гдѣ-нибудь въ проходномъ дворѣ, — мы тутъ ихъ бережемъ, стережемъ. Сметанкой кормимъ, яйцами. Свѣжій хлѣбъ на рынкѣ повара покупаютъ, да чтобъ колачи еще теплые были».
Дрогнулъ спиной. Свелъ лопатки.
«Надо что-то рѣзкое, злобное сказать. А то подумаетъ: я тряпка, тюхтя. Или что я съ царями въ сговорѣ».
— И то правда. Спасибо, надоумилъ.
***
Ихъ было трое, и всѣ уже подъ хмелькомъ.
Какъ Михаилъ затесался межъ нихъ, онъ толкомъ не помнилъ.
Сначала комиссаръ отпустилъ погулять: вродѣ какъ вознаградилъ. «Кумекаетъ, паря, што мужикамъ тожа надоть отдыхнуть!» Чей голосъ выпалилъ это Лямину въ самое ухо? Онъ даже не обернулся — какъ шелъ по темной улицѣ, такъ и шелъ. Чуть впереди этихъ троихъ.
Куда шли? Въ Тобольскѣ не загуляешь съ размахомъ, это тебѣ не Москва, не Питеръ. И даже не Самара. «Ой, Самара-городокъ, безпокойная я…» — сами вылѣпили губы. Помялъ пальцемъ верхнюю губу: простылъ намедни, тамъ, гдѣ усы пробивались жесткой грубой щетиной, выскочилъ крупный, съ ягоду черники, чирей.
Однако шли гулять, это онъ хорошо помнилъ.
— Безпокойная… я… успокой… ты…
Фонарь висѣлъ надъ головой переспѣлымъ желтымъ яблокомъ.
— Меня…
Когда шли по улицѣ Туляцкой — навстрѣчу трое.
«Ихъ трое, да насъ же четверо, отобьемся, если что».
Шаги срѣзали разстоянье. Подошли ближе. Вотъ уже очень близко. Офицерскіе погоны.
— Бѣляки, — плюнулъ вбокъ Андрусевичъ, и слюна на усѣ осѣла, — вотъ тебѣ нумеръ…
Мерзляковъ подобрался, подъ разстегнутой курткой — Ляминъ увидѣлъ — подтянулъ ко хребту животъ. Готовился.
— Ненавижу, — тускло сказалъ Андрусевичъ. Глубже надвинулъ на глаза кепку.
— Я лютѣй ненавижу, — бросилъ Люкинъ. И визгъ кинулъ въ ночной холодный, черный воздухъ:
— Ненавижу-у-у-у!
Офицеры встали.
«Откуда? Съ какого припеку? Кто завезъ? Сами пріѣхали? Брать. Разстрѣлять на мѣстѣ?»
Мысли ошалѣло бились другъ объ дружку.
Ляминъ видѣлъ, какъ руки, пальцы офицеровъ Бѣлой Гвардіи ищутъ застежки кобуры. Люкинъ уже держалъ наганъ наизготовѣ. Быстрѣй всѣхъ успѣлъ.
«Сейчасъ бахнетъ, и наповалъ».
— Стой! Они разскажутъ!
Что разскажутъ, и самъ не зналъ.
Андрусевичъ закусилъ желтый усъ подковкой нижнихъ зубовъ. Офицеръ, что ближе всѣхъ стоялъ, медленно поднялъ руки. Двое другихъ вцѣпились въ кобуры, но ужъ понятно было — опоздали.
Сашка шагнулъ впередъ. Его лицо подъ заиндивѣлой ушанкой стянула, какъ на морозѣ, будто застылая, изо льда, выморочная, дикая ухмылка.
— Чей моторъ?!
Ляминъ забѣгалъ глазами. Изъ-за угла высовывался задъ громоздкаго авто.
— Мой, — бѣлыми губами нащупалъ слово самый молодой, самый блѣдный.
«Молодецъ, углядѣлъ. Люкинъ теперь тутъ командиръ?»
Взбросилъ глаза на Мерзлякова. Мерзлякова всегда слушались. Но, видать, теперь бѣшеный Люкинъ тутъ заправила.
Отъ оскала Люкина плылъ духъ хорошаго табака.
«Сволочь, гдѣ-то вѣдь укралъ пачку отмѣнныхъ папиросъ, а можетъ, и сигары слямзилъ. И ховаетъ. Товарищамъ — шишъ».
— Садись въ авто! Поѣдемъ!
Ближній офицеръ безумными глазами спросилъ: куда?
— Я моторъ поведу, — Мерзляковъ выступилъ впередъ. Постоялъ немного и, длинная живая слега, пошелъ прямо къ черному, какъ мертвый жукъ-плавунецъ, авто.
«Желѣзный сундукъ. Вмѣстительный хоть, а всѣ не уберемся».
Убрались. Мерзляковъ велъ, Ляминъ рядомъ сидѣлъ, а худой Андрусевичъ потѣснилъ троихъ, утрамбовалъ ихъ на заднемъ сиденьѣ. На всякій случай стволъ револьвера въ ухо врагу всунулъ. Люкинъ на колѣни офицеру нагло, потѣшно усѣлся.
— Вотъ какъ мы, эхъ, съ вѣтеркомъ, терпите, дряни!
— А куда ѣдемъ, товарищъ? — спросилъ Михаилъ.
Очень хотѣлось курить. А еще — спать.
«Какъ тамъ наши цари-господа? Вотъ они ужъ точно спятъ. Спятъ, помолясь! А мы мотаемся. Ночь, городъ, вотъ плѣнныхъ взяли. И кой чортъ ихъ въ Тобольскъ занесъ?»
— Оружіе сдать! Быстро!
— Кому сдать?
Опять молодой голосъ подалъ. И старался, чтобъ не дрожалъ.
— Да мнѣ же! — Сашка трясся въ мелкомъ хохотѣ. Наганъ въ его рукѣ трясся тоже. — Живо!
Авто подпрыгивало на стылыхъ ухабахъ. Офицеры разстегивали кобуры и клали на полъ авто, подъ Сашкины сапоги, пистолеты и револьверы. Руки Мерзлякова крѣпче вцѣпились въ руль, посинѣли.
— Эй, Сашка, слышь… — Ляминъ въ одночасье охрипъ, будто колодезной воды наглотался. — А чо съ ними дѣлать-то будемъ?
— А ничо, — весело и нагло отвѣтилъ Люкинъ. — Гляди вотъ, чо.
Сидя на колѣняхъ у стараго офицера, съ морщинами у рта, съ мѣшками подъ глазами, якобы неловко повернулъ торсъ и въѣхалъ локтемъ въ глазъ старику. Тотъ охнулъ. Глазъ быстро заплывалъ лиловой темной кровью.
— Эй, отребье бѣлое! Слухай сюда. Намъ деньги нужны! Поняли — деньги! Вы намъ — выкупъ за себя достанете! Раздобудете три тыщи рублей — живы будете, отпустимъ! Не найдете — разстрѣляемъ къ едренѣ матери! Всѣ слыхали?! Всѣ?!
Офицеры молчали. Авто тряхануло крѣпко. Сашка развернулся и уже осознанно, зло засадилъ старику въ скулу, съ ближняго размаху.
— Не слышу! Всѣ — слыхали?!
Старый офицеръ утеръ кровь со рта. Она опять сочилась, текла изъ-подъ губы внизъ, по гладко выбритому подбородку.
— Всѣ. Слышали.
— Куда ѣдемъ?
Молодой дрожалъ весь. Дрожалъ ротъ, дрожали бѣлесыя брови, дрожали пальцы, даже уши, какъ у связаннаго звѣря, дрожали.
— Къ вдовѣ Исадовой.
— Это гдѣ?
— На Покровской, ближе къ Тоболу. Сейчасъ направо чуть забрать!
…Мерзляковъ подрулилъ къ дому Лидіи Исадовой. Офицеры шли впереди, подъ прицѣломъ Сашкинаго нагана; они всѣ — сзади. Ляминъ въ темнотѣ не видѣлъ мраморныхъ ступеней лѣстницы. Античныхъ статуй, побитыхъ пулями.
— Богато живетъ твоя вдовушка! — Сашка двинулъ промежъ лопатокъ молодого. — Твоя любовница?
Молодой обернулся. Такого лица Ляминъ не видалъ еще за всю революцію и всю войну — ни у людей, ни у звѣрей, ни на картинкахъ, ни въ синематографѣ. Такого чернаго, дикаго лица.
— Моя мать.
— Фью-у-у-у, — присвистнулъ Сашка и стволомъ нагана сдвинулъ ушанку набекрень, — нежданный поворотъ событій, и миль пардону я прошу!
— Это я васъ прошу. Можно, я къ матери зайду одинъ? Безъ васъ.
— Васъ, насъ! Уѣхалъ въ Арзамасъ! — заоралъ Люкинъ, играя наганомъ. — А я на мамашу посмотрѣть желаю! Ступай всѣ, ребята!
Молодой дернулъ за веревку звонка, да они ждать не стали: Андрусевичъ налегъ всѣмъ тѣломъ, Люкинъ ногой выбилъ дверь. Она съ грохотомъ и лязгомъ упала въ корридоръ. За упавшей внутрь дверью стояла женщина со снѣжными косами корзиночкой вокругъ головы, съ такимъ же мелко дрожащимъ, какъ у молодого офицера, лицомъ. На морщинистой шеѣ свѣтилась низка бусъ изъ рѣчныхъ жемчуговъ.
— Вольдемаръ… Кто эти люди?
— Мама. Ты только не волнуйся. Съ нами все будетъ хорошо. Ты только… У тебя тысяча рублей — есть?
Пока молодой говорилъ, сѣдовласая женщина становилась бѣлая лицомъ, какъ ея метельные волосы.
— Вольдемаръ… Откуда… Когда папу разстрѣляли, я всѣ деньги… отправила въ Харьковъ, тетѣ Дашѣ… ты же знаешь… помнишь…
— Я не помню!
Крикъ раздвинулъ стѣны корридора. Гдѣ-то далеко зазвенѣли часы. Ляминъ считалъ удары.
«Одиннадцать. Скоро полночь. Почему я не въ Домѣ, со спящими царями? Не съ ней рядомъ?»
Подумалъ о Маріи и увидѣлъ ее. Постель; и она спитъ. Волосы на подушкѣ. Рука сжата въ кулакъ. Все глубже сонъ, и кулакъ разжимается.
…а о Пашкѣ даже и не вспомнилъ.
— Сыночекъ мой…
— Мама! Посмотри, пожалуйста! Въ шкатулкѣ! Сколько есть! Все отдай!
Молодому очень хотѣлось жить.
Бѣлокосая старуха исчезла. Солдаты ждали. И офицеры ждали. Старуха вышла, въ рукахъ — купюры. Протянула Люкину, а взялъ Мерзляковъ. Не сталъ считать, сразу въ карманъ куртки засунулъ. Угрюмое лицо чуть подовольнѣло.
— Негусто, — выдохнулъ Сашка.
— Ужъ сколько есть, — бормотнулъ Андрусевичъ.
— Скольки ни есть — всѣ наши! — выкрикнулъ Сашка.
Старуха стояла навытяжку, какъ въ строю. Безотрывно глядѣла на молодого офицера.
— Оставьте мнѣ его, — беззвучно сказала, чуть тронувъ чернокожаный рукавъ Мерзлякова.
— Что выдумала, — весело подкинулъ и поймалъ обѣими руками, какъ младенца, наганъ Люкинъ, — онъ плѣнный! Законъ военнаго времени знаешь?
Старуха повернулась къ нимъ ко всѣмъ спиной. И пошла по коридору. И открыла дверь. И за нею исчезла.
Молодой офицеръ стеклянными глазами смотрѣлъ ей вслѣдъ.
Онъ видѣлъ ее и за закрытой дверью.
…Они стучали въ разныя двери. Стучали — уже не выбивали. Ждали. Открывали испуганные люди. Кто всклокоченный, съ постели прыгъ. Кто не спамши, при полномъ парадѣ, — и въ разныхъ одежкахъ: кто во фракѣ, кто въ потрепанномъ халатишкѣ, кто въ рясѣ, кто въ салопѣ, кто въ фартукѣ, только изъ-за плиты. Кто въ залатанныхъ отрепьяхъ; кто въ бывшихъ бархатахъ и плисахъ. Кто въ строгомъ пенснэ. Кто въ смѣшномъ, съ лопастями и кружевами, чепчикѣ. Они объѣзжали всѣхъ родныхъ, друзей и знакомыхъ арестованной троицы, и всѣ давали имъ деньги. Видѣли страшныя, уже будто мертвыя, лица трехъ офицеровъ — и давали. Кто сколько можетъ. Много. Немного. Карманы куртки Мерзлякова непомѣрно раздулись. Люкинъ потиралъ ладони. Андрусевичъ свистѣлъ сквозь зубы модную пѣсенку:
— Цыпленокъ жареный,
Цыпленокъ пареный
Пошелъ по улицамъ гулять!
Его поймали,
Арестовали,
Велѣли паспортъ показать!
Я не кадетскій,
Я не совѣтскій,
Я не народный комиссаръ!
Я не разстрѣливалъ,
Я не допрашивалъ,
Я только зернышки клевалъ!
И лишь Ляминъ молчалъ. Молчалъ и изрѣдка оглядывалъ офицеровъ.
Они едва не валились съ ногъ. Имъ хотѣлось или спать, или скорѣй умереть.
…Вышли изъ очередного параднаго. Тяжелая дверь едва не наподдала Лямину по заду. Еле отпрыгнулъ. Офицеры шли, подъ прицѣломъ, впереди. Михаилъ замыкалъ шествіе.
— Чорта ли лысаго, — раздраженно выдавилъ Люкинъ, — усталъ! И всѣ устали. А не развлечься ли намъ наконецъ? Мы жъ — развлекаться пошли!
— Развлеклись, — Мерзляковъ похлопалъ себя по отдутымъ карманамъ.
— И то. Спасибо этому дому, рванемъ къ другому!
— А къ какому?
Такъ же кучно, тѣсно завалились въ авто. Разсаживались, кряхтѣли. Молодой офицеръ смотрѣлъ въ окно, плакалъ.
…Мерзляковъ сперва поколесилъ немного по ночнымъ улицамъ, потомъ свернулъ и покатилъ по Лазаретной на окраину. Лужи, схваченныя слюдой ледка, хрупали подъ тугими колесами. Офицеры молчали, и они молчали. А что было говорить?
«Смерть чуютъ. Наша взяла».
Затормазилъ у кроваво-красной вывѣски: «ДОМЪ ЯБЛОНСКОЙ».
— Ага, — хохотнулъ Люкинъ и бросилъ вверхъ и поймалъ наганъ. — Зналъ, куда прикатить! Покутимъ, ребята! — Оглядѣлъ офицеровъ. Плюнулъ въ нихъ глазами. — Напослѣдокъ.
Вошли. Пелена дыма. На диванахъ — мужчины, женщины. Задранныя на мятыя брючины голыя бѣлыя женскія бедра, винныя бутылки на столахъ и подоконникахъ. Мерзляковъ заказалъ водки. Принесли водку. Поставили передъ солдатами. Усѣлись: кто въ кресла, кто на кривоногіе стулья. Офицеры стояли. Ляминъ спиной чувствовалъ ихъ смятеніе.
…Внезапно все стало ровнымъ, сѣрымъ, гладкимъ, — равнодушнымъ. Равнодушно онъ думалъ о заловленныхъ, какъ сомы въ мережу, офицерахъ. Зачѣмъ они имъ? Доказать, что они умѣлые рыбаки? Или — поглумиться, помучить, замучить до смерти, ихъ страхомъ наслаждаясь?
…— Пей, солдаты революціи! — Сашка Люкинъ разлилъ водку по стаканамъ. Въ одной рукѣ бутылка, въ другой наганъ. Офиціантъ, горбясь хуже старика, на подносѣ притащилъ закуску: красную рыбу на битыхъ, трещиноватыхъ блюдцахъ — семгу, севрюгу, — и какіе-то странные дрожащіе, какъ студень, куски. «Съ плавниками, тоже, видать, рыбица. Ужъ больно жирна».
Андрусевичъ вцѣпился въ кусокъ жирнаго чира и отправилъ его подъ жадные усы. Пока несъ ко рту — кусъ мелко трясся, будто насмерть напуганный.
Люкинъ такъ и пилъ, и ѣлъ — съ наганомъ въ кулакѣ. Стволъ искалъ груди, лица, лбы офицеровъ. Они понимали: побѣги они — Люкинъ не сморгнетъ, выстрѣлитъ. Ляминъ шарилъ глазами по пышнымъ грудямъ, торчащимъ изъ грязныхъ кружевъ, по толстымъ и тонкимъ ногамъ, — то въ чулкахъ и подвязкахъ, то безстыдно-нагія, онѣ высовывались изъ-подъ юбокъ, и длинныхъ, по старинкѣ, и короткихъ, по послѣдней парижской модѣ.
Мерзляковъ опрокидывалъ рюмки, одну за другой. Одинъ усидѣлъ бутылку; и еще заказалъ. Сашка подмигнулъ, кукольно раззявилъ ротъ.
— А рыбка-отъ у нихъ ничо! Пойдетъ!
Мерзляковъ открывалъ новую бутылку. Разсматривалъ этикетку.
— А интересно, другія живыя рыбки у нихъ какъ? Вкусненькія? Ты пробовалъ?
Локтемъ въ бокъ Мерзлякову какъ двинетъ!
И тутъ Мерзляковъ вскинулъ глаза и на Сашку Люкина — глянулъ.
Все замерзло внутри Лямина. Затянулось мгновеннымъ, адскимъ льдомъ.
«Зима вернулась. Зима».
Глаза Мерзлякова очумѣло прожигали въ Сашкѣ двѣ черныхъ дымящихся дырки.
Михаилъ испугался. «Сейчасъ воспламенится. Обуглится!»
Мерзляковъ перевелъ глаза на диванъ. Тамъ цѣловалась парочка. Чмокали и чавкали, будто съѣдали другъ друга.
«Поросята у корыта. Свиньи».
Перевелъ взглядъ на обои. Разсматривалъ рисунокъ.
Ляминъ тоже разсмотрѣлъ. Они близко отъ стѣны сидѣли. Летѣли ангелы, и въ рукахъ у каждаго — труба. Трубящіе ангелы. Въ небѣ, въ кучерявыхъ облакахъ.
«Такія облака у насъ въ жару… въ Жигуляхъ…»
— Умремъ… Умремъ. Умре-о-о-омъ!
Мерзляковъ сначала вышепталъ это. Потомъ голосъ набиралъ силу. Возглашалъ, какъ попъ съ амвона.
— Умре-о-о-о-о-омъ! Всѣ умремъ. Всѣ-е-е-е-е!
— Эй, слышь, другъ, — Ляминъ протянулъ къ Мерзлякову руку. — Что это ты завелся? Запыхтѣлъ, какъ старый самоваръ! Слышь, давай-ка это, кончай…
— Умремъ. Умремъ! Умремъ!
Выбросилъ руку въ сторону стоящихъ молча офицеровъ.
— И они — умрутъ! Умру-у-у-у-утъ!
Скрежеталъ зубами. Еще водки въ стаканъ плеснулъ. Еще — выпилъ.
— И я — ихъ — убью. Убью! Убью-у-у-у-у!
Всталъ. И Люкинъ всталъ.
Мерзляковъ къ двери пошелъ. И даже не шатался. Люкинъ поднялъ наганъ и надсадно взвопилъ:
— Впередъ! Ножками перебирай! Ножками!
Спустились внизъ. Офицерики впереди. Красноармейцы сзади, сычами глядѣли. Губы Мерзлякова тряпично тряслись. Чтобы усмирить губы и зубы, Мерзляковъ вытащилъ изъ кармана чинарикъ, злобно и крѣпко закусилъ желтыми рѣзцами.
— Эхъ, жалко съ бабенками мы не…
Мерзляковъ посмотрѣлъ на Андрусевича такъ, будто тотъ уже срамной болѣзнью захворалъ. Стволъ нагана сталъ искать Андрусевичеву спину.
— Ну ты, ты, шуткую я… понять надо…
…Опять набились въ авто. Плотно, крѣпко, гадко прижимались. Моторъ тарахтѣлъ, мелькали снѣга, черные, осеребренные солью инея стволы, дома — то слѣпые и мрачные, то со зрячими горящими глазницами.
Ѣхали долго. Ляминъ зѣвнулъ, какъ звѣрь — ротъ ладонью не прикрылъ. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ тотъ молодой, что у матери деньги бралъ. Подъ толстымъ шинельнымъ сукномъ Ляминъ чуялъ — послѣднимъ пожаромъ горитъ худощавое собачье тѣло молодого. «Не хочетъ умирать. И все же умретъ. Это смерть. Смерть! Всюду смерть. А я что, дуракъ, только-что это понялъ?»
Моторъ заурчалъ, всталъ. Мерзляковъ крикнулъ визгливо, по-бабьи:
— Вылазь!
Всѣ вылѣзли. Вывалились на снѣгъ, живая грязная картошка изъ желѣзнаго мѣшка.
Офицеры сгрудились. Сбились близко другъ къ другу. Одно существо, шесть рукъ, шесть ногъ.
— Шинельки скидавай, мразь! — такъ же отчаянно, высоко выкрикнулъ Мерзляковъ.
Сашка Люкинъ тихо, утѣшно добавилъ:
— Да не медли, гады. Вѣдь все одно сымемъ.
Офицеры стаскивали шинели. Швыряли на снѣгъ. Дольше всѣхъ возился молодой. Ежился въ гимнастеркѣ. Слишкомъ свѣтлые, волчьи глаза; слишкомъ блѣдныя, въ голубизну, щеки.
«Да онъ уже мертвецъ. Краше въ гробъ кладутъ. Гробъ? Какіе тутъ у нихъ будутъ гробы? Да никакіе. Жахнемъ по нимъ — и все. Поминай какъ звали. Вороны расклюютъ. Зимнія птицы. Собаки, волки по косточкѣ растащатъ».
— Что ковыряешься, мать твою за ногу! Минуту хочешь выкроить лишнюю?!
Мерзляковъ пучилъ глаза, становясь похожимъ на лягушку въ пруду. Глаза молодого совсѣмъ побѣлѣли. Бѣлые, ледяные, ясные, загляни — и на днѣ звѣзды увидишь. Какъ днемъ въ колодцѣ.
— Нѣтъ. Не хочу.
Голосъ у молодого оказался на удивленіе твердъ и крѣпокъ.
Мерзляковъ оглянулся на товарищей.
— Что стоите дубами?! Револьверы вытащить не могете?! Или этихъ… жалко стало?!
Изругался. Люкинъ подхватилъ ругань, какъ пѣсню.
— Въ бога душу! Ядрить твою! — Выхватилъ наганъ изъ кобуры. — Глаза вамъ не завяжемъ! Вы — намъ — не завязывали! Бѣлая кость, холера…
Мерзляковъ наставилъ наганъ на стараго офицера:
— Бери шинели, неси въ моторъ!
Старикъ наклонился. Уцѣпилъ шинели обхватомъ сильныхъ рукъ. Подъ мундиромъ перекатывались камни мышцъ. Ляминъ смотрѣлъ ему въ сутулую спину. Подъ мундиромъ двигались лопатки. Разъ-два, разъ-два, будто у заводной куклы. Четко и ритмично.
Мерзляковъ пошелъ за нимъ. Въ лунномъ свѣтѣ черными рыбами на бѣлизнѣ снѣга плыли слѣды. Теперь въ спину Мерзлякова смотрѣлъ Ляминъ. Они оба, бѣлый и красный, подошли къ авто. Старикъ раскрылъ дверцу и кинулъ внутрь авто шинели. Обернулся къ Мерзлякову. Плюнулъ ему въ лицо. Мерзляковъ крикнулъ невнятно, какъ сквозь кашу во рту. Выстрѣлилъ разъ, другой. Старикъ упалъ съ прострѣленной головой. Вѣтеръ вилъ жидкіе волосенки.
Мерзляковъ вернулся къ офицерамъ. Андрусевичъ хихикалъ и сворачивалъ цигару.
— Хе, хе… Такъ все просто… Р-разъ — и квасъ…
Мерзляковъ опять, какъ давеча въ борделѣ, заблеялъ козой:
— Всѣ умре-о-омъ… Всѣ-е-е-е! Умре-о-о-о-омъ…
— Умремъ… умремъ… — растеряннымъ эхомъ отозвался, изъ-за махорочнаго дыма, Андрусевичъ.
Бѣлякъ, еще живой, глядѣлъ бѣшено, свѣтло.
Щелкнулъ выстрѣлъ. Офицеръ упалъ. Сразу не умеръ. Крючилъ пальцы, царапалъ настъ. Грудная клѣтка раздувалась, ловила послѣдній воздухъ.
«Чортъ, какъ же это тяжко. И это — насъ всѣхъ ждетъ?!»
«Въ любой моментъ, дурень. Въ любой!»
— Все равно… Россія… Рос… — выхрипнулъ офицеръ, и все его тѣло пошло мученической волной, одной послѣдней судорогой. Руки обмякли. Пальцы больше не царапали снѣгъ, подъ ногти не набивался ледъ.
Мерзляковъ повернулъ красную на морозѣ рожу къ молодому.
— Ты! Иди.
Подтолкнулъ его стволомъ нагана межъ лопатокъ. Ляминъ глядѣлъ — и хорошо было видать подъ луной, — какъ мокнетъ, пропитывается предсмертнымъ потомъ свѣтлая застиранная гимнастерка молодого — подъ мышками и подъ лопатками.
«И морозъ нипочемъ. А можетъ, и тамъ весь сырой, между ногъ. Страхъ, онъ…»
Молодой, Мерзляковъ и всѣ они дотопали до мотора. Дверца была открыта.
— Ныряй, дерьмо!
Молодой глядѣлъ бѣлыми глазами выше глазъ Мерзлякова, въ лобъ ему.
Будто лобъ — глазами — прострѣливалъ.
Нагнулся, на сидѣнье усѣлся.
Мерзляковъ дико захохоталъ.
— Да нѣтъ! Не сюда! Оселъ! Много чести! Сюда!
Ногу поднялъ и рѣзко, сильно двинулъ ногой молодому въ бокъ. Молодой охнулъ и сползъ на полъ авто. Держался за спинку сидѣнья. Мерзляковъ въ другой разъ махнулъ ногой и сапогомъ, каблукомъ ладонь молодому расквасилъ. А потомъ ногой — въ лицо ему ударилъ. Глазъ тутъ же заплылъ. Молодой уже подъ сидѣньемъ лежалъ. Мерзляковъ за руль усаживался. Щерился.
— Что стоите?! Валяйте! Садитесь!
Сгорбившись, угнѣздились въ авто. Молодой лежалъ подъ ногами у Мерзлякова. Мерзляковъ время отъ времени билъ его ногой куда придется. По скулѣ. По глазу. По уху. По груди. Билъ и молчалъ. Молчалъ и билъ. Крѣпко вцѣпился въ руль. Моторъ чихалъ и кашлялъ, но ѣхалъ быстро, подпрыгивая на снѣжныхъ слежалыхъ комьяхъ.
Андрусевичъ выбросилъ въ окно окурокъ. Люкинъ брезгливо кривилъ ротъ.
— Што за дрянь куришь! У меня вотъ… доѣдемъ, угощу…
Ляминъ смотрѣлъ, какъ снова поднимается нога Мерзлякова въ кованомъ сапогѣ.
Почему ему такъ хотѣлось завопить: «Хватитъ!» Онъ никогда не былъ сердобольнымъ. И благородный офицеръ — это былъ злѣйшій классовый врагъ. Тогда почему онъ хотѣлъ самъ двинуть сапогомъ Мерзлякову въ острое, согнутое кочергой колѣно?
«Я бабой становлюсь. Мнѣ въ арміи — нельзя».
— Эй, мужики, у кого-нибудь пить есть?
— Выпить — есть. На.
Люкинъ полѣзъ въ карманъ шинели и вытащилъ странную, всю въ узорахъ, флягу.
— Экая вещица.
— Да ты хлебай. Это я изъ борделя утащилъ. Со стола прихватилъ. Очумѣешь, какъ хорошо!
Михаилъ цѣпко сжалъ флягу. Отвинтилъ пробку. Прижалъ къ губамъ. Будто съ флягой взасосъ цѣловался.
— Эй, ты! Будя! Пусти козла въ капусту…
Андрусевичъ съ любопытствомъ глядѣлъ на сапогъ Мерзлякова. Сапогъ уже отсвѣчивалъ влажнымъ, краснымъ. Молодой дышалъ тяжело, и въ груди у него булькало.
Мерзляковъ ударилъ особенно крѣпко и мирно, себя успокаивая, сказалъ:
— Отдохни.
— Што-то ребята говорили, — Андрусевичъ опять нервными пальцами цигарку крутилъ, — Совнаркомъ хотѣлъ семейку перевезти въ другой городъ.
Руки Мерзлякова мяли руль.
Пахло соленымъ.
Сопѣлъ и стоналъ молодой.
«Коверъ, — смутно и страшно подумалъ Ляминъ, — живой коверъ у Мерзлякова подъ ногами».
— И что? Приказъ вышелъ?
— Нѣтъ никакого еще приказа.
— Значится, болтовня.
— Ничо не болтовня.
— А въ какой городъ?
Моторъ подскакивалъ на ухабахъ, медленно объѣзжалъ городскія тумбы съ расклеенными афишами.
— Да въ Москву, думаю такъ.
— Думай, гусь индійскій.
— Такъ вѣдь судилище развернуть хотятъ! Надъ палачами! Штобъ на всю страну — прогремѣлъ судъ! И всѣ про ихъ козни узнали.
— А что, можетъ, оно и правильно.
Опять нога поднялась. Размахнулась. Каблукъ попалъ по ребру. Ляминъ явственно услыхалъ хрустъ.
Молодой простоналъ особо долго, длинно, захрипѣлъ и замолкъ.
— Чортъ, — Мерзляковъ шевельнулъ носкомъ сапога его за подбородокъ, — чортъ! Я его, кажись, утрямкалъ.
— Такъ вывали его къ едренѣ матери!
— Погодь. Еще… отъѣдемъ…
«Гдѣ мы, непонятно. Это не Тобольскъ. Это иной городъ. Иное мѣсто. Дома странные. Страшные. А можетъ, это и не на землѣ уже».
Дома вытягивались, превращались въ тѣла длинныхъ ящерицъ. Изъ подвальныхъ оконъ ползли черныя блестящія змѣи, вставали на хвосты, разѣвали беззубыя пасти. Вереницы черныхъ слѣпыхъ кротовъ медленно текли по снѣгу, огибая стволы лиственницъ. Изъ-подъ фонарей сыпались, вмѣсто свѣта, золотые и мѣдные черви; падая на землю, они оживали и ползли, ползли. И умирали, застывая на снѣгу мѣдными жесткими крюками. Оконныя створки распахивались съ дикимъ грохотомъ, и, перевѣшиваясь черезъ подоконники, наземь валились туши медвѣдей, шкуры волковъ, трупы лисицъ, а между ними летѣли и падали люди и дѣти. Они падали на снѣгъ и растекались по снѣгу широкими, какъ плотъ на Иртышѣ, красными пятнами. Пятна соединялись въ рѣку, и вотъ всѣ они уже стояли по щиколотку, а вскорѣ и по колѣно въ красной теплой рѣкѣ. Изъ потока высовывали морды громадныя рыбы. Рыбьи глаза обращались въ человѣчьи; рыбьи жабры — въ блѣдныя, синія, алыя щеки. Глаза вращались въ орбитахъ и вылѣзали вонъ изъ нихъ. И падали на снѣгъ, и катились по снѣгу живымъ безумнымъ жемчугомъ. Жемчугъ бѣлый, красный, черный. Царскія драгоцѣнности. Страшно много денегъ стоятъ.
Ляминъ и глаза отвести отъ стекла не могъ, и не могъ уже смотрѣть. Чудовища наваливались, авто катилось прямо подъ брюхо каменнаго слона. Слонъ поднялъ ногу, его нога разломилась, раздѣлилась на длинныя деревянныя жерди, и каждая жердь загорѣлась, затлѣла, и быстро, нагло огонь взбирался наверхъ, къ дрожащему слоновьему животу, къ серебрянымъ шашкамъ — лихо загнутымъ бивнямъ. Бивни отломились, языкъ слона вывалился; превратился въ красный флагъ. Обезьяна подбѣжала, вцѣпилась, рѣзко и грубо вырвала языкъ, размахивала красной тряпкой. Множество обезьянъ за ея мохнатой спиной, за краснымъ голымъ задомъ, орали и верещали. Онѣ вопили человѣчьими голосами. И человѣчьими словами. Ляминъ даже слова различалъ. Но, слыша, тутъ же забывалъ, чтобы окончательно не сойти съ ума.
— Все! Стопъ! Тутъ!
Мерзляковъ самъ себѣ скомандовалъ. Моторъ всталъ. Молодой офицеръ подъ сапогами Мерзлякова не шевелился.
— Притворяется. Ты! Давай на снѣжокъ!
Ногой Мерзляковъ выкатилъ молодого изъ авто. Молодой лежалъ бездвижно.
— Выходь! Давай, братишки, въ него каждый по одной пулѣ всадитъ! Болѣ не надоть, а то жалко!
Андрусевичъ стоялъ надъ тѣломъ офицера, качался.
«И когда успѣлъ надраться? Тоже изъ фляжки люкинской? Гляди, ополовинилъ…»
— Мнѣ и одной жалко! — тонко крикнулъ Люкинъ. — Може, такъ его тутъ бросимъ! Да и укатимъ! А?! Все одно околѣетъ!
Мерзляковъ пощелкалъ пальцами, будто танцуя испанскій танецъ.
— Да, морозъ, — согласился.
Ляминъ молчалъ.
«Ерунда какая, эти офицеры. Наскочили на насъ. Бордель этотъ. Дома эти, со змѣями. Зато у насъ теперь моторъ и шинельки новехонькія. Теплыя. На мѣху. А слонъ? Гдѣ слонъ?»
Михаилъ озирался въ поискахъ слона. Молодой на снѣгу пошевелился. Ему горло разодралъ тягучій стонъ, больше похожій на сдавленный вопль.
— Я-а-а-а!.. не хочу… Не! Хочу!
«Умирать», — догадался Ляминъ.
«Такъ изъ насъ никто не хочетъ. Никто! А вѣдь вотъ умираемъ! Ни за понюхъ табаку!»
Далекіе дома придвигались, наплывали. Земля подъ ногами плыла, вертѣлась. Снѣгъ раскатывался прогорклымъ тѣстомъ. Вязъ на зубахъ. На нихъ всѣхъ вмѣсто одежды были рваныя красныя знамена. Знаменами обкручены они были, съ ногъ до головы.
— Гдѣ я?!
«Это не мой крикъ. Это кто-то другой кричитъ».
Мерзляковъ подло усмѣхнулся, послюнилъ пальцы, будто хотѣлъ самокрутку свернуть.
— А-ха-ха, — выцѣдилъ, — живехонекъ. Ну тогда вставай! Офицеръ долженъ и смертушку — стоя принимать! Тебя вѣдь такъ учили?! Да?!
Молодой лежалъ на животѣ. Мерзляковъ ногой перевернулъ его на спину. Бѣлые глаза молодого глядѣли въ ночной звѣздный зенитъ.
— Хо… лодно…
— Встать!
— Не хо…
— Ты еще пощады попроси! Трусъ!
У молодого все тѣло подъ гимнастеркой мелко задрожало.
— Я… трусъ?..
Всталъ. Сначала на четвереньки. Поднатужился. Приподнялъ задъ. Мерзляковъ беззвучно хохоталъ, наблюдая, какъ молодой силится подняться со снѣга.
— Давай-давай! Сначала задокъ! Гляди не обдѣлайся! Потомъ башку вздерни! Собака! Залай еще! Затявкай! Сучонокъ вонючій!
Молодого корежило, но онъ всталъ. Ногами вцѣпился въ землю, какъ ракъ клешнями — въ добычу. Широко разставилъ ноги.
Шатался. Руками морозный жесткій воздухъ цапалъ.
«Какъ морякъ на палубѣ».
Мерзляковъ обвелъ глазами солдатъ.
— Ну такъ что же вы, такъ вашу этакъ?! Всѣмъ патроновъ жаль?! Бейте ногами!
И самъ опять сапогъ занесъ, чтобы обрушить всю тяжесть тѣла: на черепъ, на печень, куда угодно.
Ляминъ выхватилъ наганъ и быстро, какъ на охотѣ, выстрѣлилъ. Почти навскидку. Гимнастерка молодого быстро пропитывалась краснымъ. Красная кожа, красные сапоги, красныя ладони. Красная звѣзда. Звѣзда — это ладонь. Растопыренные пальцы.
— Мѣтко! — Мерзляковъ ржалъ конемъ. — Такъ я и зналъ! Мишка въ грязь лицомъ — ни-ни! Молодчага!
Со всего размаху ударилъ Лямина кулакомъ по плечу: такъ хвалилъ.
И Ляминъ, самъ не зная, какъ это вышло у него, направилъ наганъ — на Мерзлякова.
Глядѣлъ въ его круглые желѣзные, безъ рѣсницъ, глаза.
— Но, ты… Ты-ты… Эй, эй! Опусти. Опусти оружіе, твою мать!
Молодой лежалъ смирно, грудь прострѣлена, бѣлые глаза заволокло соленой плевой, — умеръ.
— Ты! Мишка! Кончай баловать!
«Я пьянъ. И я не на землѣ. Не на землѣ. Я тамъ, гдѣ люди убиваютъ людей. Отсюда на землю хода нѣтъ».
Ляминъ шагнулъ къ Мерзлякову и уперъ стволъ нагана ему въ кожаную скрипучую грудь. Будто проколоть его наганомъ хотѣлъ, какъ ножомъ.
— Я не балую. Я не конь.
Лицо Лямина начало мелко подрагивать. Пошло вспышками. Изрѣзалось мгновенными морщинами. Зубы били чечетку. Глаза плясали. Красный языкъ мотался межъ зубами, вываливался наружу.
— А вотъ ты не человѣкъ. Слышишь. Ты не человѣкъ. Не знаю, какъ тебя зовутъ.
Закричалъ надсадно:
— Чудище! Ты! Да зубовъ нѣтъ! Зубы — повыпали!
Уже за руки его хватали Андрусевичъ и Люкинъ.
— Ты, братъ, этово… промерзъ, што ли, и занемогъ… Бредишь…
— Держи его крѣпче, револьверъ у него отыми… половчѣй…
Люкинъ просунулъ руку подъ локоть Михаилу и вырвалъ у него изъ кулака наганъ. Неловко нажалъ на гашетку, и на морозѣ выстрѣлъ не грохнулъ, а странно, жестко и сухо клацнулъ, пуля ушла вверхъ и вбокъ. Ляминъ пытался вырваться. Бойцы держали крѣпко. Дышали табакомъ.
— Ты меня зачѣмъ пугаешь? — близко придвинувъ плоское жестяное лицо къ лицу Михаила, прошипѣлъ Мерзляковъ. — Я тебѣ такъ плохъ сталъ? А можетъ, ты и царьковъ освободить желаешь? Первый къ стѣнкѣ встанешь. Что къ стѣнкѣ! Я тебя — на пустырѣ изрѣшечу! Да хоть здѣсь! На этомъ взгоркѣ!
Ляминъ, ловя ртомъ синій густой морозъ, покосился. Почва шевелилась, какъ ожившій мертвецъ, съѣзжала. Внизу, далеко подъ ними, мерцалъ Тоболъ, ледъ прочерчивали стрѣлы санныхъ слѣдовъ. Еще дальше, въ сизой дымкѣ, разстилался закованный въ доспѣхи льда Иртышъ, и совсѣмъ уже на краю земли ледъ и снѣгъ сливались съ небомъ; и снѣгъ свѣтился черносинимъ трауромъ, а небо вспыхивало алмазной колкой радостью.
Ляминъ дышалъ громко, запаленно.
— Ты… слышь… Мерзлякъ… прости… я самъ не свой…
— Недопилъ! — заржалъ Люкинъ и подмигнулъ.
— Эй, ребята, а кто слыхалъ такого товарища — Троцкій ему фамиліе?
— И гдѣ онъ? Въ Москвѣ?
— Въ Москвѣ, гдѣ жъ еще.
— Всѣ изъ Москвы! Всѣ — въ Москву! А мы тутъ, на Тоболѣ, отрѣзанный ломоть! У чорта на рогахъ! Съ энтими дурнями, царями, валандаемся! Скорѣй бы ужъ…
— Что — скорѣй?
— Да ничо…
— Столкнуть гада подъ крутояръ?
— Это можно.
— По веснѣ оттаетъ — раки выползутъ, съѣдятъ!
— Нѣтъ, а хто жъ такой все же Троцкай?
— А ты думаешь, кто онъ такой?
— Ничо я не думаю.
— Нѣтъ, думаешь!
— Балакаютъ, онъ поважнѣе Ленина будетъ.
— Ха! Важнѣе Ленина нѣтъ никого! Ленинъ — нашъ царь!
— Типунъ тебѣ. Еще разъ это слово выдавишь… Какой Ленинъ царь! Ленинъ — красный! Онъ — нашъ!
— Нашъ, нашъ.
— А Троцкай — тоже нашъ?
— Отзынь со своимъ Троцкимъ!
— Ухъ, эхъ, ухнемъ, еще разикъ, еще разъ…
Пыхтя, перебраниваясь, бойцы подкатили ногами трупъ молодого къ обрыву, пнули дружно, сильно, и скинули внизъ. Глядѣли, какъ убитый катился, налѣпляя на себя снѣгъ, обматываясь бѣлыми липкими бинтами. Ляминъ глядѣлъ и видѣлъ: не убитый офицеръ катится, а мерзлая гигантская рыба; вотъ рыба докатилась донизу, къ подножью снѣжнаго увала, бронзовое ея брюхо лопнуло, а можетъ, его разрѣзалъ острый стальной вѣтеръ, и изъ рыбьяго рванаго живота на снѣгъ покатились маленькія, мелкія рыбки, рыбьи дѣтки. Мелкіе, какъ монетки: гривенники, алтыны, пятаки, копейки, полтинники. Деньги, деньги, ими же за все плачено. За кровь и слезы. За потъ и ужасъ. И за царство-государство — тоже.
«А кто кому — за нашу революцію — заплатилъ? И — сколько?»
Стояли на юру. Глядѣли не на трупъ внизу — на двѣ рѣки, что сливались въ морозномъ туманѣ и дальше воедино текли.
— Двигаемъ въ моторъ, товарищи.
— Ой, а я ногу отморозилъ! — закричалъ Сашка Люкинъ.
И запрыгалъ на одной ногѣ.
— Слышь, кончай придуряться. Мы тя въ клоуны отдадимъ! Въ самую Москву! Въ циркъ! Вотъ ужъ тамъ на всякихъ Троцкихъ полюбуешься!
Ляминъ шелъ за Мерзляковымъ, слѣдъ въ слѣдъ. Снѣгу густо намело. Какъ звѣздъ въ зенитѣ; не продохнешь. Метель звѣздная, и глотку забиваетъ. И глаза слѣпитъ. Скорѣй бы въ авто. Тамъ тепло, нагрѣто.
Колѣни у Лямина подгибались. Онъ чувствовалъ, его ведутъ подъ руку. Какъ бабу на сносяхъ. Чувствовалъ свое безсиліе; но почему-то это ему было пріятно. Какъ ребенку, больному, въ жару, удовольствіе, если ему въ постель несутъ блинчикъ, чаекъ горячій, а то и пѣтушка леденцоваго, полакомиться.
Моторъ урчалъ. Ляминъ дремалъ. Мерзляковъ велъ авто уже спокойно, руль не выворачивалъ. Змѣи расползлись, кроты нырнули подъ землю. Рыбьи дѣти, мелкія деньги, разсовались по карманамъ. Завтра можно купить выпить-закусить. Цари вонъ раньше пили и закусывали, и — ничего. Хорошо жили цари, вольготно. За это и платятъ теперь. Каждый всѣмъ — всегда — за все — платитъ. А Троцкій? Что Троцкій? Никто про него ничего не знаетъ. Говорятъ, онъ еврей. Да какая разница. Нѣтъ евреевъ, нѣтъ русскихъ, нѣтъ татаръ и вотяковъ. Есть народъ. Вотъ Мерзляковъ — народъ. Люкинъ — народъ. Андрусевичъ — народъ. И онъ, Ляминъ, тоже народъ. А Ленинъ, онъ кто? Народъ или нѣтъ? Ленинъ, это надо скумекать. Ленинъ, да онъ же самый что ни на есть народъ. Какъ же не народъ, когда онъ — за народъ! Вотъ народъ при немъ и сталъ народомъ, и сошвырнулъ съ холки своей господъ. Теперь мы, народъ, всѣмъ распорядимся. Всѣмъ и всѣми. И пусть только попробуютъ намъ, народу, палки въ колеса вставить. Мы и палки изломаемъ, и колеса погнемъ. И подъ тѣ колеса тѣхъ, кто не народъ, положимъ. И проѣдемся по нимъ. Раздавимъ. Перерѣжемъ. Переѣдемъ. На-двое разсѣчемъ. И они, враги, предатели, гады, господа, станутъ нашимъ мясомъ. Нашимъ тѣстомъ. Нашимъ хлѣбомъ. Нашимъ углемъ. Нашимъ масломъ. Нашей нефтью. Нашей грязной дорогой. Нашей землей. Лягутъ намъ подъ телѣги, подъ моторы, подъ ноги. Подъ сапоги. Подъ босыя пятки.